Книга: Очаровательная блудница
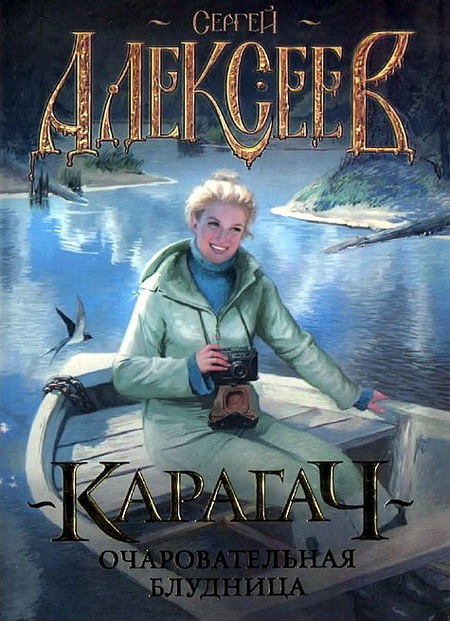
Ледоход на Карагаче обычно начинался поздно, в конце апреля, и все из-за частых заломов,[1] в межень[2] перегораживающих реку высокими плотинами. Поэтому речные участки измерялись и часто назывались по большим заломам — Широкий, Кривой, Гиблый, а между ними еще мелких несколько. Берега были в основном песчаными либо из лёссовидных суглинков; каждую весну в реку валилось десятки тысяч деревьев, с корнями и кронами, и все набивалось в узком месте, превращалось в плотину высотой с трехэтажный дом. Половодьем же дикий этот вал леса поднимало, подпирало льдом, иногда намертво запруживая русло, и тогда разлив на некоторое время выплескивался из берегов, подтапливая даже чернолесье[3] и высокую боровую пойму. Залом при этом трещал, сосны, ели и кедры в два обхвата ломались, как спички. Иногда напор льда и воды создавался такой, что поток устремлялся через пойму к высокому материковому берегу и за одну весну промывал новое русло. Эти места назывались прорвами, и потому по Карагачу часто встречались названия мест и урочищ — Красная Прорва, Зажирная Прорва, Гнилая Прорва…
Но иногда происходило зрелище, потрясающее воображение. Сотнями лет свергаемые в реку огромные деревья, выморенные, накрепко сбитые и перевитые, словно фашина, превращенные в пластичный деревянный хлам, перегораживающий реку, не выдерживал и рушился в одночасье. Могучая, нашпигованная древесиной и льдом волна неслась по реке, сметая березовые леса, малые заломы и заваливая чистые пойменные луговины топляком, карчами,[4] перетертыми сучьями и прочим мусором. Осенью можно было ходить босиком по траве-отаве, любоваться пейзажами со стожками, выплывающими из утреннего тумана, удить рыбу в многочисленных озерах, а весной, когда схлынет половодье, — попросту не узнать места и ноги себе сломать, карабкаясь по нагромождениям преющего, стремительно разлагающегося на воздухе дерева. Лес большей частью укладывался в пойменные старицы[5] и озера, и сколько же там разводилось рыбьих хищников — окуней и щучья!
Такие захламленные поймы здесь назывались тюпами или сорами.[6] Через три-четыре года они становились вовсе непроходимыми, ибо много раз перемытый суглинок удобрялся гнилой древесиной, становился особенно плодородным, быстро и густо зарастал — в основном красноталом, крушиной, волчьей ягодой и, как ни странно, хмелем, который сплетал кустарники снизу и доверху. Получались самые настоящие джунгли, с таким плотным лиственным покровом, что у земли было темно даже в солнечные дни, под ногами не росла трава, чавкала грязь от непросыхающих осадков, а от обилия гнуса нечем было дышать. Только загнанный лось мог уйти в сору, в иное время крупные звери обходили их стороной, хотя там было полно заманчивого корма. И если ушел, то уже с концами. Зато здесь в обилии селились грызуны и мелкий пушной зверек, особенно известный карагачский горностай, в котором некогда щеголяло пол-Европы монархов.
Это не просто Сибирь, это Южная Сибирь…
В одной из таких сор на Карагаче, еще в семидесятых, заблудился и погиб начальник отряда Репнин, после чего ее стали так и называть — Репнинская Сора. А залез в эту ловушку из страсти: пошел искать старицу, бывшую здесь прежде и легко доступную, намеревался щук половить на спиннинг. В Карагаче водилась ценнейшая рыба — нельма, которой в основном и питалось местное, и не только, население. Щука за рыбу не считалась, и ею обычно кормили собак, поросят и клеточных норок, которых разводили в коопзверопромхозе. Но среди геологов ловля этой рыбы была спортом, проводились чемпионаты, рисовались таблицы, делались серьезные ставки, совместимые с зарплатой за полевой сезон, и чемпионы торжественно награждались переходящей блесной Овчинникова, первого начальника Карагачской партии. Это была самоделка весом около полукилограмма, из самоварной меди, с шестью самоковными якорями, с вертлюгом из нержавейки, и все это позолочено кустарным, но качественным образом, да еще проба поставлена — пока в руки не возьмешь, кажется золотая. Рыбу на нее не ловили, да и не было здесь такой, чтоб смогла заглотить эту снасть; сам Овчинников когда-то работал на Нижней Тунгуске и сделал ее, чтоб добывать стокилограммовых и более тайменей. Репнин уже владел золотой блесной, но осенью, перед ледоставом, утратил чемпионский титул, всю зиму страдал от этого и, едва схлынул паводок и Карагач вошел в русло, отправился на заветную щучью курью. Не быть, не жить ему было — вернуть блесну…
Искали его целый месяц, прорубаясь сквозь завалы и чащи, тараня их гусеницами вездеходов. Кое-как нашли старицу, сплошь забитую гниющими корягами, но оказалось, отыскать тут человека — что найти пресловутую иголку в стогу сена. Погрызенные мелким зверьком кости обнаружили только глубокой осенью, когда опала листва, да и то случайно и с вертолета, — черные вороны указали…
Несмотря ни на что, Рассохину то время казалось самым счастливым, удачливым и одновременно роковым и зловещим, как сам Карагач. И все равно его тянуло на эту реку, как убийц тянет к месту преступления, и это были не только ностальгические чувства. После смерти жены он так часто и много думал о тех трех годах жизни и так много вспомнил деталей, что начал видеть во сне безымянную тогда речку, впадающую в Карагач. Снился всего один эпизод из того прекрасного и грозного далека: бульдозера делают вскрышу россыпи, а они с отроковицей Женей Семеновой загорают на отвале.
Во время вскрыши пробного участка месторождения из-под бульдозерной лопаты выкатилась бочка, когда-то засмоленная, но от времени и сырости погнившая. Когда ее вскрыли, там оказались старинные книги, меднолитые складни, кресты — в общем, музейные вещи, кем-то закопанный клад. Причем Женя сказала тогда, что этот клад мистический, а все мистическое непременно отразится на всей жизни, во что Рассохин не очень-то и поверил.
Но спустя тридцать лет, когда блудная отроковица впервые ему приснилась, Станислав Иванович растолковал это сначала как некий роковой знак, присланный из прошлого. И в то же время испытал острейший приступ тоски по былому, который случается у одиноких мужчин в зрелом, хоть и без седины в бороде, возрасте.
Два года назад у него умерла жена, а перед тем долго болела — беззаботный романтический период, маршрутное прошлое обернулись раздутыми варикозными венами, закупоркой сосудов в ногах, изношенными, воспаленными от ночевки на сырой земле, под дождем и снегом суставами. По этой же причине и детей у них не было. Несмотря на привязанность друг к другу и четверть века совместной жизни, после ее смерти Рассохин сначала ощутил облегчение, ибо каждый день взирать на мучения жены становилось невыносимо.
Одиночество и страх перед грядущим он испытал позже, и если от прежних семейных горестей можно было отвлечься наукой или охотой, то от этого чувства ничто не спасало. Он пробовал бегать трусцой, записался в бассейн и даже качался в тренажерном зале, однако все равно приходилось возвращаться домой, где было пусто и тихо до звона в ушах. На родине в Тверской области у него был давний, еще школьный приятель, который работал охотоведом и принимал Рассохина как родственника, но болтаться с ружьем по лесам оказалось вообще невыносимо, поскольку на природе думалось и вспоминалось еще больше. А потом эти леса после Карагача и Якутии казались недоразумением — идешь вроде бы по еловой глухомани, а слева где-то петухи поют, справа коровы мычат или пацан на велосипеде вдруг выскочит — в школу поехал…
Примерно месяц ему хватило попутаться во Всемирной паутине, недели две ушло на пьянку в одиночку и десять дней зимних каникул — на зарубежное путешествие.
А потом опять четыре стены, закладывающая уши тишина и скрипучий старый паркет под ногами. И вдобавок ко всему — жгущая душу болезненная память, которую некому теперь было утешить. Все окружающие считали, что он так глубоко и трагично переживает смерть жены, сочувствовали, старались отвлечь, развлечь, но он уходил в круговую оборону и сильнее замыкался в себе, чувствуя, что это ни к чему доброму не приведет. Однажды Стас как-то очень спокойно подумал не о самоубийстве, а о том, как лучше это сделать, и остановился на охотничьем ружье. Наутро он вспомнил ночные размышления и от греха подальше выбросил ключи от железного шкафа с оружием в Москву-реку, дабы исключить этот маршрут в минуты слабости и заставить себя жить.
Бурнашев советовал ему проверенное шоковое средство — жениться. Сам он это делал несколько раз, всю жизнь платил алименты и твердил, что моногамия ведет к вырождению, что человек относится к существам всеядным, а они парами живут по принуждению обычая или закона, и что на свете больше несчастных женщин, чем счастливых мужчин. Рассохин жениться не отказывался, и молодых одиноких женщин в окружении было достаточно, по крайней мере на факультете, однако как только он начинал смотреть на них как на потенциальных невест, а они на него как на жениха, желание в тот час же пропадало. Слишком уж все было по расчету, а он, воспитанный своим романтическим временем семидесятых, на которые пришлась юность, ждал чего-то эдакого, чтоб увидел — и сердце екнуло.
Бурнашев понимать его отказывался.
— Ты, конечно, Стас, здорово сохранился, — выговаривал он, — но должен помнить: тебе за полтинник перевалило, Ромео хренов! И шансы твои тают с каждым годом, потому что не олигарх. И это несмотря на свой козырный вид. Пока ты ковыряешься, успел бы детей нарожать!
Женю Семенову он никогда не забывал, но память эта была болезненной, запретной, неприкасаемой, как могила с сибирской язвой, раскопав которую, можно было заразиться спустя и сто лет. Образ шальной блудницы заметно стерся, покрылся пылью времени, и вовсе исчез из памяти этот эпизод с кержацким кладом. Сон подтолкнул к воспоминанию подробностей, и тогда всплыла эта бочка книг, причем так неожиданно и ярко, что он ощутил запоздалое прикосновение к мистическому.
Несколько дней Рассохин ходил очарованным и растерянным одновременно, чего еще никогда не испытывал, и как раз в таком состоянии к нему и пришла мысль съездить в Сибирь. Но даже самому себе он не хотел называть истинной причины, зачем, хотя она, эта тайная, гнетущая причина и была сейчас двигателем его жизни. Стас рассчитывал добраться до Усть-Карагача, нанять там моторку и по большой весенней воде подняться до Сухого Залома, где, по его сведениям, оставались еще две семьи промысловых охотников. Он намеревался до листвы, до летнего буйства зелени, сравнимой разве что с половодьем, с высокого уровня воды хотя бы на глазок отыскать памятные места и, если будет возможность, сходить на сосновые гривы между ленточных болот и поискать там потаенное жилище Христофора, кержака из толка погорельцев. Когда река войдет в русло, дальше зарослей по пойменным берегам ничего не увидишь, вряд ли места узнаешь, поскольку на этой реке обстановка меняется очень быстро, а продираться почти наугад сквозь соры, даже с помощью навигатора, занятие опасное, бестолковое и бессмысленное. Сибирские старообрядцы никогда возле самой реки не селились, а выбирали высокие места подальше от берега, на террасах либо вовсе на сосновых гривах и в кедровых урманах среди болот.
Кроме этого, ему хотелось посмотреть на половодье Карагача, вспомнить ту, еще не замутненную молодость, когда он с геолого-поисковым отрядом три весны подряд поднимался вверх на водометном катере, объезжая заломы по затопленной пойме, а потом все лето спускался вниз на пластмассовых обласах.
Кажется, у Рассохина начинался некий новый период возвращения к прошлому, и однажды, перебирая старые материалы еще к кандидатской диссертации, он наткнулся на вырезку из газеты, наверняка сделанную им самим, но когда и зачем, напрочь вылетело из памяти: в короткой заметке сообщалось, что пилоты вертолета лесоохраны, пролетая над долиной Карагача, заметили странный предмет, торчащий из берегового обрыва. Сначала подумали — гроб, потом рассмотрели, что он имеет круглое сечение, и приземлились. Оказалось, что это колода — долбленая домовина, в которых староверы хоронили усопших. Разочарованные летчики открывать ее не стали, но поскольку домовина вот-вот должна была сорваться в реку, решили по-человечески перезахоронить останки. Подняли их на берег, отнесли подальше в лес и принялись было копать могилу, но тут командиру экипажа показалось, что прах кержака, схороненного, поди, лет пятьдесят назад, слишком тяжел и вся домовина зачем-то была осмолена, как лодка, и крышка на смолу же посажена и деревянными гвоздями прибита. Взял он топорик и сковырнул ее, а там вместо костей оказались совершенно целые и сухие старинные книги, десятка три меднолитых икон, ладанок, подсвечников и три золотые лампадки в виде птиц.
Пилоты погрузили находку в вертолет, доставили в город и сдали в областной музей — это обстоятельство указывало на еще советские нравы и воспитание. Вертолетчиков поблагодарили и объяснили, что даже при беглом осмотре клад представляет большую ценность, ибо среди четырех десятков книг оказался пергаментный свиток длиною около двух метров с текстом на древнегреческом языке, несколько рукописных книг шестнадцатого и семнадцатого веков, две редких, Федоровской печати, и берестяные дневники старообрядцев, которые они вели в начале двадцатого века.
А дальше вообще началась мистика: в этот же день вечером Рассохину позвонила женщина из Питера и назвалась дочерью Евгении Семеновой, Елизаветой. В первый миг он даже не сообразил, кто такая Евгения Семенова, поскольку помнил отроковицу и мысленно называл до сих пор Женей, и когда сообразил, то еще некоторое время вспоминал, была ли у нее дочь.
— Это правда, вы последний, кто видел мою маму? — спросила она. — Когда работали на реке Карагач? Она была там на преддипломной практике.
— Получается, я последний, — признался Рассохин, шалея от понимания того, кто это звонит. — Неужели вы дочь Жени Семеновой?
— Да, я дочь…
— Та самая Лиза, что отняла веточку у ежихи?
— Та самая… Это мама рассказала про ветку?
— Все одно к одному! Невероятно…
— Это вы о чем?
— Мысли вслух…
— Хотела бы с вами поговорить, — голосом, не терпящим противления, заявила Елизавета. — Если удобно, я приеду на выходные.
Он согласился только потому, что не знал еще, как ко всему этому относиться, и положился на волю обстоятельств. Тем паче был еще только вторник, и оставалось время все обдумать и сопоставить. Первое, что приходило в голову, — опять же мистические сочетания возрастов: Елизавете наверняка сейчас тридцать пять, и ровно столько же было Жене, когда они загорали на отвале вскрыши пробного участка…
И только положив трубку, он ощутил толчок в грудь, как от ударной волны, и сразу же зазвенело в ушах. Звонок Елизаветы всколыхнул в сознании то, что он все последние тридцать лет жизни стремился забыть и уже почти забыл, по крайней мере редко и мимолетно касался запретного плода своей памяти. Перед глазами явственно встала картина, совершенно не поблекшая за эти годы, и даже наоборот, будто высветленная временем: он больной, почти безумный, с винтовкой в руках, а напротив — полуобнаженная блудная отроковица. Потом выстрел в упор, Женю откидывает к валежине, и она, уже мертвая, все еще улыбается, потому что мгновение назад над ним смеялась.
В тот миг ему было совсем не жаль ее, и кроме чувства мести он не ощущал никаких иных, и лишь несколько позже пришел страх и раскаяние.
Картина эта осталась в сознании настолько детальной и яркой, что Стас искренне верил в ее реальность. И только благодаря нескольким сеансам гипноза, но более жене, дару ее убеждения и увещевания этот бредовый случай постепенно облекся в пленку и стал жить в нем, как невынутый осколок у фронтовика.
Сон о Жене Семеновой и звонок ее дочери соединились, словно две ядерные массы, и началось горение, мгновенно спалившее защитную пленку. Рассохин трезво и даже с удовлетворением понял, что наконец-то настал час ответственности за прошлое.
Хотя бы перед дочерью блудной отроковицы…
Рассохин уже не тряс головой, избавляясь от наваждения, не отплевывался, не убеждал себя словами покойной жены, что все это привиделось ему в бреду, что тело практикантки искали, но не нашли признаков и фактов, указывающих на убийство. Пуля прошла навылет и должна была застрять в валежине, так ее топорами распустили на щепки, но даже следа от нее не осталось. Мох и грунт возле валежины сняли, провели экспертизу — все обнаружили: птичий помет, дохлых муравьев, споры грибов, только кровь на этом месте никогда не проливалась…
Стаса уже переполняли чувства, с которыми оставаться один на один становилось опасно. А поделиться можно было лишь с Кириллом Бурнашевым, который хоть и не был на Карагаче и занимался нефтяной геологией, точнее, геофизическими исследованиями скважин, был далек от всяческой мистики и прочей дури, но зато все схватывал на лету, давал хорошие советы и делал неожиданные выводы. Они были абсолютно разными людьми, хотя дружили всю жизнь, начиная с абитуры, учились на разных факультетах, однако пять лет жили в одной комнате общаги. После института разъехались, не виделись четверть века, изредка переписывались, но когда Рассохин вернулся из Якутии в Москву и пришел в свой институт, Бурнашев был уже там, преподавал то, чем занимался всю жизнь. Сразу же доложил, что защитил докторскую и теперь трудится без особого напряжения, в свое удовольствие, поскольку остепененных практиков в учебных заведениях хоть и жаловали, но выше преподавательской должности не пускали. Похвастался, что недавно женился в четвертый раз, и жену зовут Сашенька (это чтобы не перепутал, предыдущая была София), сейчас они ждут дочку, а все другие дети уже выросли, старший сын, еще от аспирантурного брака, закончил его родной факультет, остальные учатся кто где.
В общем, жизнь у Кирилла продолжала искриться и сверкать, хотя он облысел, поседел, и от того, что был весел по натуре и часто смеялся, покрылся столь глубокими морщинами, что казалось, теперь все время улыбается. Этим своим видом он все время вводил в смущение и заблуждение студентов, особенно первокурсниц на экзаменах. Видимо, за это он и получил прозвище Сатир, о котором знал и которым даже гордился. Однако, как все бабники, страдал, что теряет прежний лоск, прикрывал длинной прядью зияющую красным плешину и красил остатки волос. А у Рассохина после тяжелой болезни и операции что-то случилось с организмом, и он после тридцати вообще перестал стареть, поэтому всю жизнь оставался Стасом — отчество не приклеивалось с возрастом, — носил прежнюю, еще студенческую, рыжеватую бороду, никак за собой не ухаживал, чем вызывал лютую зависть у Бурнашева, вечно пахнущего дезодорантами и туалетной водой.
От старшего брата осталась большая трехкомнатная квартира на Таганке, куда они с женой и переехали из Якутии. Всю жизнь работали, где платили длинный рубль, однако вернулись без гроша в кармане, поэтому Рассохин работу начал искать с родного института, где Кирилл уже пустил глубокие корни, освоился, получил прозвище и даже женился на своей студентке. Он похлопотал за Стаса, чтоб взяли на преподавательскую должность, за его жену, чтоб положили в нормальную клинику и с его реальным появлением жизнь в столице как-то наладилась.
Пока Стас шел к Бурнашеву, был уверен, сможет рассказать о смерти Жени Семеновой, однако раскрыл рот и вдруг ощутил некий спазм в горле, своеобразный предохранительный клапан, не позволяющий выносить сор из собственной головы. А позыв к исповеди не проходил, и потому, опуская подробности, Рассохин поведал Кириллу про то, как они с Женей загорали на отвале, про книги, затаренные в бочку, про колоду, найденную вертолетчиками. В общем-то получилось, не сказал ничего с чем шел. Сатир же понял это по-своему, мечтательно закатил глаза и тоже вспомнил случай, как купался с практиканткой в теплом озере на Сахалине. Потом спохватился и, как человек практичный, оригинально мыслящий, сделал вывод неожиданный, де-мол, если сейчас, спустя тридцать лет, старообрядческие клады не изъять из земли, то еще через тридцать изымать будет нечего, все сгниет. А старинные книги — вещи бесценные, редкостные…
И тем самым подтолкнул Рассохина к мысли, оправдывающей поездку на Карагач. Он тут же переориентировался и предложил, дескать, неплохо бы будущим летом прокатиться в Сибирь, отдохнуть, вспомнить молодость и поискать книжные захоронения, совместить приятное с полезным. Бурнашев слушал его с видом непроницаемо-улыбчивым, сидя за своим рабочим столом в лаборатории, где вперемешку с бумагами высились завалы радиодеталей, проводов, паяльников, кусачек, отверток и прочего инструмента, покрытого пылью. С рождением дочки он сильно изменился, стал замкнут, после работы сразу бежал домой, ходил чем-то озабоченный, а самое главное — перестал паять и заигрывать со студентками.
— А как они в землю попали, книги-то? — спросил он то, о чем Рассохин даже не задумывался. — Кто закопал?
— Кержаки, наверное. Там исконно раскольничий край…
— Зачем?
— Кто их знает?.. Должно быть, прятали.
— Надо выяснить, почему прятали, — заявил Бурнашев. — То есть это единичные случаи или система. Если система, тогда можно искать. Займись, узнай все, а я аппарат сделаю.
— Какой аппарат?..
— Попробую скрестить ужа и ежа. А как ты иначе собрался искать? Есть одна мысль, давно хотел воплотить в железо, да стимула не было… Но за это ты возьмешь меня с собой на Карагач.
— У тебя молодая жена и маленькая дочка, — напомнил Рассохин.
Сатир отчего-то набычился, и Рассохин вдруг подумал — сейчас скажет, что опять разводится. Суть их многолетней переписки состояла в том, что Бурнашев сообщал ему о своих свадьбах и слал приглашение, потом с восторгом рассказывал о детях и, наконец, о разводах, их философских обоснованиях и причинах.
— Я, кажется попал, Стас, — на сей раз сказал Кирилл. — Мы с Сашенькой в храме повенчались… И теперь просто беда.
— Развенчаешься, не впервой, — не без иронии сказал тот.
— Боже упаси!.. Сашенька женщина потрясающая! Она жена мне до последнего часа…
Так он про всех жен говорил.
— В чем же беда?
— После венчания Сашенька религией увлеклась, а до этого и в церкви-то не бывала… И надо же, каждый день теперь ходит, дома все с молитвами, без креста есть не сядешь, спать не ляжешь… Точно как у кержаков! Посты всякие, запреты, шаг влево, шаг вправо… И меня еще с собой тащит! Святого делает… Курить нельзя, выпить — по праздникам, ругаться и вовсе, даже если молотком по пальцу… В общем, тоска смертная, Стас. Хотя я догадываюсь, зачем она это делает.
— Зачем?
— Опутать хочет, в кокон заплести, чтоб сидел и не дергался. Она же знает про всех моих жен, детей. Что я от них, как колобок… Религия — это самый действенный способ, могучий рычаг, чтоб придавить человека, смирить волю… У Сашеньки ручка слабенькая на вид, нежная, целуешь — так подрагивает. Она все время взволнованная, понимаешь? Таких не любить невозможно!.. И вот этой ручкой она меня за горло…
Прядь с лысины свалилась и висела возле уха, как казацкий чуб, — Рассохин впервые видел приятеля несчастным и растерянным.
— Сорваться хочешь от нее на лето? — прямо спросил он.
— Хотя бы месяца полтора воли! — простонал тот. — Нельзя же так сразу приручать зверя!
— Отпустит?
— С тобой отпустит! — уверенно сказал Бурнашев. — Сашенька считает, ты вообще праведник, то есть ведешь праведную жизнь. Поэтому и выглядишь на тридцатник. А я волосы на чужих подушках оставил…
— Знала бы она, какой я праведник, — проворчал Стас.
— Скромник ты наш!.. За больной женой ухаживал, умерла, так не пустился во все смертные. Воздержание, умеренность, ну и все прочее. А потом, бескорыстно спасать церковные книги, иконы — это же духовный подвиг! Сашеньке нечем будет возразить!.. Даже если их там нету, все равно поедем! Кобеля надо обязательно спускать с цепи, иначе хозяйку покусает.
Таким образом Бурнашев вдохновил Рассохина на экспедицию, но едва они начали считать, во сколько обойдется поездка в Сибирь двух-трех человек со всеми транспортными расходами, арендой лодок и закупкой дорогостоящих японских радиоблоков, плат, матриц, видеокарт и прочих деталей для аппарата, то пыл сразу же потерял высокий градус. На все про все требовалось более миллиона, а потом еще раз пересчитали, и сумма увеличилась почти вдвое — столько из кармана не достанешь и взять особенно не у кого. Правда, Бурнашев одного богатенького приятеля вспомнил — отставного милицейского полковника Галицына, но сразу сказал, что тот вечно прибедняется, взаймы не дает и если даст какую-то часть, то непременно попросится в экспедицию, поскольку давно мечтает посмотреть настоящую дикую Сибирь. И вполне может потребовать компенсацию, например процент от найденных кладов. Так что никакой бескорыстности не получится.
В общем, расстались они с настроением кислым, однако и тут не обошлось без мистики: буквально через день вдруг объявился младший Колюжный, который до этого не звонил, пожалуй, год. И вопрос с финансированием закрылся в тот час же, как Рассохин, опять же скрывая истинную причину, поведал Колюжному о замысле экспедиции — о Карагаче тот уже был наслышан.
С Колюжным-старшим Стас работал на Вилюе. Славка тогда был еще маленький, но любопытный, рвался с геологами в поле, и Рассохин однажды взял его с собой на прииск, где и научил мыть золото лотком. Геолог из Колюжного не получился, ибо через несколько лет его перевели в министерство, Славка закончил экономический факультет, потом учился за рубежом, но умения добывать золото не утратил — стал солидным бизнесменом и заработанные деньги не жалел, устраивая всевозможные экстремальные походы зимой на снегоходах, летом на моторных лодках.
После того как вопрос с деньгами решился, Рассохин наконец-то уверовал, что экспедиция на Карагач состоится, воспрял и с вдохновением ушел в Интернет выуживать все, что есть по старообрядческим поселениям и скитам по Карагачу. Но оказалось, кроме упоминаний о том, что бассейн этой реки заселялся беглыми раскольниками в восемнадцатом веке, ничего интересного не было. Дважды попадались невразумительные научные публикации профессора Дворецкого, утверждающего, будто кержаки толка молчунов приходили сюда с реки Керженец, для чего он проводил специальные исследования говоров, бытовой и религиозной культуры. Будто обычай после сорокалетнего возраста замолкать до конца жизни возник еще на европейской части России и впоследствии перекочевал в Сибирь. И уже здесь их почему-то перестали называть молчунами, а окрестили погорельцами, видимо, после какого-то пожара.
И хоть бы строчка, хоть бы намек, почему эти молчуны-погорельцы закапывали книги!
Этот профессор жил в Питере, и Рассохин уже прикидывал, как бы в ближайшие выходные с ним встретиться, искал адрес и телефоны, и в хлопотах выпало из памяти, что в субботу должна приехать дочь Жени Семеновой, из той же самой Северной столицы. Когда она рано утром позвонила в дверь, Стас в недоумении пошел открывать и, увидев на пороге женщину, отпрянул и потерял дар речи. Он вмиг вспомнил о Елизавете и так же вмиг узнал ее: перед ним стояла точная копия блудной отроковицы — тот же нос с горбинкой, большие глаза с выпуклыми веками, чуть впалые щеки и яркие даже без помады выразительные губы. И скорее всего, от этого внезапного сходства ощутил смущенное волнение, в первые минуты не знал, как себя вести — то ли как с реальным человеком, то ли как с привидением, вдруг возникшим из небытия.
— Простите, — сказало это явление в прихожей. — Могу я видеть вашего отца?
— Моего отца? — странный вопрос несколько вернул к реальности. — Но он давно умер…
— Я разговаривала по телефону, — смутилась Елизавета. — Со Станиславом Ивановичем Рассохиным…
— Это я, — признался он. — А вы копия Жени Семеновой.
— Да, мне говорили, — заметила она грустно. — Я очень похожа на маму… Значит, вы ее хорошо помните. А я представляла вас намного старше…
Сходство было не только внешним: оказалось, Лиза даже в профессии пошла по стопам матери и работала фотокорреспондентом в модном цветном журнале.
Потом он уловил все-таки первое, видимое различие: у Лизы не было в глазах той манящей улыбчивости, призывного изгиба приоткрытых губ, легкого, увлекающего и какого-то шелкового шелеста в голосе — всего того, что с избытком присутствовало у Жени Семеновой. И еще, волнуясь, заикалась немного на некоторых первых буквах. Возможно, поэтому она показалась сдержанной и замкнутой — в общем, дитя уже другого, неромантичного времени, хотя привезла с собой фотокамеру, чтоб заодно поснимать московские февральские пейзажи.
— Мне стала сниться мама, — призналась Елизавета, когда сели на кухне пить чай. — Нынче только, с января…
Рассохин вспомнил, что и ему Женя первый раз приснилась вскоре после Нового года.
— И теперь вижу ее почти каждую ночь, — продолжала она. — Сон один и тот же: мы сидим на даче и смотрим, как ласточки вьют гнездо на веранде. Сначала я обрадовалась: никогда ее во сне не видела, помнила по старым фотографиям… А потом это стало мучительно. Несколько раз ходила к психологу, была у экстрасенса, в церкви… В общем, все говорят одно и то же: мамы нет в живых, если за тридцать лет не объявилась.
Если бы она сделала паузу, Рассохин бы заполнил ее откровенным признанием и подтвердил, что и в самом деле Жени нет в живых, однако Лизе хотелось высказаться, поэтому она всего лишь подняла взгляд и продолжала:
— И еще говорят, надо успокоиться, принимать на ночь снотворное, больше бывать на воздухе, свечи ставить за упокой… А я не верю, что мамы нет. Чувствую — жива, и потому решила ее поискать. Мне кажется, она меня зовет, хочет, чтоб нашла… И теперь устанавливаю всех, кто знал маму, кто ее видел накануне… Разыскала бывшего начальника Карагачской партии, Гузь фамилия. Помните?
— Очень хорошо помню, — отозвался Рассохин и поймал себя на мысли, что все еще рассматривает гостью и ищет отличия.
— Он уже старенький, больной, с палочкой ходит. Но всех помнит, и маму, хотя видел, говорит, всего дважды. Мама была яркая, запоминающаяся, правда?
— Правда, — согласился он. — Она походила на греческую Афродиту. Известная скульптура…
— И еще, — после долгой и печальной паузы проговорила Лиза. — Скажите мне честно, без всяких предрассудков… Гузь мне сказал, моя мама была гулящая. Он сказал — блудница. То есть, насколько я понимаю, не очень-то тяжелого поведения…
— Сволочь он, этот Гусь! — отрубил Рассохин. — Ни стыда и не совести…
— Я ему почему-то верю. И слово старинное, не обидное — блудница.
— Болтовня, стариковский треп!
Сказал уверенно, а у самого перед глазами возникла картинка: сосновая грива среди болот, реликтовые деревья, и они с Женей друг против друга. У Рассохина в руках трехлинейная винтовка с примкнутым трехгранным штыком…
— Простите, Стас, — повинилась Елизавета, не поднимая глаз. — Мне и папа это же говорил. Только он называл ее грубо. Они поэтому разошлись… Да я и сама помню отдельные эпизоды…
— Мне трудно судить, — сдался Рассохин. — Мы и знакомы-то были три дня. Или чуть больше.
— Кажется, вы ее защищаете?
— Ваша мама не была блудницей, — как-то неловко стал оправдывать ее Рассохин. — Она Репе в глаз дала, тот с фингалом ходил… Никому не верьте!
И опять ощутил мгновенный позыв рассказать Лизе, как он, будучи больным, теряющим рассудок и охваченным приступом ревности, застрелил Женю Семенову. Однако это мимолетное движение души опять наткнулось на разум — не поймет, или хуже, испугается, примет его за помешанного…
— Мне показалось, Гузь судит о людях достаточно объективно, — не согласилась Лиза. — Он и вас вспоминал добрым словом, про Рассошинское месторождение говорил. Будто названо по вашему прозвищу — Рассоха. — Она впервые улыбнулась. — Много чего рассказал. А я люблю слушать всяческие истории из прошлого, даже на исторический хотела поступать… Гузь не знал ни адреса вашего, ни телефона. Слышал только, вы стали доктором наук, лет пять назад. Вот я вас по Интернету и вычислила. Гузь и сказал, вы были последним…
Елизавета замолчала, должно быть, подавляя спрятанные внутрь слезы.
— Только я этого не знал, — пришел ей на выручку Рассохин, — что вижу в последний раз. Этот Гузь послал мыть золото…
— А какой вы запомнили маму? — Она встрепенулась. — Может, какие-нибудь ее слова? Она что-нибудь рассказывала о себе?
— Рассказывала о вашем отце… Еще как опостылел ей Питер. И так, по мелочам… Да, и про ежиков! Как вы отняли ветку у ежихи.
Лиза молча достала из сумочки пластиковый пенальчик и вынула оттуда засохший ивовый побег величиной с карандаш.
— Ношу как талисман…
— Помогает открывать замки?
— Истины. — Она спрятала ветку.
— А у меня сохранилась одна ее вещица! — вспомнил Рассохин.
— Правда? — оживилась она. — Какая?
Стас открыл нижний шкафчик стеллажа с коллекцией минералов и вынул расческу.
— Вот… Даже с остатками ее волос.
Лиза бережно рассмотрела незамысловатый гребень, потрогала волоски, оставшиеся между зубьев, приложила к щеке.
— Можно, я возьму себе?
— Конечно!
Лиза завернула расческу в носовой платок и убрала в сумочку.
— Все хочу спросить, вы так выглядите… Приняла за сына! — Она рассмеялась. — Я-то представляла вас таким седовласым, зрелым… Знаете секрет молодости? Или образ жизни, диета?
Тема его внешности всегда смущала и даже злила Рассохина — возможно потому, что была как-то связана с его прошлым, трагическими обстоятельствами, однако была излюбленной для всех друзей и знакомых, особенно женщин.
— Ничего я не знаю, — проворчал Рассохин. — Выпиваю, курю, трусцой не бегаю…
Она услышала нежелание обсуждать это и вернулась к воспоминаниям о матери:
— Вы были взрослым и, наверное, запомнили ее образ иным, чем, например, я в пятилетнем возрасте. Какая она была? Мне все интересно.
— Она по утрам сильно чихала! — вспомнил Стас. — С таким вскриком!..
— Это я помню. Отчего?
— Кажется, говорила, от резкого перепада температур. Кстати, она была моржихой и купалась в проруби на Стрелке.
— И это помню, несколько раз брала с собой, закаляла… А мама говорила обо мне? Ну, вспоминала меня?
— Вспоминала, как вы вместе наблюдали за птицами. У вас на даче ласточки вили гнезда… И обещала рассказать историю про зимующую ласточку.
— И не успела?
— Не успела.
— Хотите, расскажу? — Лиза оживилась, глаза заблестели. — Это я помню! У нас на даче было гнездо, а там пять птенцов. Маляр красил потолок и одному ласточенку случайно выкрасил белилами спинку. Когда они выросли и улетели на юг, крашеная ласточка осталась. Наверное, с таким пятном ее в стаю не принимали… Эта меченая птица прожила у нас всю зиму. Мы ездили два раза в неделю и топили печь, чтобы не замерзла. Еще специально гноили лук. Это чтобы в воздухе летала луковая мушка. Да, разводили моль в старой шубе! Но она никак не разводилась. Ласточка стала совсем ручная и о стекла не билась, понимала. А как радовалась, когда мы с мамой приезжали, и зимой пела, как летом! На улице мороз, а она сядет на провод от лампочки и щебечет!.. Весной мы открыли ей окно, чтоб могла залетать в дом. Она залетала и однажды привела с собой ласта. Красавец такой, во фраке, и тоже будто ручной. И они начали лепить себе гнездо прямо над обеденным столом, представляете? Когда мы уезжали, то оставляли открытой форточку…
Лиза вдруг всхлипнула и замолчала.
— Чем же это закончилось? — выждав долгую паузу, спросил Рассохин.
Гостья глубоко вздохнула и улыбнулась сквозь слезы.
— На дачу без нас приехала бабушка, которая потом меня воспитала… Увидела, что весь стол и стена в птичьем дерьме. А она у меня всю жизнь преподавала эстетику и невероятно любила порядок, во всем. По ее мнению, нельзя приручать диких ласточек, нарушать естественный ход вещей. Перелетные птицы обязаны улетать на юг и возвращаться весной независимо от пятен, оставленных краской… В общем, она сломала гнездо и закрыла форточку. С тех пор ласточки не то что зимовать — даже над участком не летали…
Поисковый отряд, в котором тогда работал Рассохин, перевели на промышленную разведку, и нарезать участки для освоения, руководить вскрышными работами ему показалось делом весьма скучным и монотонным. Романтический дух середины семидесятых требовал новых просторов и занятий, к тому же три полевых сезона и три камеральных зимы делали его вольным, поскольку обязательный срок по распределению после института он отработал.
Это был период двойственности чувств: хотелось уехать от однообразия и назревающей, как чирей, оседлости — Станиславу даже квартиру дали в отстроенном на Гнилой Прорве приисковом поселке, куда теперь перебазировалась партия, но едва решился, как стало нестерпимо жаль оставлять Карагач, где, можно сказать, он снял сливки со своей жизни. Вдруг представил, что уже никогда и нигде не будет этого ощущения радости — от первых самостоятельных маршрутов, от первых открытий, да и вообще от всей походно-кострово-палаточной жизни, навсегда лишенной нудной учебы, зубрежки, экзаменов и прочей обязаловки, на которую обречен человек с самого детства. Будет много чего нового и интересного, однако это ощущение беззаботного счастья не повторится.
Еще не уехав, он уже начинал тосковать даже по тому, что порядком надоело — по одним и тем же рожам в поле, камералке[7] и общаге. В отряде было девять геологов, столько же маршрутных рабочих, и все имели прозвища, чаще образованные от фамилий: начальник Репнин был Репой, Мухачев — Мухой, Рассохин, естественно, стал Рассохой. Только к Лисицину приклеилось погоняло — Китаец, поскольку фамилию его произносили как Ли Си Цын, а у начальника партии и так была смешная фамилия — Гузь, так все равно переделали и звали Гусь, правда, за глаза.
— Что вы как зеки? — отчитывал, приезжая, главный геолог экспедиции Чурило, сам не подозревая, как его кличут на самом деле. — Что за моду тут завели? Вы же геологи, интеллигенция, кандидатские диссертации защищаете. А как обращаетесь друг к другу? Не можете устоять перед дурным влиянием своих рабочих? Сами уже как бичи, честное слово!
Если бы главный слышал шутки, отпускаемые старшему технику-геологу Галкину по прозвищу Галя, особенно когда раскладывались по палаткам спать, то вообще бы в ужас пришел.
Стоило только представить, что скоро всего этого не будет, как становилось пусто и тоскливо. Рассохин начинал понимать, что на самом-то деле это не молодая, еще студенческая безалаберность и дурашливость в чисто мужском коллективе, а всеобщее ощущение счастья и искренней радости от жизни. Единственное, что еще не случилось у него на Карагаче, что он не испытал за все три года и отчего тайно страдал, — это встречи с Ней, чудесной, ни на кого не похожей, пьянящей чувства и толкающей на подвиги. В двадцать пять, говорят, нравятся уже всякие женщины, и недостатка в них не было, во всяких, — одних только ссыльно-поселенок в леспромхозе было три барака. Это не считая вольных, кто после отбытия срока остался на лесоучастках Карагача, ибо на противоположной стороне от Гнилой Прорвы стояла женская зона, где шили рабочую робу.
И далеко не все местные были дурны на вид; напротив, чаще попадались красавицы, с коими как раз внешность и сыграла злую шутку — спутывались со всякими мошенниками, пройдохами, преступниками и получали сроки за соучастие. Ими даже кержаки не брезговали, и говорят, иногда похищали прямо с лесоповала, где они работали сучкорубами. Однако Рассохин чуть отставал от физического возраста, все еще одолим был юношескими мечтами, и в воображении, надо сказать, весьма искушенным романтическим временем, рисовал абстракции. Казалось, Она, иллюзорная дева или, говоря кержацким языком, отроковица, где-то здесь близко, на Карагаче, только еще не встретилась.
И будет нестерпимо жаль уехать отсюда и не встретить.
В минуты подобных раздумий Рассохин даже колебаться начинал, однако отступать было поздно. Еще зимой и тайно от руководства он списался с Вилюйской экспедицией в Якутии, где работала его однокурсница Аня, похлопотавшая за него, получил приглашение от главного геолога и рассчитывал поспеть к полевому сезону, который там начинался в конце мая. А в его начале, дабы отсечь всякие колебания, он написал заявление об уходе. С Аней у них была дружба, самая настоящая: однажды она влюбилась в дипломника и чуть с ним не уехала на тот самый Вилюй, бросив институт. Но ее возлюбленный бросил ее и отбыл по месту распределения, даже не попрощавшись. Несколько месяцев Стас вытирал Ане слезы, утешал, увещевал, пока та не влюбилась в следующий раз, теперь в парня-буровика, как показалось, надежного и верного. А он на студенческой свадьбе весь вечер целовался и танцевал со свидетельницей и даже провожать ее ушел. И опять плач в жилетку на ночных прогулках, убедительные слова, что Аня — самая красивая девчонка в институте, и вообще, с такими внешними данными ей бы в артистки, и покорила бы всех. Ну и всякие прочие слова, за которые утопающие хватаются как за соломину. Должно быть, первая любовь у Ани не забывалась, и она добилась распределения в Вилюйскую ГРЭ, а ее возлюбленного уж и след простыл на якутских морозах.
И вот теперь Рассохин должен был ехать на эту реку — место заманчивое, романтичное, неизведанное, и тут же выстроилась цепь загадочных событий.
Потом Рассохин увольнялся из экспедиций еще дважды, но всякий раз отмечал странную закономерность, повторяющуюся вплоть до деталей. Три года работы на Карагаче начальство его почти не замечало: жил он зимой в общаге, под которую приспособили старый зековский барак, и ничем не был отмечен, хотя открыл самую богатую россыпь на безымянной речке выше Гнилой Прорвы. Премии и ордена достались руководству.
Но стоило лишь заикнуться об уходе, как все тут же спохватились, Стас услышал о себе много лестных слов, мгновенно получил ордер на квартиру и ключи, хотя давали их только женатым, предложение о назначении начальником отряда. И самое важное — начальник партии Гузь обещал восстановить справедливость и включить его в список соавторов научной работы по Рассохинскому россыпному месторождению — работы, которую Стас за зиму написал в одиночку и, дабы заручиться рецензиями, отдал Гузю, исполняющему обязанности старшего геолога, а тот в свою очередь главному геологу экспедиции. Оба они поправили стилистику нескольких фраз, сделали незначительные уточнения по геохимическим и спектральным анализам, и в результате фамилия Стаса оказалась на последнем месте в списке авторов, а когда работу опубликовали, то чудесным образом вовсе исчезла! На титуле значились Чурило и Гузь…
Рассохину, конечно, было обидно, но когда тебе двадцать пять и перед тобой еще открыт весь мир, а обидчикам в два раза больше и просвета почти нет, многое прощается быстро и сразу. Поэтому, несмотря на уговоры и посулы, он заявления не забрал и изготовился отрабатывать положенные две недели.
И в первый же день случилось еще одно событие: в Гнилую Прорву, где теперь базировалась партия, прилетел вертолет и вместе с приискателями привез на преддипломную практику студентку Женю Семенову. Гузь от девушек отмахивался как от чумы, в вузы даже письма писал, рисуя страшные картины похищений кержаками невест, но практикантов все равно присылали каждую весну почти на целый полевой сезон, по несколько человек, половина из которых оказывалась женского пола. Пристрастные к романтическим профессиям, чувствительные к экзотике, девчонки лезли на геолого-поисковые факультеты по головам парней. И тогда в отряде начиналось оживление: мужики впервые за зиму стирали свитерки и штормовки, каждый день брились, кто не носил бород, пользовались запашистым одеколоном, даже переставали ругаться матом и называли друг друга по именам.
При появлении Жени Семеновой нетерпимый Гузь даже не шумел, не противился, не требовал от практикантки, чтоб осталась до осени в камералке для связи, обработки прошлогодних материалов, лабораторных исследований проб и сидела, носа не высовывая. А все, что нужно для дипломной работы, получит в чистом виде и с лихвой. Даже премию…
А был таким мирным и обходительным только потому, что студентке этой перевалило за тридцать — таких уже вроде бы не похищали…
Едва появившись в камералке, Женя стала угощать всех сигаретами «Мальборо», причем делала это высокомерно-снисходительно и одновременно каждому строила глазки. По крайней мере, Рассохин это узрел, да и судя по реакции остальных, никого не обнесли сим пьянящим сосудом. Вышли на улицу покурить, и трубка Стаса сразу бросилась Жене в глаза.
— Вы очень колоритный, — тоном фотохудожника произнесла она и подняла фотоаппарат. — Курчавая борода, трубка, вздыбленный чуб…
И щелкнула его крупным планом. Рассохин и ухом не повел, но Галя сразу «заточился» на нее, без всяких знаков внимания, защебетал что-то на ушко. Следом за ним в бой за отроковицу кинулся отважный Муха: стал показывать самородок величиной с булавочное ушко и в форме груши, который давно притырил на прииске и носил как талисман. Женя кивала с завлекающей улыбкой, что-то говорила вполголоса, но в тот миг на Рассохина это не произвело никакого впечатления.
«Право первой ночи», конечно же, принадлежало начальнику отряда Репе. Однажды в отряд приняли на работу проводниками двух кержаков — отца с сыном, и за лето от них нахватались всяких старинных словечек, после чего всех практиканток, да и девушек вообще, стали называть отроковицами, а парней — отроками. Так вот, отроковицы чаще всего попадались своенравные и право выбора оставляли за собой, невзирая на право начальника. Эта же отроковица была зрелой, возрастом вровень с Репой, поэтому в успехе никто не сомневался, впрочем, как особенно-то и не завидовали: полевые романтические приключения редко заканчивались постельными или чем-либо еще более серьезным. Взаимная, даже самая сильная страсть, соответственно целомудренному времени, чаще превращалась в ночные посиделки возле индивидуальных костров, разговоры про поэзию, песни Кукина под гитару и невинные поцелуи. А Рассохину медведь уши оттоптал с детства — ни петь, ни играть не умел, зато умел слушать всяческие девичьи откровения и помалкивать.
Разумеется, Репа сразу же позвал Женю Семенову в отдельную камеральную комнатеху якобы для делового разговора. Там, как обычно, настращал злобными похитителями-кержаками и через час уже сам повел отроковицу «на размещение», то есть на временное поселение в свою квартиру под личный контроль. Приезжих студенток до начала полевого сезона обычно определяли к семейным работникам партии, чтобы и в самом деле не выкрали, да и не хотели показывать бардак в общежитии и ранить их тонкую психику зековским бараком.
Рассохин вначале отнесся к Жене равнодушно, ибо ничего эдакого, кроме возраста, в ней не заметил: казалось-то, когда Ее, настоящую, увидишь, сердце непременно екнет. А может, в это время душой был уже в Якутии, и все, что сейчас окружало, воспринималось отвлеченно, как сквозь мутное стекло. На что там обратить внимание, если отроковица хоть и рослая, длинноногая да волосы пучочком, глазки слегка навылупку, нос с горбинкой, и вроде бы из-под манящего взгляда проглядывает некий испуг пополам со скрытой задумчивостью. В общем, на первый взгляд не такая уж и привлекательная, да еще девица себе на уме. Однокурсница Аня, что ждала его на Вилюе, по сравнению с ней раскрасавицей была, только за зиму столько снимков своих прислала, что Стас в изголовье кровати всю стену ими увесил, а соседям по комнате говорил, что Аня киноактриса — ни одной полевой фотографии, все шляпки с вуальками, пилотки, банты. И до сих пор бы не снимал, если б не обнаружил, что под карточками на день прячутся клопы, чтобы выбраться ночью и пить кровь.
В общем, у Стаса ничего не шевельнулось и не екнуло при появлении Жени Семеновой. Она благополучно переночевала у Репы, наутро явилась в камералку как ни в чем ни бывало и стала завлекать взглядами Мухачева. Тот же, невзирая на претензии начальника, поддался искушению, ушел с отроковицей покурить и не возвращался полтора часа. И когда они вернулись, то оба были с мокрыми волосами — оказывается, искупались в ледяном Карагаче! Выглядели они бодро и весело, тем паче Репнин в этот день так и не появился, сославшись, что занимается подготовкой оборудования на техскладе. Отбивать отроковицу у Мухи никто не собирался, напротив, шепотком желали успеха, однако поздно вечером, когда Рассохин вышел из своего барака, чтобы посмотреть, как прибывает вода, увидел, что практикантка сидит под стальной электрической опорой на берегу возле костерка, упаковавшись в новенький спальный мешок, полученный на складе партии. Мухи нет, но рюкзачок с вещичками рядом…
— Ночевать на природе еще холодно, — предупредил он. — Ночью примораживает…
— Ничего, — буркнула она и глянула утомленно-зовущим взором. — У костра не замерзну. У меня третья практика…
— Репнин говорил, это опасно?
— А то как же!.. Что только ни говорил, чтоб к себе заманить, обольститель…
И сразу стало ясно, что у начальника отряда с отроковицей произошел конфликт, причем на известной всей партии почве — легкая добыча оказалась или с норовом, или Репа не нашел ключа, чтоб отомкнуть пояс верности.
— Здесь на самом деле женщин воруют, — заметил Стас. — Кержаки-погорельцы.
— Я приехала на производственную практику, — независимо подчеркнула Женя. — Все иные практики я уже проходила. Мне нынче дипломную работу писать! Вы что здесь, одичали совсем? Сами как кержаки…
Рассохин подумал — ей скоро на пенсию пора, а она собралась диплом защищать. Но достал ключи от новой, необжитой квартиры — сам туда не вселялся принципиально.
— Видишь дом на самом берегу? Третья квартира на втором этаже. Пустая и без мебели. Но спальник у тебя есть…
Положил ключи перед ней и ушел.
Он не знал, когда ночной мороз загнал ее под крышу, однако рано утром на берегу возле опоры практикантки не было и кострище оказалось в инее. К восьми Женя пришла в камералку уже без тощего хвостика, и даже стекло с выпуклых глаз слиняло. Мужики делали вид, будто ничего не случилось, отпускали очень сдержанные комплименты, в общем, все как всегда. Только вот Репнин почему-то опять не пришел в камералку, и до обеда его никто не видел, потом сказали — зуб заболел и лежит дома. Но что значит такой пустяк, как зуб, когда до заброски на Рассошинскую россыпь три дня, надо собирать отрядное имущество, продукты, получать материалы, карты и согласовывать план работ со своим руководством да еще с чужим, приисковым?
Гузь сначала отправил за ним посыльного, но когда тот не достучался, пошел сам. И привел-таки начальника, только у того не зуб прихватило, а под глазом был фиолетовый, с желтой окантовкой фингал, да и глаз с кровоподтеком. Репа что-то лепетал, как вчера вечером один против пятерых дрался с приискателями, которых и впрямь наехало уже достаточно, и парни они были из той породы ярых старателей, про бархатные портянки которых до сих пор травили байки. Отряд слушал его участливо, кое-кто вызвался даже наказать обидчиков, но все искоса посматривали на Женю Семенову и немо восхищались. Отроковица же, как и положено деве невинной, сидела, скромно потупив взор в порученные ей бумаги и в обсуждении не участвовала.
Однако Репнину откуда-то уже было известно, у кого ночевала практикантка, потому что он позвал Рассохина и велел сегодня же загрузить лодку бензином и завтра рано утром взять с собой отроковицу в качестве маршрутного рабочего (а на преддипломной ей полагалось работать на должности техника-геолога) и выдвигаться в район работ. Приискатели рвались в бой, намеревались встретить День Победы первым карагачским золотом. Знаменательных дат в календаре больше не оставалось до самой осени, а тут символично — победа над Карагачем как над врагом! Поэтому едва пронесло лед, драгу отбуксировали к месторождению, куда еще зимой нагнали всяческой техники. Пробный участок хоть и был разведан и нарезан, однако требовался геологический контроль вскрыши. Можно было преспокойно начинать и без этих маловажных формальностей, но старатели после всех драматических событий на Карагаче стали излишне суеверны и хотели соблюсти все правила, дабы потом, в случае провала, не брать на себя ответственность. Мало ли что выкинет строптивая река…
А всего и надо-то было ручным буром проткнуть несколько двухметровых скважин, чтобы точно, до сантиметра, отбить глубину залегания россыпи, после чего весь верхний слой пустой рыхлятины снимался бульдозерами. Если грунт на высокой пойме оттаял, работы было одному и на день, а практикантке так и вовсе нечего делать, поэтому Стас сразу же уловил мстительный азарт начальника. Когда Рассохин решил уволиться, самодельный табурет под Репой закачался, а петля уже была на шее: Гузь во всеуслышание заявил, дескать, если Стас передумает, то в грядущий сезон быть ему начальником, а Репнина за прогулы и разгильдяйство, за неисполнение распоряжений, пьянство и недостойное члена партии поведение на три месяца переведем в техники, а то и вовсе маршрутным рабочим.
А тут еще получилось, будто Рассохин и студентку увел у него из-под носа!
— Ознаменуй ударным трудом, — язвительно сказал Репнин, — последние деньки в нашей славной партии! На месторождении имени себя…
Стас спорить не стал, ибо работать оставалось уже меньше двух недель, и только спросил по-свойски:
— Репа, скажи по дружбе, у нее разряд по боксу?
— У кого? — будто бы не понял тот.
— У той, кто тебе в глаз дал!
Он отпираться не стал, поскольку один на один всегда был откровенным.
— Вот и спросишь, — ухмыльнулся. — Когда тебе вмажет. И еще имей в виду: не отроковица она, натуральная блудница. Порется классно, но экспериментов терпеть не может. И столько столичного гонора!..
Рассохин услышал в его словах победу, но вместе с тем голос обиды и разочарования, и мысленно ухмыльнулся. Он получил на складе триста литров бензина для моторок отряда, загрузил в лодку «Прогресс», навесил «Вихрь», собрал вещички и всю ночь просидел на пристани у костерка, поскольку оставлять дефицитное добро без присмотра было невозможно. Крали здесь так стремительно и виртуозно, что, случалось, на минуту причалив к дикому безлюдному берегу по большой нужде (дольше не выдержишь из-за гнуса), можно было лишиться мотора, забытого в лодке оружия, бачка с бензином — и хорошо, что воры отличались благородством, не брали весла, одежду и все продукты.
Женя Семенова переночевала в его квартире и рано утром явилась с рюкзаком и спальником, уже без вчерашнего макияжа, с видом вполне полевым, однако чем-то неуловимо привлекательным. Стас посоветовал забраться в спальный мешок, сесть спиной к ветру, сам же запустил мотор и погнал лодку вверх по реке. Она взглянула на него снисходительно — если не сказать брезгливо, и сделала все наоборот: села к нему спиной, вооружилась редкостным иностранным фотоаппаратом «Кэнон» и только вязаную шапочку поглубже натянула. Навстречу несло много топляка, почти скрытого под водой: приискатели зачищали от залома устье речки, впадающей в Карагач, готовили проход драги и фронт работ на той самой россыпи, которую в одиночном многодневном маршруте, в присутствии маршрутного рабочего Юрки Зауэрвайна, с фотосъемкой, дневниковыми записями и прочими неоспоримыми доказательствами открыл Рассохин. Хотя по всем физическим и геологическим законам ее там не должно было быть — ни «гребенок», которые обычно задерживают тяжелую фракцию, ни следов древнего омута — своеобразной бутары, где бы осаживалось золото. Сама безымянная речка, впрочем, как и современный Карагач были не при чем, если не считать того, что их русла вскрыли более древние аллювиальные отложения. Природа отчего-то вздумала нашпиговать драгоценным металлом почти трехметровый слабосцементированный галечник, лежащий на меловых породах и бывший когда-то дном моря, причем так богато, что Рассохину вначале и не поверили, дескать, такого не бывает. И вообще, мол, в нашем районе таких россыпей нет и быть не может, а подобные есть лишь в Южной Африке. Так или иначе, после этого открытия бросились шурфовать подобные галечники по всей реке, особенно в предгорной ее части — пусто. Другого характера россыпи есть, а таких более ни одной.
Через два часа поединка с ветром и холодом практикантка все-таки вняла голосу разума, забралась в мешок и развернулась к Стасу лицом. Тот же словно и внимания не обратил, на ходу переключил новый бак с бензином и продолжал глядеть выше головы Жени и бочек, дабы не напороться на топляк. Сам он давно замерз, рука на румпеле хоть и была в рукавице, но уже онемела и отваливалась от постоянного напряжения. И все равно краем глаза видел ее лицо, особенно посиневший нос с горбинкой, слезящиеся от ветра и от того какие-то оживленные внутренним страданием глубокие очи пожившей на свете, повидавшей виды женщины — иначе нельзя было определить выражение этих глаз. И часто замечал, что Женя в свою очередь не рассматривает, но приглядывается к нему и будто бы на студеном майском ветру теплеет та холодность в отношениях, что возникла благодаря змейскому, гиперсексуальному характеру Репнина. По крайней мере оказалось, практикантка не просто глазки строит мужикам, но умеет грустно улыбаться, задумываться, уходить в себя. Вдруг взяла и сфотографировала Рассохина крупным планом, хотя прежде снимала только виды реки, заломы, коряги и несущихся над водой уток. Он на ходу достал из рюкзака фляжку со спиртом, отхлебнул сам и протянул спутнице, но не предупредил, что за напиток. Отроковица же понюхала горлышко, смело сделала глоток и хоть бы поморщилась или забортной воды хватила ладошкой! Сразу видно, крепкие напитки пробовала не один раз.
Такая не раздумывая в глаз врежет…
Второй бак был на исходе, когда впереди над затопленной низкой поймой обозначилась высокая надстройка драги. Но еще пришлось крутиться по трем долгим меандрам, прежде чем в устье по-весеннему широкого и уже очищенного от залома притока Карагача открылся ее корпус, по верхнему этажу надстройки которого красовалась надпись, недавно набитая через трафарет, — «Рассоха». А на берегу стройной колонной стояла техника — оранжевые бульдозеры С-100, экскаваторы и десяток самосвалов, загнанных сюда по зимнику: мыслили отвалом сразу же отсыпать прямую дорогу на Гнилую Прорву.
Рассохин причалил к берегу возле стана приискателей, но выходить не стал, сообщил только, что завтра с утра можно будет приступать к вскрыше и что контуры пробного участка он отобьет сегодня же. Готовые к трудовому подвигу золотушники знали первооткрывателя этой россыпи и в благодарность забросили в лодку четыре крупных нельмы, посетовали, что на «сухом» законе, и оттолкнули от берега.
От устья речки до стана геологов, где отряд должен был базироваться, было еще минут десять пути по полноводному притоку, но даже короткая передышка и близость цели согрели более, чем спирт, поэтому расстояния они как-то не заметили. Стас прогнал лодку сквозь затопленные кусты и причалил к высокой древней пойме, на первый взгляд мало чем отличающейся от материкового берега — темное пихтовое чернолесье с пухлыми кронами кедров, довольно ровный горизонт, слегка изрезанный руслами стока вешних вод, мягкий, как перина, подстил под ногами да звенящая от долгого воя мотора тишина. Именно в этом месте два года назад, сплавляясь вниз по Карагачу на пластмассовых обласах, они с маршрутником Юркой кое-как протолкались по обмелевшему в межень безымянному притоку, раскопали приямок у уреза воды и отшлиховали[8] первые пробы. Не поверив глазам своим, Рассохин отмыл еще один лоток — до десятка крупных и бессчетно мелких пылеватых песчинок на две лопаты породы!
В тот вечер он больше мыть не стал, подумал — блазнится.[9] Юрка Зауэрвайн по прозвищу Ружье наловил рыбы, сварил уху, переночевали, и за световой день, перемыв около кубометра породы из двух шурфов и береговых обнажений, разбросанных друг от друга на сотни метров, получили до сорока пяти граммов золотого песка! Когда на всех иных россыпях Карагача не более двадцати. Всегда по-немецки сдержанный Ружье прыгал от радости, ибо мечтал получить премию и съездить в гости на свою прародину — его отец был из тех пленных, кто остался на Карагаче.
Последующая разведка лишь подтвердила первоначальный полевой расчет содержания драгметалла и, в какой-то степени, подсчет запасов.
В Карагачской партии считалось, что Рассохина поцеловала богиня Удача! Хоть и сдержанно, с ухмылками, но поздравляли даже начальники и не верили, ибо смущало содержание, мол, преувеличение у молодых геологов, как у бывалых рыбаков, все надо делить на шестнадцать. И все хмуровато молчали, когда его данные подтвердились — возможно, потому они с маршрутным рабочим даже премии не получили, обязательной в том случае, если ты нашел не месторождение, а даже рудопроявление. Одной зарплаты Ружью хватало только на пропой, и, лишенный премии, он так и не поехал в Германию, скоро вообще уволился и подался в леспромхоз. Зато негласно, а в некоторых случаях и официально, с упоминанием в отчетах, стали называть безымянный приток Карагача — Расссоха, россыпь Рассошинской, и вот уже новенькую драгу окрестили тем же именем.
А это ведь что вновь открытую звезду назвать твоим именем. Конечно, если судить с точки зрения романтика…
Причалив, Стас и Женя не стали даже ставить палатку, а перекусили, разогрев по банке тушенки на костре, взяли бур геолога и пошли дырявить «крышу». Хвойный лес над россыпью был еще повален зимой, частью его вывезли, а частью столкали бульдозерами в огромные бурты по границам участка. Поэтому верхний слой грунта на солнцепеке оттаял, влажный суглинок бурился легко, так что сильно пониженная в должности из-за рукоприкладства практикантка редко когда позволяла себе помочь — только если бур заклинивало галькой. Они брались за ручки вдвоем, тянули штанги, почти соприкасались щеками, но увлеченный Рассохин поначалу этого не осознавал, пока случайно не уловил запах ее дыхания.
И вдруг на минуту зазвенело и закружилось в голове, как бывает по неопытной молодости, если хватишь спирту, но сразу не проглотишь из-за перехваченного дыхания и чуть дольше, чем следует, подержишь во рту. А он, говорят, начинает усваиваться в кровь через слизистую и сразу хмелит. После этого Стас и посмотрел на отроковицу глазами не временщика, не увольняющегося человека, коему все уже здесь обрыдло, все до лампочки и до фени, лишь бы срок оттянуть. И узрел, что глаза у нее чуть навыкате от изумления, и это непроходящее чувство ее невероятно молодит, делает юной, а горбинка на носу не уродует — красит, создавая классический профиль богини Афродиты. И тонко очерченные, припухлые губы олицетворяют не презрительность, но неуемную, тайную страсть взрослой женщины, как и зовущий, манящий запах ее дыхания. На миг почудилось, что ее нежные на вид руки не бур вытягивают из земной весенней хляби — обнимают, сомкнувшись на шее до болезненного истомного стона…
Рассохину от сего воображения жарко сделалось, а по телу пробежала непроизвольная конвульсивная судорога, как одинаково бывает от крайней степени омерзения и неуправляемого, восхищенного восторга.
В следующее мгновение, охваченный не юношеской робостью, но мужским смущением, он встряхнулся и выдохнул из себя отраву мимолетных чувств.
— На сегодня все, — сказал, вбивая обухом последний кол. — Мы им чуть ли не центнер отмеряли.
Пробный участок специально отвели там, где было самое богатое содержание, залезли в середину россыпи, что, в общем-то, делать не полагалось, но так уж хотелось удивить высокое начальство в канун праздника Победы.
И Стас заметил, как Женя вздохнула свободно, словно он только что выпустил ее из крепких, удушающих объятий.
«Что же это такое? — с удивлением, но не без удовольствия думал он вслух, когда ставил палатку на прошлогоднее жердяное основание, заваленное свежей подстилкой из пихтолапки. — И что это значит?».
Женя тем часом хлопотала возле костра — варила царскую уху сразу из четырех нельм, поставленных стоя хвостами вверх. Скорее всего, от старания и недогляда она схватилась за закопченое ведро, а потом мазнула себя по лицу, верно, сгоняя редких еще комаров, и на лбу нарисовалась запятая. И руки у отроковицы были в саже, и даже рукава новенькой штормовки, выданной как спецодежда для ИТР. Это было смешно, и в другой раз, при иной обстановке Стас непременно бы поржал, но перед ней, взрослой, внезапно физически ощутил, как взрослеет сам, и то, что вчера показалось бы невинной студенческой забавой, сегодня совсем не веселило. Ни слова не говоря, он достал белый пробный мешочек, которыми геологи пользовались как носовыми платками, послюнил и стал вытирать ей лоб.
— Что? — спросила испуганно Женя, однако же повинуясь его руке.
— Сажа, — обронил он, вновь улавливая запах ее дыхания даже через дым костра.
Она позволила стереть запятую, и Рассохин ощутил, что это простенькое внимание ей приятно, однако Женя точно угадала миг, когда нужно уклониться от его млеющей руки.
— Уха готова, — сказала буднично и пошла умываться на золотоносную речку Рассоху.
В это время он и уловил едва слышный шорох в глубине пихтача — характерный шелест, как веткой по одежде. Тишина была — ни одна лапа на вершинах не колыхнется. Через несколько секунд звук снова повторился, причем двигался в сторону разлива, куда ушла отроковица. Стас вынул из полевой сумки казенный револьвер, проверил патроны в барабане и, крадучись, двинулся на шелест, чуть его опережая. Мягкий хвойный подстил глушил шаги, в кедровнике было темновато, свет проникал лишь в прогалы между крон, и вдруг в одном из них мелькнуло что-то серое — не понять, зверь или человек. Однако Рассохин выстрелил вверх, для острастки, будь там хоть кто: пусть знают, здесь люди вооружены и всегда начеку. Эхо приглушенного щелчка откликнулось над разливом, но все равно показалось, кто-то треснул сучком, убегая.
Назад он вернулся, когда Женя была уже на стане, и хоть выстрел слышала, но оставалась совершенно спокойной.
— За кем ты охотился? — спросила она, между делом разливая в миски уху. — За медведем?
— Глухарь в кедровнике был, — отмахнулся Стас. — Здесь ток недалеко…
— И где добыча?
— Промазал!
— Эх ты! — усмехнулась отроковица и похвасталась: — У меня, между прочим, первый разряд по пулевой стрельбе.
— Ого! А по боксу?
Она все поняла, рассмеялась и сказала с намеком, почти словами Репнина:
— Если что — узнаешь, какой!
Но он не услышал угрозы; напротив, прозвучало как зазывное предложение определенных условий игры, и это вдохновило. Рассохину так вдруг захотелось похвастаться и месторождением, и этой речкой имени себя, однако практикантка упорно ничего не спрашивала, а на созвучие его фамилии с названием драги, верно, внимания не обратила. А он ощутил яростную потребность возмужания, солидности, даже степенности, чтобы дотянуться до высот ее опыта и взрослости. И тогда он неторопко, со сдержанными чувствами, стал рассказывать байки о строптивом Карагаче, который пока еще не покорили, и то, что драга завтра может начать добычу, еще ничего не значит. Стас подремонтировал прошлогодний жердяной стол, положив на него капот от носового багажника лодки — чтоб кружки не переворачивались, и хотя ничто не предвещало дождь, натянул брезентовую крышу, поскольку старую берестяную бичи пустили на растопку. Было уютно и настолько приятно, что хотелось прожить и запомнить каждую минуту, особенно те мгновения, когда Женя слушала, забыв о пище, и глаза ее расширялись от изумления. Он же мужским, интуитивным и уже зрелым нюхом чуял, как тают льдистые забереги[10] между ними, и испытывал страстное желание восхищать ее, отрывать от земли и поднимать на крыльях ввысь, чтобы у нее закружилась голова…
Он чуял, как становится ей интересен, и мысленно соглашался со старой истиной, часто повторяемой Репниным, которому было уже тридцать пять и который давно казался пенсионером.
— Запомните, отроки, — говорил Репа, — женщины любят ушами! А у опытных есть даже третье ухо. Если отроковица его напрягла, у нее открывается третий глаз. Но не во лбу, пацаны, в другом месте. И маленький, как у птички.
К этому можно было добавить, что женские уши, в свою очередь, как отраженная волна, стимулируют творческий азарт мужчины. Рассохин никогда красноречием не отличался, напротив, считал свой язык слишком наукообразным, особенно подпортив его, когда зимой писал, по сути, монографию, позже превращенную в «полиграфию». Где-то в сознании и в горле торчал колючий залом, мешающий естественному течению мысли; тут же ощутил, как его прорвало, и речь очистилась от тяжеловесного топляка.
Между тем незаметно свечерело, подул теплый южный ветер, и в примороженных руслах стока зажурчали ручьи — в чернолесной тайге таял снег. Стас все еще рассказывал о Карагаче, но и увлеченный, не терял чувства меры, не доводил до того, когда и так уже пресыщенная информацией отроковица помимо воли начнет дремать под его речь.
— На сегодня все, — вновь заключил он. — Пора спать. Завтра надо присутствовать на вскрыше.
— Но ведь еще светло! — воспротивилась она.
— Потому что белые ночи, как у вас, в Питере.
Он точно угадал момент — узрел легкое ее разочарование от недосказанного. Однако Женя послушно встала, и пока Рассохин от воровского греха подальше закатывал бочки с бензином в лес и снимал мотор, она уже в легких сумерках перемыла посуду в речке с мочалкой из сухой травы, затем на минуту пропала в палатке и уже явилась в одном купальнике, с полотенцем на плечах! Вода была еще ледяная, и от одного вида ее становилось холодно, но отроковица смело забрела по отмели выше колена и попросила ведро.
— Ты что, морж? — удивленно спросил он, подавая черпак из лодки.
— Я в Питере до декабря купаюсь, — искушенно проговорила Женя. — У нас команда на Стрелке. И это единственное удовольствие…
И решительно облила себя черпаком воды, однако же уберегая волосы. Стаса передернуло от озноба, а практикантка еще трижды окатилась и выдала себя лишь тем, что слишком поспешно выскочила из разлива и принялась жестко растираться полотенцем.
— Обожаю контрасты, — с каким-то неясным намеком произнесла отроковица, сдерживая внутреннюю дрожь.
Потом она убежала в палатку, откуда через некоторое время высунулась голая рука и развесила купальник на палаточную растяжку. Воображение стремительно утрачивало романтический дух, одолеваемый не менее контрастными, шальными чувствами.
Стас посидел на корточках возле костра, высосал остатки дыма из булькающей трубки и несколько усмирил страсти.
И опять ему почудился шорох в кедровнике, причем довольно близко, может быть, метрах в десяти от палатки. И сразу же отлетели прочь грешные мысли: он взвел курок револьвера и ступил в темный кедровник, куда не доставал свет белой ночи. Постоял, затаившись, и кое-как различил впереди что-то серое, лежащее на земле в пяти шагах. Вот пятно шевельнулось и передвинулось на полметра — к палатке подползал человек! Одежда лишь чуть шуршала о мягкий подстил, движения казались призрачными и замедленными, как у коалы. Рассохин поднял наган, прицелился, но глаз переключился на ствол и потерял цель. Эх, фонарик бы, который сейчас в кармане палатки!..
Стас пригляделся и вновь различил пятно, еще чуть переместившееся с прежнего места. Стрелять наугад — не известно, кто там. Если оголодавший весенний медведь, из револьвера не свалишь, а от подранка не удерешь. Вот позор-то будет! Говорили же ему опытные мужики, в том числе и Репнин — бери карабин, на что тебе эта хлопушка? Так нет ведь, револьвер казался удобнее и круче, похлестаться перед местными можно, и приискатели в Гнилой уважают. А уж полный выпендреж — это маузер, которых, естественно, в оружейке давно не осталось, разве что память, — мол, раньше, в пятидесятых, выдавали всем геологам… Что вот теперь делать? Палить в воздух? Снова глухарем не объяснишь, только отроковицу напугаешь. Подкрасться самому и, если человек, взять живым?.. Это кино, да и не приходилось никого брать, ни живым, ни мертвым…
Держа ствол наготове, Рассохин стал медленно, шажочками, приближаться, сам обратившись в коалу. И вдруг разглядел впереди линзу рябого от павшей хвои снега, оставшегося с северной стороны ветровальной колодины. Тяжелый и зернистый, он подтаивал снизу и оседал с легким шорохом. Рассохин попинал снег ногой, потом набрал пригоршню и умыл лицо…
Когда же вполз на четвереньках в тесную для двоих одноместную палатку и на миг включил фонарик, Женя уже упаковалась в свой спальник, застегнув все деревянные пуговицы. Лицо ее было розовым, расслабленным, блаженно поблескивали глаза — Афродита…
Больше он ничего не заметил, но и то, что на мгновение возникло перед взором, подчеркивало его недавнюю слепоту — как мог сразу-то не увидеть, не рассмотреть?! Почему позавчера не екнуло, а сейчас сердце выпрыгивает и одновременно лихорадит…
Подрагивая от непроходящего озноба, Стас содрал с себя свитер, брезентовые брюки и залез в ледяной мешок.
— Спокойной ночи, — сказал стылым, напряженным голосом.
Спальники были совсем рядом, впритык друг к другу, и должно быть, практикантка ощутила его дрожь.
— А мне тепло, — промолвила радостно и, вероятно, улыбнулась. — И от запаха пихты кружится голова…
«Сейчас позовет к себе!» — осенило и заставило трепетать мысли душу. Стас на миг представил, как сейчас переберется в теплый, нагретый мешок, а старого образца ватные спальники были просторные, вдвоем не тесно, и прикоснется к ее обнаженному телу — перехватило дыхание…
Женя словно услышала его мысли и холодно проговорила, враз остудив взгорячевшую голову:
— Спокойной белой ночи.
Рассохин сжался в комок, стараясь вызволить внутренний жар, перелить его в деревенеющие мышцы, затем резко расслабился — не помогло. Ему показалось — Женя уснула, не стало слышно дыхания, но через минуту она вдруг спросила совершенно бодрым голосом:
— Почему ты уезжаешь отсюда? Ты же любишь Карагач…
Это она сделала такой вывод, слушая пылкие рассказы, продиктованные совсем другим чувством — скорее всего, желанием произвести впечатление. Стас прислушался к себе и ощутил, что согревается, но сказал по-мужски сдержанно:
— Так надо, спи.
— Странно, — через некоторое время задумчиво произнесла она. — Тебя поцеловала богиня Удача, речку называют Рассохой, прииск Рассошинским… А ты уезжаешь.
Репа был мастером разговорного жанра с отроковицами и иногда восхищал тем, как мгновенно находил оригинальный, с налетом скабрезности, ответ.
Сейчас бы он сориентировался и не раздумывая в тон ей брякнул: «Вот если бы ты меня поцеловала, Афродита!»
Но Рассохин этим изящным искусством не владел и считал, что у него «позднее зажигание» — слишком долгой оказалась пауза.
— Это кто тебе сказал? — спросил, полагая, что отроковица об этом и знать не должна. — Про Рассоху?
— В камералке отчет читала… Считаешь, уходить надо на пике славы?
— Ну да, — согласился он с подсказкой, хотя внутренне усмехнулся по поводу славы. — Англичане встают из-за стола с ощущением голода…
— Ты правильно делаешь, — после паузы одобрила Женя. — И вообще ты умница, Стас. Ты такой… необычный. Я рада нашей встрече.
Ему стало жарко! Это уже походило на робкое признание в любви.
Рассохин выпростал руку из спальника — хотел дотронуться до ее волос, но вдруг взматеревшая мужская интуиция остановила движение руки и слишком вольной мысли. Ему хотелось сказать, что он не просто рад — счастлив от всего сегодняшнего дня и теперь жалеет, что сразу не разглядел ее, не почуял зова судьбы, но теперь уже по собственной воле прикусил язык.
Репнин бы его понял и сказал бы еще одну замысловатую фразу: «Чем больше женщину мы любим, тем больше меньше она нас».
И на сей раз Стас с ним согласился, вымолвил бесцветно:
— Давай спать…
В это время рядом с палаткой послышалось разливистое скворчанье ласточки — должно быть, почуяла близость людей, обрадовалась и запела, невзирая на поздний час…
— Ласточка? — Женя встрепенулась и села. — Или мне это снится?
— Не снится, — отозвался он. — Здесь они живут.
— Как у нас на даче!.. Здорово!
Репнин бы в этом случае мгновенно ответил:
— Все для тебя, дорогая!
Рассохин представил, как произносит подобные слова, и ничего не сказал.
— Лиза любит слушать, когда поют ласточки, — печально проговорила Женя. — Считает дни, когда прилетят, ведет календарь. Вообще любит все живое… Она сейчас с мамой, а я здесь… Лиза — это моя дочурка.
И вздохнула так по-матерински грустно, что словно занавес между ними задернула. Он хотел спросить, кто у нее муж, но язык не повернулся. А Женя вдруг встряхнулась и, наверное, улыбнулась.
— Вообще Лиза у меня невероятно везучая! Есть такое поверье… Еще моя бабушка рассказывала… Если поймать маленьких ежат и запереть в клетке на крючок, то мать их обязательно найдет. И попытается вызволить. А чтобы откинуть крючок, ежиха приносит ветку. Надо в это время затаиться и ждать. И как только придет — выдернуть ветку из ее зубов, а клетку открыть и выпустить ежат. Потом этой веткой открываются любые замки, клады. И самое главное — истины. Лиза с бабушкой и проделали это, заперли ежат и все по очереди ждали… И представляешь, ей повезло! Отняла ветку у ежихи!
— Жаль, раньше не знал, — серьезно сказал Рассохин. — У нас в деревне ежиков было!.. А что, геологу бы пригодилась такая ветка.
— Лиза у меня везучая, — удовлетворенно повторила отроковица. — Поэтому оставляю ее и не боюсь. Она только заикается немного…
— А кто у нее папа? — наконец-то нашел он способ задать свербящий вопрос.
— Папа и напугал! — произнесла с нескрываемой злостью и надолго замолчала.
Рассохин даже этому обрадовался — значит, наверняка в разводе, и тоже замолчал.
— Но откуда ласточки? — вдруг по-девичьи изумленно спохватилась отроковица. — Они же селятся всегда возле человеческого жилья?..
— Здесь стояло кержацкое поселение, — отозвался он и сел. — Полвека назад… Говорят, дворов на двадцать, прямо на россыпи. В прошлом году еще были ямы от подполов…
— Людей нет, а ласточки остались?
— Прилетают по привычке…
— Как странно и красиво: таежные ласточки… Может, чувствуют — люди вернутся? Ну не могут же они без людей!
— Могут, выходит…
— Я по утрам сильно чихаю, — вдруг призналась отроковица умиротворенным голосом. — Это аллергическое, реакция на перепад температур… Веди себя хорошо, Стас. Завтра я расскажу тебе историю про зимующую ласточку.
— А такие бывают? — спросил он.
— Бывают, — уже сонно отозвалась Женя.
Несколько минут потом он слушал ее легкое дыхание, перемежаемое восторженным чириканьем ласточек, и под эти звуки он скоро и незаметно уснул сам, хотя, казалось, ни на мгновение не терял ощущения реальности…
К концу второго дня Рассохин уловил сходство Лизы с матерью не только внешнее. Она оказалась достаточно скрытной и очень скупо рассказывала о себе, но даже по отдельным, случайно оброненным словам стало понятно, что сейчас она переживает кризис, в том числе и в чувствах. Ей, как и Жене Семеновой, надоело все, чему еще недавно радовалась, — Питер, работа, друзья, мужчины… И когда сбежал пятилетний сенбернар (она была уверена — поймали и съели китайцы), нахлынуло одиночество, из которого Лиза теперь стремилась вывернуться. И это, пожалуй, была основная причина, что она взялась за розыски матери.
В воскресенье вечером Рассохин собирался провожать Елизавету на вокзал, и в это время принесло Бурнашева — согласовать параметры кладоискательского аппарата ноу-хау. Увидев молодую и симпатичную, он тут же встал в стойку, потом засуетился, дамский угодник принялся отвешивать комплименты, разбавленные прозрачными намеками на их со Стасом отношения. И не ведая, кто она и зачем приезжала, даже задержать пытался, дескать, не боишься оставлять такого мужчину одного? Пока ездишь в свой Питер, уведут, за Рассохиным глаз да глаз нужен. Видишь, какой молодой? В общем, натрепал ворох слов, ввел в смущение Елизавету, разозлил Стаса и увязался с ними на Ленинградский вокзал.
А Рассохин решил перед самым расставанием все же открыть Лизе свою тайну, рассказать про многолетние мучительные сомнения, и про то, что мама ее все же не отличалась кротким нравом и целомудренностью. В общем, рассказать все как есть, чтобы вызвать у нее антипатию, неприятие, отторжение — отрицательные чувства, которые бы враз отмели мнимые надежды на будущие, пусть даже дружеские отношения. Он был уверен: Лиза ужаснется, услышав, как он стрелял в ее мать, и не захочет больше ни звонить, ни приезжать.
Бурнашев спутал все планы, ибо на вокзале от Лизы не отходил и что-то долго нашептал на ушко, когда садили в вагон. Потом поцеловал ручку, погрозил пальцем и, когда поезд тронулся, повертел им же у виска.
— Зачем отпустил, кретин? Такая женщина! А как на тебя смотрела! Надо было брать с ходу!
Бурнашев знал о Жене Семеновой лишь то, что было связано с кержацким кладом, а делиться делами сердечными Рассохин не собирался, да и случая не было.
— Она у тебя ночевала? — с пристрастием допрашивал он. — Ну и как?.. Ничего, или?.. Она вообще кто? И ведь промолчал, хрен моржовый! Праведник! Испугался отобью?.. А хороша! Давно таких не встречал!
— Это дочь Жени Семеновой, — признался Стас, чувствуя, как нереализованное желание исповеди подпирает горло.
— Той самой? С которой загорали? — блеснул Бурнашев памятью и глазами. — Во история! Ну и что? Мамка была старше тебя, а эта моложе. Как раз!.. Не комплексуй, балбес! У тебя же с мамкой ничего не было? Да если бы и было!..
— Я убил ее.
— Кого ее?
— Женю Семенову. Мать Лизы.
— То есть как убил? — ошалел Бурнашев. — Ты что мелешь?
— Из трехлинейки, в упор…
— Ты серьезно или прикалываешься? Рассказывай!
— Потом как-нибудь…
— Нет, заикнулся — говори!
— Не среди улицы же! — Рассохин огляделся. — Поедем на Карагач, там расскажу. Даже место покажу.
— Вот это праведник! — нарочито ужаснулся Кирилл. — Ничего себе заявления! И что? Срок отсидел?
— В том-то и дело, что нет… Ты хоть Саше не говори. Понимаешь, я сам до сих пор не уверен. Иногда накатит, думаю — наяву стрелял, а иногда сомнения, будто во сне видел. Уголовное дело возбуждали… Потом всю жизнь убеждали, будто мне это пригрезилось в бреду. Но убить хотел точно, это помню. И все, больше ни слова!
Бурнашев забыл даже, зачем приходил, нерешительно помахал рукой и стал спускаться в метро. Рассохин тоже забыл и вспомнил, когда ехал в троллейбусе, — согласовать параметры прибора.
Привычная еще со студенческих времен болтовня Бурнашева неожиданным образом вдохновила Рассохина, вернее, сняла некое табу, вставшее сразу же между ним и Лизой; невзирая на сходство, он вдруг перестал воспринимать ее как дочь Жени Семеновой — разъединил их, развел в разные стороны, и образ матери враз отдалился, а дочери — приблизился, перевоплотившись в другую, ни на кого не похожую, неповторимую и реально существующую женщину. Стас был даже благодарен Бурнашеву, что тот не дал возможности рассказать Лизе историю тридцатилетней давности, которая теперь уже казалась совершенно реальной.
Два дня, проведенные вместе, неожиданно и незаметно размыли, прорвали долгое ощущение собственной ненужности, пустив сознание по новому руслу, когда живешь в постоянном ожидании чего-то необычного: кажется, вот-вот отыщется все, что когда-то растерял, и это уже не будет мистикой либо чем-то фантастическим — как-то иначе стала восприниматься действительность.
Утром Лиза позвонила из Питера и после общих слов, вдруг называя на «ты», внезапно сказала фразу, заставившую его встрепенуться:
— Теперь знаю, я на свете не одна. Я верю, мама жива. Знаешь, что я хотела сказать, перед тем, как сесть в поезд? Но твой друг не дал…
— Что?
— Хотела сказать: это хорошо, что между тобой и мамой ничего не было. Иначе бы встал барьер. Теперь его нет!.. А я везучая!
Засмеялась и положила трубку.
Вечером она позвонила снова, уже с домашнего телефона, и они проговорили около часа, но уже почти не вспоминали прошлое — рисовали будущее, правда, каждый свое, но Лиза внезапно с женским просительным капризом сказала:
— А мне можно поехать с тобой в экспедицию?
— В качестве кого? — спросил Стас. — Вот если бы ты была специалистом, например, по древнерусской литературе. Или антикваром-оценщиком.
— Хотя бы поварихой!
— Мы сами готовить умеем.
— Ну неужели никак нельзя?
И тут Рассохина осенило:
— Можно. Только право участвовать в экспедиции придется заработать.
— Я готова! — воскликнула она. — Что нужно сделать?
— У вас в Питере есть профессор Дворецкий. Судя по всему, человек очень тяжелый. Он нам гадит всячески, пишет жалобы. И мы не можем получить разрешение в министерстве. Надо с ним познакомиться и узнать, отчего он такой злой. И сделать его добрым. У тебя получится.
— И это все?
— Мало? Тогда еще придется поработать в архивах.
— Исполню на счет «раз»! — вдохновленно и легкомысленно пообещала Лиза. — И тогда ты меня возьмешь?
Он еще не знал, какие слова и причины найдет, чтобы объяснить товарищам по экспедиции столь оригинальное решение — взять единственную женщину в мужской коллектив, но ответил не задумываясь:
— Возьму.
И позже, задним умом, отыскал аргумент: Лиза поедет не клады копать, а посетить места, где когда-то была мать, возможно, поискать ее следы — в общем, святое, неоспоримое дело.
На следующий день он отправился сначала в архив университета геодезии и картографии, наивно полагая, что там сохранились карты позапрошлого века с нанесенными на них старообрядческими поселениями. Карты были, причем весьма подробные, однако район Карагача представлял одно сплошное белое пятно — ни единого населенного пункта, за исключением Усть-Карагача да двух-трех охотничьих зимовий. Заручившись письмом ректора, Рассохин отправился в архив всезнающей и всемогущей организации — КГБ, где впервые услышал о селении кержаков, но никаких документов ему не показали, ссылаясь, что они есть в местных областных хранилищах и запасниках музеев. И еще посоветовали поработать в архивах Патриархии, де-мол, староверы — категория религиозная, можно сказать, противники современной православной церкви, и там наверняка сохранились исторические документы — следили же они за своими оппонентами.
Две недели, урывая время между лекциями, Стас рылся в папках «единиц хранения», проверял всякое упоминание о кержаках и их расселении в Сибири, и оказалось, что в открытых московских архивах ничего конкретного по Карагачу нет и искать надо в областных, на местах. У Рассохина руки опустились: вырваться даже на три дня, чтобы слетать в Новосибирск, Тюмень или Красноярск, было невозможно, и грядущее лето следовало посвятить не поиску кладов с книгами, а розыску информации по местоположению скитов.
После откровений на вокзале Бурнашев вопросов не задавал, однако стал смотреть на Рассохина как на больного, с неким состраданием. Он уже спаял аппарат, теперь проводил его настройку и испытания, закапывая в землю бочку с учебниками, старыми подшивками газет и кусками меди. Получалось очень даже неплохо: прибор хоть и был громоздким — для управления требовалось два человека, — но зато сканировал полосу в три метра и почти на два в глубину. Только вот искать еще было нечего… В Москве раздобыть информацию по карагачским скитам не удалось, в питерских архивах, где Елизавета зарабатывала право участвовать в экспедиции, тоже ничего существенного не было — везде кивали на регионы, мол, подобные малоценные материалы обычно хранятся там.
Стало понятно, что нужен еще один человек — вольный, ничем не обремененный казак, и Бурнашев предложил задействовать своего соседа, милиционера Галицына, розыскной опыт которого сейчас был кстати.
Тем паче полковник был отчасти посвящен в замыслы, поскольку плотно, на житейском уровне общался с Кириллом и назойливо предлагал свои услуги. Многое в нем годилось для предстоящего авантюрного мероприятия: пенсионер сорока восьми лет, прожженный опер, комбинатор и плюс к этому занимался зверовой охотой, рыбалкой, не боялся тайги и гнуса, мог спать у костров и единственный из всех имел весьма положительный опыт кладоискательства — у себя на дачном участке откопал уже с десяток екатерининских монет. Но то ли по природе, то ли от долгой службы в органах полковник любил похвастаться: чего стоило одно утверждение, будто полковник из рода князей Голицыных, мол, при Советской власти одну букву изменили. Иногда так и представлялся. Глядя на отца, сын его, Роман, тоже возомнил себя князем и, несмотря на молодость, со старшими вел себя высокомерно и снисходительно: через две минуты после знакомства стал называть Рассохина Стасом, а еще через три, узнав, что тот доктор геолого-минералогических наук, — «геолухом». За это пришлось оттянуть ему нос и сделать яркую «сливу» в присутствии отца. Парень на вид был крутой, горячий, но кожа у него оказалась нежная, как у девушки. Галицын, правда, извинился за отпрыска и построжился на него, но отношение уже сложилось к обоим «князьям». На проверку оказались Галицыны до седьмого колена крестьянского рода, да ведь старший всю жизнь намекал на свое благородное происхождение и получал дивиденды в виде незаслуженного уважения — приятели, в том числе и Бурнашев, и вовсе именовали его Князем, будучи уверенными, что это так на самом деле. А еще Галицын не по-княжески был говорлив, пристрастен к дармовщине и, будучи разведенным, не очень-то разбирался в женщинах и даже не брезговал услугами проституток, о чем не стыдился рассказывать.
Можно было бы простить ему многие слабости, но больше всего смущала Стаса темная житейская история Галицына, рассказанная его гарантом Бурнашевым. Жена полковника назанимала денег под проценты, создала что-то вроде «пирамиды» и скоро купила новую квартиру, джип мужу, дачу и даже свозила его в Индию, однако в результате села за мошенничество на долгий срок. Он же, многоопытный опер, будто бы оставался в неведении и даже не догадывался, чем занимается супружница и из какой тучи проливается на него эдакая благодать в полуголодные девяностые. Таким образом он не только остался на свободе, но и выслужил положенный срок, получил даже наградной пистолет за усердие и приличную пенсию. Правда, квартиру, автомобиль и прочее барахло отняли в счет погашения долгов, но дача, записанная на кого-то из знакомых, сохранилась. И вот, мол, от пенсионной скуки Галицын купил металлодетектор и, прозванивая свой участок, где теперь жил постоянно, обнаружил монеты, крестики, пряжки и прочую историческую мишуру.
История эта насторожила и озаботила Рассохина, однако Бурнашев стал просить за него, дескать, пропадает мужик, мается, не знает куда себя деть, ведь друзья растерялись, как только уволился из органов. Кроме того, вот-вот должна прийти из заключения жена, с которой он заочно развелся, и можно представить, какая у него начнется жизнь. И так уже пишет из лагеря угрожающие письма, мол, дачу отниму и вышвырну на улицу, за все ответишь. Выпивший полковник иногда становился откровенным и жаловался Бурнашеву, грозил застрелиться из наградного пистолета, ибо смысл жизни утратился вместе с потерей имущества и полковничьего положения — и во всем виновата жена-стерва, а Кирилл как многоженец его оправдывал.
Стас не соглашался брать Галицына и стоял до конца, но оригинально мыслящий Бурнашев был еще тот хитрован. Он отдал решение на откуп третейскому судье, коим сам назначил молодого участника экспедиции, и, главное, финансирующего Колюжного. Рассохин Славке доверял и согласился, а тот выслушал обе стороны и рассудил, что Галицын — самая подходящая кандидатура, и его качества пройдохи, оперативный нюх, умение быстро находить контакт как нельзя кстати.
Колюжный, получивший второе высшее образование в Англии, вообще не усматривал в истории полковника чего-либо предосудительного, ссылаясь на время, обстоятельства и смену нравов. В общем, Рассохина убедили, и Галицын, усвоив подробный инструктаж, что искать в архивах, вылетел в дальнюю точку — Красноярск, чтобы оттуда уже передвигаться на поездах по сибирским областным городам. Через несколько дней от него пошла положительная информация по верховьям Карагача. Самое интересное он сначала пересылал по факсу, но скоро материалов у полковника накопилось столько, что в этом потерялся смысл. Пронырливый опер спокойно попадал и в закрытые архивы, причем умудрялся выносить и копировать подлинники — без разбора, все подряд, следуя инструкции брать все, где есть упоминание о сибирских старообрядцах, местах их расселения и образе жизни. Вникать в смысл документов у него не было времени, да и специальных знаний явно не хватало. За двухнедельный вояж по городам полковник раздобыл полпуда всевозможных копий материалов — от дознаний жандармского управления до периода коллективизации в тридцатых годах прошлого века и, вернувшись, чувствовал себя героем.
Рассохину потребовался месяц, чтобы бегло прочитать все эти документы и на основе их составить карту со всеми скитами, поселениями и монастырями на Карагаче по состоянию на тридцатый год — далее их судьба резко обрывалась. Но сразу же встал вопрос разведки на местности, которую провести можно быстро и без особых затрат только весной, по высокой воде. За тридцать прошедших лет на реке могло многое что измениться, начиная от растительности, новых заломов и сор до направления русла и образования островов и прорв. Самое главное, что требовалось выяснить на месте, — какое, где и сколько населения обитает нынче по Карагачу, есть ли магазины и бензин, как относятся местные к пришлым, тем более к таким, кто что-то копает, достает и отправляет.
У Рассохина с Бурнашевым еще не закончился учебный процесс, в начале июня надо было принимать экзамены, Колюжный положил необходимые на экспедицию деньги на пластиковую карточку Рассохина и укатил в Бразилию до конца мая. И опять, как ни крути, вольным и подходящим оставался лишь Галицын. Вдохновленный первой успешной командировкой, он не только возгордился, можно сказать, вполне заслуженно, а стал замучивать советами, как следует организовать поиски и раскопки кладов, где в первую очередь искать и, судя по напору присущей ему безапелляционности, пытался поставить себя если не на первую, то уж точно на вторую роль, подминая под себя Бурнашева. А бизнесмена Колюжного он и вовсе сразу невзлюбил и даже попытался убедить Рассохина отказаться от его участия. Мол, этот денежный мешок нам не нужен, я готов продать дачу, все равно бывшая жена отнимет, или можно взять кредит, чтоб финансировать экспедицию. Сам же, отчитываясь за первую командировку, предъявил к оплате даже билеты для проезда на городском транспорте, все до единого, хотя хвастал, что как пенсионер МВД ездит бесплатно.
Все это сильно смущало Рассохина, ибо столь рьяное поведение могло вызвать раздор еще «на берегу» или еще хуже — посеять семя, которое прорастет на Карагаче. Плюс ко всему никто из участников даже не догадывался, что будет в экспедиции еще один участник — женщина, которая сейчас обрабатывала профессора Дворецкого и вела розыски в питерских архивах. Только по этой причине Стас не хотел отправлять полковника в разведку и давать ему возможность зарабатывать дополнительные очки, опасаясь, что он этим впоследствии непременно воспользуется. В любой экспедиции, как в тоталитарной партии, прежде всего должен быть единственный и непререкаемый вождь. Все остальное от лукавого.
Однако время поджимало, на Карагаче начиналась пора ледохода, соваться же без разведки — потерять время, деньги и надежду на успех. Рассохин стоял до последнего, ставя на кон даже свою работу в институте, но когда получил решительный отказ ректора дать отпуск за свой счет, вынужден был опять согласиться и послать Галицына. Самым весомым аргументом послужило то, что Галицын умел читать карты, хорошо по ним ориентировался, имел все прививки от клещевого энцефалита и наградной пистолет. А соваться весной в карагачскую тайгу, когда из берлог только что встали медведи, злые еще от бескормицы, неопытному и безоружному человеку довольно опасно.
В общем, Галицын вылетел в Сибирь еще в конце апреля, получив все рекомендации, инструкции, наставления и космический телефон Колюжного. Провожая его в аэропорту, Стас разглядел сквозь стенку рюкзака, откуда торчали телескопические удилища, очертания рамки металлоискателя — а был уговор, что все поисковое оборудование отправят машиной вместе с резиновыми лодками, моторами и прочим снаряжением.
— Это тебе зачем? — спросил Рассохин и постучал по рамке.
— Я с ним теперь не расстаюсь, — заявил полковник и полез доставать прибор, желая похвастаться. — Это моя самая клевая удочка!.. Сейчас, погоди… Полторы штуки баксов отдал!
— Оставь, я в них все равно ничего не понимаю, — махнул рукой Рассохин. — Но ничего не копай.
— Да я в разведку! Ну и аппарат испытаю. А то Кирюха напаял какую-то хрень, не утащить.
Галицын благополучно добрался до Усть-Карагача, где еще была мобильная связь, сообщил, что Юрку Зауэрвайна не нашел — где-то в Кемерово живет, но зато познакомился с его земляком, участковым, и совсем недорого арендовал лодку с мотористом по фамилии Скуратенко, закупил бензин, продукты и теперь ждет окончания ледохода и половодья. Кроме того, провел некие разведмероприятия в местной милицейской среде и выяснил, что по всей реке вплоть до Гнилой Прорвы — а это километров сто двадцать если по прямой (по кривой чуть ли не в три раза больше) — нет ни единого живого человека, впрочем, как и мало-мальски обжитого места. Все охотничьи избушки пожгли еще лет пятнадцать назад с ведома администрации лесной зоны, бывшей тогда в районе Кривозаломского урочища, дабы лишить беглых зеков пристанища во время побегов. Потом обе зоны, в том числе и женскую, ликвидировали, и будто бы от таежного пожара сгорел лагерь вместе с мертвым покинутым людьми поселком золотодобытчиков в урочище Гнилая Прорва. Авиалесоохрану разогнали, парашютистов уволили, и теперь лесные пожары никто не тушил. Но этой зимой некая китайская фирма готовила березу, поэтому выше урочища по зимнику завезла два вагончика для отдыха лесорубов, где сейчас оставлен сторож при валочной и трелевочной технике. Там есть запасы продуктов, бензин и даже радиосвязь. А еще выше, в предгорной части Карагача, на Сухом Заломе, и в самом деле живут две семьи, но промышляют теперь не охотой, ибо пушнина очень дешевая и никому не нужна, а сбором дикорастущих трав и пчеловодством, для чего в горах с альпийскими лугами поставили свою основательную базу — пасеку, омшаник[11] и две зимние хозяйственные постройки.
Собранная информация была очень ценной, поскольку за последние тридцать лет Рассохин ни разу не был в местах своей молодости и не имел представления, что сейчас творится на Карагаче. Галицын упорно зарабатывал очки.
Во второй раз он звонил уже с космического телефона, но все еще из Усть-Карагача. Сообщил, что ледоход в низовьях прошел, вода поднялась на несколько метров, но в верховьях еще не начинался, поскольку в горах, откуда река брала начало, плохо тает снег. Однако уже сейчас, по заверениям моториста, можно спокойно подняться до Красной Прорвы — это, считай, четверть пути, и там подождать пару дней, пока с гор не пойдет большая вода. По расчетам Галицына, прокатиться до Сухого Залома и обратно можно всего за восемь дней, учитывая все остановки и ночевки. Срок, в общем-то, вполне реальный, ибо в половодье опытные мотористы «резали» меандры[12] по затопленной пойме и объезжали заломы, сокращая расстояние раза в три-четыре. Рассохин дал добро на выезд — вероятно, полковнику уже не терпелось скорее тронуться в путь, однако он позвонил еще раз, на следующий день, и сказал, что получил новую, странную информацию: будто бы интересуемый участок земли в низовьях Карагача, близ Коренной Соры, где в двадцатых годах было скрытное поселение старообрядцев, находится в аренде у приезжего в те края частного лица — некого Сорокина. Будто он взял несколько гектаров молодого кедровника для орехового промысла и два пойменных озера для разведения карпов.
И все — сроком на сорок девять лет.
Рассохин хорошо помнил это место и, даже не будучи специалистом по разведению рыбы, понимал полную бессмысленность такого занятия на Коренной Соре. Во-первых, добраться к этим озерам можно лишь в половодье на водомете или зимой, пробив тракторную дорогу от Усть-Карагача; во-вторых, как можно запускать малька и выращивать карпов, если водоемы пойменные и каждую весну попадают под разлив? В озерах щучья — веслом не провернуть, и тут либо его выловить, что практически сделать невозможно, либо станешь кормить запущенной молодью хищников. Точно так же и с ореховым промыслом: на старых вырубах лесхоз садил кедр в семидесятых, и по-настоящему плодоносить он начнет как раз через полвека.
Нелепица какая-то. Или этот Сорокин опередил, точно зная, что может находиться в арендованной земле: по закону о собственности теперь он был вправе распоряжаться всем, что есть на этой территории. Кроме недр, разумеется…
Стас посоветовал полковнику посмотреть на месте, что к чему, возможно, поговорить с арендатором, если такового разыщет, а сам уже во второй раз принялся изучать копии архивных документов, где ему однажды мельком уже попадалась фамилия Сорокина, но особого внимания тогда не привлекла. Это могло быть простым совпадением, однако Рассохин уже во всем теперь усматривал скрытые закономерности.
Добытые Галицыным материалы он разделил на две части — до- и послереволюционные, чтобы не утонуть в их обилии и разноплановости. Особенно скрупулезно бывший милиционер копировал дела жандармского управления и полиции, которые к старообрядческим поселениям на Карагаче отношение имели косвенное, поэтому Рассохин в первый раз их только пролистывал, выхватывая глазом географические названия и реже фамилии. Сейчас он делал то же самое, но осознанно, и отыскал жандармского штаб-ротмистра Сорокина довольно скоро. Вероятно, тот руководил некой специальной операцией, которую проводил генерал корпуса жандармов Муромцев на территории Южной Сибири, давал задания и принимал сообщения от филеров, наблюдающих за передвижением староверов толка непишущихся странников, и более всего сам входил в среду старообрядцев и вел какие-то розыски. Было непонятно, с чем связано столь пристальное внимание жандармерии к бродячим, бездомным кержакам в районе Карагача, которые ходили с Урала до Дальнего Востока; не хватало некого важного звена, объясняющего, с какой целью Сорокин, изображая богатого странствующего старовера, сам ходил по скитам и под видом страждущих и убогих готовил и засылал в скиты и поселения своих шпионов. Потом же, на основании своего опыта и их доносов, составлял подробные, многостраничные отчеты, адресованные генералу в Петербург, но осевшие почему-то в Омском жандармском управлении.
Конечно, сибирские старообрядцы всегда испытывали враждебность к царскому режиму и никонианскому миру, однако же никого не трогали, в бунтах и революциях не участвовали, листовок не разбрасывали, а тихо жили в своих тайных таежных схоронах. Несколько раз филеры докладывали, что странники-староверы выносят из тайги добытую кержаками пушнину — в основном шкурки соболей, колонков и горностаев, — которую потом по своим каналам переправляют богатым московским купцам-единоверцам. Дважды в отчетах фигурировали изделия из золота и серебра, отнятые у странников во время задержания. То есть причина слежки могла быть экономической, однако в отчетах Сорокин лишь упоминал о контрабандной пушнине, а все свое внимание акцентировал на выявлении связей странников с карагачскими поселениями кержаков и, скорее всего, пытался установить их местоположение.
И только прорабатывая эти документы в третий раз, Рассохин наконец-то отыскал логические неувязки и пробелы. Мало того, нашел множество недостающих страниц, изъятых из жандармских дел, прошитых, пронумерованных аккуратными чиновниками управления и скопированных Галицыным. Пропустить их или смошенничать полковник не мог, ибо вынесенные из архива бумаги не читал, некогда было, а тупо пихал в ксерокс, приобретенный для этой цели, и бежал с оригиналом в архив. То есть получалось, что очень важные, объясняющие логику поведения Сорокина страницы изъял кто-то раньше. Скорее всего, это был сам жандарм, возможно, накануне Февральской революции или сразу после нее: последние донесения филеров были датированы концом шестнадцатого года.
Разумеется, надо было еще раз заново перечитать все документы, чтобы найти некие намеки, отзвуки тщательно скрытой цели слежки за толком молчунов, сделать запросы и установить, имеет ли родственное отношение жандарм Сорокин с арендатором Сорокиным, однако текущие события начали развиваться неожиданно и стремительно.
В очередной раз Галицын связался с Рассохиным, когда пробился на лодке сквозь Коренную Сору к высокой террасе, на которой когда-то и было поселение. Он обнаружил очищенный от мелколесья пятачок, кучу нарубленных жердей, старое кострище, колышки от палатки, десяток стреляных гильз от автомата или карабина СКС и покосившийся, верно, поставленный прошлой весной, аншлаг.[13] На крашеном жестяном квадрате было написано, что урочище Коренная Сора принадлежит «ООО Кедры Рода» на правах долгосрочной аренды. Рассохин попросил сделать фотосъемку остатков становища, если таковые имеются, — ямы от подполов, хорошо зримые, пока нет свежей травы, контуры поселения, особые приметы, по коим можно опознать место в буйстве зелени и продолжать маршрут. Впереди еще было два десятка подобных кержацких станов и скитов, вернее, оставшихся от них следов на таежной земле, и то, что первая оказалась занятой, большого значения не имело. Полковник должен был в тот же день добраться до Красной Прорвы и там встать на ночлег, чтобы с утра обследовать высокий материковый берег, мысом выдающийся к реке, а с тыльной стороны отрезанный залитыми сейчас верховыми болотами. Место, прямо сказать, прекрасное в отношении ландшафтов, но недоступное, полностью отрезанное от мира, пожалуй, месяцев одиннадцать в году. О результатах Галицын обещал доложить, однако не позвонил ни в назначенный день, ни на следующий.
Рассохин не паниковал и поначалу думал, что возникли проблемы со связью: если для Колюжного космический телефон был чем-то вроде зажигалки, то для полковника, привыкшего к милицейской рации и едва освоившего мобильник, малейший пустяк мог оказаться роковым. Например, забыл выключить питание и посадил аккумулятор или по неосторожности уронил в воду, нажал не ту кнопку, заблокировал клавиатуру и теперь не может разблокировать. В любом случае Галицын, зная задачу, поднимется до Сухого Залома, разведает и отснимет все точки и через восемь-десять дней вернется в Усть-Карагач, откуда можно звонить по сотовому. Однако полковник объявился раньше. Позвонил сначала Бурнашеву, потом Рассохину, говорил восторженно и взахлеб, описывал красоты реки и Сибири, мол, познакомился с удивительными людьми, которые тайно живут на Карагаче, себя называют общиной, и это в основном женщины — где-то около сорока человек, а мужчин с ними всего дюжина, да и те какие-то малахольные. Мало того, полковник наконец-то встретил женщину, о которой всю жизнь мечтал и теперь вообще готов остаться здесь навсегда и прожить еще одну, богатую и содержательную жизнь.
И при этом торопил, чтобы приезжали скорее.
Стас Галицына знал плохо и оценить его столь неожиданное поведение не мог, но Бурнашев, живший с ним по соседству много лет, от восторженных речей полковника таращил глаза, недоуменно дергал плечами и не мог даже вообразить, чтоб циничный, искушенный человек так проникся романтическим духом и как подросток разинул рот от восхищения.
— Ты во что меня втравил? — вдруг спросил Бурнашев. — Что за дурдом?
— Я тебя втравил? — возмутился Рассохин. — А кто от жены собирался отдохнуть? Кто вообще придумал эту экспедицию? Кто автор идеи?
— Нет, я про то, что Карагач — место какое-то…
— Какое?
— Там люди конкретно дуреют! — рубанул Кирилл. — Я еще не отошел от твоего заявления на Ленинградском вокзале!.. Ну, по поводу убийства. А тут на тебе — мент с роликов соскочил! Там хоть что, на твоем Карагаче? Аномалия?
— На нашем Карагаче…
Бурнашев опомнился и слегка умерил пыл:
— Слушай, что там творится? Ничего не понимаю…
— Я не хотел посылать туда Галицына — ты настоял.
— Теперь я виноват!..
— Аппарат отдай и сиди под юбкой своей Сашеньки!
— Ну уж хрен! — захорохорился Бурнашев. — Мне теперь просто интересно, отчего там крыша едет! Даже у ментов!
— Он не прикидывается?
— Кто? Галицын? Да ну!
— Может, дурака валяет из конспиративных соображений?
— Я бы это понял! В том-то и дело, что говорит натурально!
Но это было лишь начало.
Еще через пару дней Галицын позвонил Колюжному, которого еще недавно терпеть не мог, и предложил немедленно выезжать на Карагач со всем экспедиционным оборудованием, де-мол, пусть «деды» канителятся и кряхтят, мы с тобой начнем поиск и раскопки, пока большая вода. И опять расписывал красоты местных ландшафтов и женщин. Короче, завлекал навязчиво и грубовато.
Рассохин ощутил назойливую и саднящую, как лопнувшая мозоль, тревогу. Снова сошлись на тайную от жены Саши сходку с Бурнашевым, посовещались, позвонили в Бразилию и решили, что отвечать за все придется все-таки Стасу как инициатору и знающему местные условия и нравы человеку. Закончив все формальности в министерстве и не дожидаясь конца занятий и экзаменов, он должен написать заявление об уходе и выехать на Карагач. Остальные выдвинутся после того, как освободятся и получат добро от Рассохина.
Он же не просто не жалел работу, коллектив, а жаждал избавиться от обузы каждый день приводить себя в порядок и ходить в институт читать лекции. Его подмывало тотчас бросить все и лететь в Сибирь, но он все-таки решил дождаться решения Министерства культуры, где пока что безуспешно хлопотал выдачу разрешительного письма на проведение экспедиции. Ехать дикими черными копателями Рассохин не собирался, и не потому, что был настолько аккуратным и законопослушным; важно было получить хоть какой-нибудь статус, способный прикрыть его и от местных властей, и от археографической науки, перед которой еще в марте он раскрыл свою концепцию и замысел предстоящей экспедиции. И получил неожиданный резкий и ничем не обоснованный отказ в согласовании, а чуть позже — запрет производить любые работы на территориях бывших староверских скитов и поселений. Строгие бумаги подписал уже знакомый по научным работам профессор Дворецкий, будто бы самый авторитетный ученый в области археографии в Питере. Мало того, он еще написал письма в Академию наук и Генеральную прокуратуру, в которых заклинал не пускать Рассохина на Карагач, и совершенно необоснованно подозревал его во всех смертных — дескать, он выкопает древние бесценные книги и продаст с аукциона за рубежом.
Елизавета уже более месяца обхаживала этого Дворецкого, но результатов пока не наблюдалось. Она довольно просто с ним познакомилась, разыскав профессора в университете, где он преподавал. Побеседовала, показав редакционное удостоверение и представившись журналисткой, что отчасти было правдой, и он среагировал положительно. По крайней мере, не обласканный прессой, с удовольствием рассказывал о своих трудах, концепциях и взаимоотношениях с Академией наук, показывая пачки писем. Впечатление у Лизы складывалось удручающее: Дворецкий, скорее всего, по природе был склочный и склонный к интригам человек, конфликтовал с коллективом, всюду писал жалобы, однако при этом и в самом деле был непревзойденным специалистом-археографом, знатоком жизни и культуры сибирских старообрядцев и автором неких концептуальных версий относительно письменного наследия Кушанского царства и Древней Руси, которые шли вразрез с официальной наукой. Иногда его привлекали в качестве эксперта, если хотели погубить что-нибудь новое и непонятное, что, собственно, и произошло с запиской Рассохина, попавшей в руки Дворецкого.
— Ты знаешь, что такое Стовест? — спросила однажды Лиза.
— Не имею представления, — признался Рассохин.
— А собрался на Карагач клады копать! Стовест — это какая-то древняя книга, которую всю жизнь ищет профессор.
— И пусть ищет, главное, чтобы нам не мешал!
— Ты не понимаешь, это уникальная древнейшая рукопись. Точнее, список с еще более древней! И он попал к нам в Россию.
— Знаешь, Лиза, искать книги для меня не самоцель, — признался он. — Просто очень хочется побывать на Карагаче. Но без заделья не могу, я не турист, чтоб просто красотами любоваться.
— Кстати, а я и вовсе хочу просто посетить места, где исчезла мама. И поискать ее следы.
— Тут наши дорожки и сошлись!
— Между прочим, Михаил Михайлович очень интересный человек, — вдруг заявила Лиза, хотя еще недавно утверждала обратное, — только его не понимают. Он такой рассказчик и столько знает! Он меня опять так увлек историей!..
— Особенно-то не увлекайся, — проворчал Стас. — Я ревную.
— Да ты бы его послушал! Оторваться невозможно. Поэтому студенты его любят. Он блестящий импровизатор!
В министерстве Дворецкого знали и серьезно к нему не относились — упоминали о каких-то его невероятных версиях и проектах, которыми он заваливал чиновников, Академию наук и Госдуму, к тому же требуя денег на реализацию своих замыслов. Однако и предложение Рассохина с подачи профессора встретили неоднозначно: не знали, к какой категории отнести — к археологии или археографии? Можно и нужно ли выдавать Открытый лист на проведение работ хоть и ученому, доктору наук, но совсем из другой сферы — геолого-минералогической? Его записку носили по кабинетам, обсуждали, во многом соглашались с автором, иные считали авантюрой и профанацией, а некоторые все же искренне хотели помочь, тем паче Станислав Иванович не просил ни одной государственной копейки. Это и послужило основанием решить вопрос положительно, предварительно разделив шкуру неубитого медведя — взяли суровую расписку, что все найденное в кержацких кладах Рассохин в обязательном порядке сдаст Академии наук, и нашли компромисс: выдали такое изощренное хитросплетение слов и фраз, что можно легко отбрехаться в случае чего — в общем, отписку, ничего не запрещающую, однако же и мало чего разрешающую.
Добиваться конкретики уже было некогда, поскольку из Усть-Карагача последовал неожиданный звонок, на сей раз от местного участкового милиционера по фамилии Гохмаи, которому предусмотрительный полковник оставил телефон Бурнашева с просьбой позвонить, если он не вернется к сроку.
Неподалеку от Усть-Карагача в залом прибило дюралевую лодку, на которой Галицын с мотористом Скуратенко ушли вверх по реке. Мотора не было, вещей тоже, а сама лодка прострелена и порублена топором. Бурнашев расспросил участкового, ведется ли розыск пропавших, какие меры принимаются, но тот согласно знакомым карагачским нравам заявил, дескать, у нас тут закон — тайга, медведь — прокурор. Мол, ваш московский полковник больно шустрый был, да и Скуратенко лихой парень. Должно, нарвались на кого со своим гонором и обоим пришел кирдык. Искать их теперь не на чем, исправных моторов нету, бензина нету, вертолетов уже двадцать лет в глаза не видели. Вещдок — простреленную лодку — и то не на чем вывезти с реки, грузовиков нет. Дескать, факт пропажи людей зафиксировали, может, еще сами объявятся. Хотя теперь уж вряд ли: вода нынче дурная, и добро, если в межень прибьет к залому. А в пойму утащит, так зверь на тухлятину выйдет, пожрет…
После таких известий Рассохин в тот же день написал заявление об увольнении, собрался и вылетел в Сибирь.
В тридцатом году прошлого века ясным летним днем над Карагачем пролетел первый аэроплан, немало перепугав тогдашнее кержацкое население. Гонимые скитники однозначно решили, что железная тарахтящая птица в небе появилась как предвестник конца света, и стали к нему готовиться. Тогда они еще не знали, каким он, конец, будет, посему наделали себе домовин, в том числе и малым детям, и с той поры спали в них, скрестив на груди руки и прочитав на сон грядущий заупокойную.
Однако светопреставление началось только зимой, когда на реке встал прочный лед и открылся санный путь. Специальный отряд НКВД, сопряженный с представителями местной власти, приступил к ликвидации последних лежбищ недобитых белобандитов, нашедших пристанище в потаенных старообрядческих скитах, монастырях и поселениях, разведанных летом с аэроплана. Это была официальная версия того карательного похода по Карагачу.
Будучи сами гонимыми вот уже триста лет, кержаки принимали у себя и давали кров всем прочим гонимым — независимо от веры, убеждений и образа жизни. Кроме того, староверы умышленно прятались по лесам, не желали подчиняться Советской власти, участвовать в строительстве светлого будущего, тем самым подавая дурной пример местному населению, сгоняемому в колхозы, — в стране полным ходом шла коллективизация. Каратели использовали уже проверенную тактику обметного невода: заехали через горный перевал к истоку Карагача и двинулись вниз по течению, точно зная, что рыба всегда устремляется против него и попадает в кошель. А недалеко от устья, в районе Красного Залома, были выставлены засады, секреты и заслоны, чтобы отлавливать самых хитрых беглых раскольников, норовящих миновать обмет.
В горных поселениях конный отряд появился внезапно, поэтому ни убежать, ни спрятать свои драгоценности кержаки не успели. Молодые крепкие староверы были на промысле, ибо в разгаре ловчий соболиный сезон, и на становищах оставались в основном старики, женщины да ребятишки. Бойцы брали их тепленькими, выводили из домов, в первую очередь отнимали оружие — все, вплоть до старинных фузей, рогатин и ножей, — и выгоняли скот. Ценности и особенно старинные богослужебные книги реквизировали, после чего избы и хозяйственные постройки поджигали. Людей же с крупным рогатым скотом сбивали в колонну или обоз, у кого были лошади и сани, и небольшими партиями, малым ходом, по льду, гнали в сторону Усть-Карагача. И чем дальше уходили вниз по реке, тем более разрасталась эта медленно бредущая, давно готовая к концу света и самоотпетая лавина раскольников, и тем чаще полыхали за спинами потаенные скиты и деревни.
Однако от Сухого Залома молва о нашествии «анчихристов» уже летела впереди, и кержаки помоложе, дабы спасти себя и свою веру, бежали в урманы и болота, но оставшиеся старики, женщины и дети совершали деяние неслыханно греховное, непотребное — предавали книги и иконы земле, с отпеванием, как покойников, и хоронили иногда в долбленых для себя колодах. Но чаще засмаливали в бочки, наскоро копали глубокие ямы в подполах — мерзлоту было не взять — и зарывали. А если совсем недоставало времени, то снаряженные бесценным священным добром бочки попросту топили в озерах, привязав камень или мешок с песком. И даже просто зарывали в снег. Выносить из домов книги и иконы каратели не позволяли, и кто не успевал спрятать, тот страдал еще пуще, чем страдал бы от собственной смерти, ибо все это отнимали силой, пересчитывали, составляли опись и сдавали в обоз.
Однако улов был настолько малым, что каратели свирепели и сначала допрашивали стариков, где книги и ценности и куда спрятались бандиты, после чего пытали уже всех подряд. Несколько человек, в том числе женщин, избили до полусмерти, а одного немолодого кержака, вышедшего с вилами, застрелили и спустили под лед. В то время на Карагаче еще существовал старообрядческий толк молчунов — тогда еще их так называли; эти самые ярые приверженцы древлего благочестия даже под пытками не открывали ртов, не плакали и не стонали, даже дети, и это еще больше бесило энкавэдэшников.
И все же главной добычей этой обметной ловли, где крылья невода должны были схлопнуться, оказалось мало чем примечательное для стороннего глаза место в среднем течении Карагача, называемое Зажирная Прорва. Там староверы издавна наладили литье медных складней, крестов и крестильных крестиков, разносимых потом странниками по всей Сибири. В потаенных кедрачах, в глубокой, пробитой в известняках норе-пещере стояло несколько печей, работающих на березовом угле, с искусными дымоотводами, чтоб дым рассеивался даже в морозную погоду, а вокруг, на поверхности, жили литейные мастера и горшечники, которые кроме посуды лепили и обжигали керамические формы или вытачивали их из камня. Особой художественностью и изяществом эти поделки не отличались, однако в позапрошлом веке, когда стал иссякать источник самородной меди, приносимой сюда алтайскими староверами, карагачевские умельцы стали использовать подручный материал — золото, которое мыли на только им известных россыпях, причем в значительных количествах. Этот металл кержаки по старинке называли в своем кругу жиром, поэтому и залом близ становища литейщиков стал называться Зажирным — для стороннего уха звучание этого слова никак не сочеталось с драгоценным металлом.
Первые упоминания о золоте Карагача появились еще в середине девятнадцатого века. Полицией купеческого города Томска был схвачен старовер толка непишущихся странников, при котором обнаружили восемь фунтов золотых изделий в виде литых старообрядческих крестов, нательных образков и ладанок, о чем было доложено генерал-губернатору и получено распоряжение провести самое тщательное следствие о происхождении изъятых драгоценностей. Допрос с уговорами и пытками ничего не показал, кержак хранил молчание, но при тщательном осмотре его одежды нашли письмо, писанное на тонком берестяном листке и искусно спрятанное в голенище кожаного сапога. Некий Анкудин, сын Пименов с Карагача, просил кержака Иринея Замятина отдать за него свою дочь Евдокию, которой посылал нательный золотой образок: мол, коли согласен, то пусть же Мелентий-странник на обратном пути означенную девицу и приведет ему в жены. У старообрядцев была вечная проблема с женитьбой: не хватало невест и опасались греховного кровосмешения.
Так впервые золото соединилось с рекой Карагач. Следствие по этому делу длилось чуть ли не до революции — верно, Анкудин успел жениться на Евдокии, нарожать детей и умереть; и дети его повзрослели, а полиция вкупе с жандармами все еще рыскала вдоль строптивой сибирской реки с не менее строптивым, тайным ее населением, и никак не могли выйти ни на кержацкий прииск, где, по подсчетам, добывалось не менее трех пудов золота в год, ни на литейное производство. С началом Первой мировой войны дело это было отложено и, похоже, потом забыто и списано в архив, где и кануло на долгие годы, обратившись в устное предание о том, что на Карагаче когда-то мыли золото, но не промышленным, а старательским, лоточном малопродуктивным способом.
Вероятно, командиры карательного отряда НКВД об этом знали и невод свой заводили так, чтобы Зажирная Прорва с ее ювелирами и литейками оказалась в самой середине и никто не выскользнул. Однако и здесь надежды не оправдались: добычей стала какая-то мелочь в виде золотого мусора, который получается при отливках, да горсть неплавленого песка. Мастера успели все попрятать, в том числе формы и инструменты, и еще снесли до основания печи, а вход в литейку подорвали артиллерийскими снарядами — это и послужило доказательством, что кержаки принимали и прятали у себя остатки белогвардейских банд.
С жителями Зажирной Прорвы поступили как с врагами и даже в плен не взяли: всех взрослых мужчин после долгих и бесполезных допросов и пыток — требовали указать россыпи — отвели подальше, расстреляли и спустили под лед; стариков, детей и женщин повели в Усть-Карагач отдельной колонной и пешими по глубокому снегу.
И мало кто одолел эту дорогу…
Добыча карательного отряда к концу этого замета оказалась совсем уж невеликой: судя по царским еще подсчетам, на Карагаче проживало более тысячи кержаков, не считая странствующих. А привели чуть более трехсот, да и то в основном женщин, детей и стариков, с которыми возни больше, чем пользы.
Скот и лошадей обобществили и передали в местный колхоз, реквизированные книги и ценности, что не осело в карманах карателей, пошли в доход государства, а что делать с кержачками и их детьми — сразу решить не могли. Их сначала не разлучали и поселили в бараках Усть-Карагача под строгую комендатуру. Однако ночами из тайги стали являться их беглые либо бывшие на промысле мужья, отцы и братья, и каждое утро на перекличке ссыльно-поселенок недосчитывались. Похищали их настолько дерзко, внезапно и безвозвратно, что ни одной потом не нашли. Оставшиеся, конечно же, все видели и знали, но молчали и наверняка еще способствовали побегам. И вот тогда в одну ночь у староверок отняли детей, посадили на баржу и увезли в некий приют для воспитания из них советских граждан, а вскоре и женщин с оставшимися стариками переправили сначала будто бы в Мариинск и оттуда железной дорогой на строительство какого-то канала.
Но кержаки продолжали ходить ночами в Усть-Карагач и искать своих жен, сестер, дочерей и сыновей. Поселок тогда был еще волостным центром, с исполкомом, милицией, комендатурой, открыли даже три школы — две для детей и одну для неграмотных взрослых. И вот сначала начали пропадать молодые учительницы, присланные из Томска, Кемерова, Новосибирска и прочих городов Западно-Сибирского края. Будто бы ночью неизвестные бородатые мужчины неслышно забирались в учительскую избу, накидывали на несчастную девушку тулуп, заворачивали и уносили, а иногда учительниц средь бела дня хватали прямо на улице, садили в сани и увозили. Грешили на кержаков, мол, женщин у них угнали, вот они и воруют себе жен в Усть-Карагаче и уводят в свои тайные таежные берлоги. Но был слух, что молодые девчонки сбегали сами, поняв, в какую каторжную глухомань они угодили. По крайней мере, не раз высылали погоню и лишь единожды отбили учительницу: оказалось, верно, кержак унес, и когда его окружили в тайге, как зверя, он отпустил девчонку, а сам утек. Она была хоть и молодая, но рослая и полная, пудов на шесть, так этот похититель взвалил ее на горб, как мешок, и пробежал так на лыжах верст двадцать, прежде чем его настигли! Учительница потом рассказывала: руки у него, как у медведя, облапил так, что не шевельнуться было, сначала еще кричала, а как в лес утащил, что проку голосить? Ну и ехала у него на спине молча, потом даже понравилось, ибо где на Карагаче взять такого крепкого мужика, чтоб на руках носил?
А в разлив, сразу после ледохода, подожгли сразу исполком и милицию, стоящие на берегу, — свидетели видели двух бородатых на обласах, приплывших сверху. После этого пустили вооруженную пулеметом погоню из пятерых опытных милиционеров, выросших на Карагаче и хорошо его знавших. Они поднялись далее Красного Залома, почти настигли поджигателей и даже вступили с ними в перестрелку, но что произошло далее, так никто и не узнал. Через двое суток всех пятерых нашли в заломе без единой царапины, и обласа прибило целехонькими, только затопленными, и даже пулемет оказался в одном из них…
Вот тогда и заговорили, что гонимые кержаки то ли прокляли путь по реке, то ли заклятие поставили, сказав, что новой власти никогда более не ходить по Карагачу, а кто пойдет, тот уж назад не вернется.
Большевики в предрассудки не верили и поскольку жиру на реке не взяли, разорив скиты, узрели иную, ясно видимую драгоценность — лес, в основном кедровый, ибо советские люди массово овладевали грамотностью и требовалось неимоверное количество карандашей, которые в то время делали практически только из этой мягкой, поддающейся перочинному ножу древесины кедра. В Усть-Карагаче начали строить завод по производству карандашной дощечки, а в далеком Томске — фабрику, откуда на лето и привезли полсотни комсомольцев, студентов индустриального техникума. Цеха завода заложили на самом берегу и тут же поставили палаточный городок, в котором и жили молодые строители.
В первую ночь бесследно исчезла двадцатилетняя студентка, но так как платье нашли на берегу, решили, что она пошла ночью купаться и утонула. Однако еще через несколько дней пропали сразу три девушки, вместе с комсомольским вожаком Раей Березовской, и опять будто бы видели обласа с бородатыми на реке. Городок строителей взяли под круглосуточную охрану, по реке выслали поисковый наряд, который будто бы настиг похитителей и чуть не отбил девушек. Но злобные кержаки бросили Раю Березовскую в воду с камнем на шее и сказали, что перетопят всех, если погоня не отстанет. Милиционерам пришлось отказаться от преследования, они вернулись в Усть-Карагач и рассказали историю, как погибла комсомольская вожачка. Правда, ее тело потом долго искали в реке, не нашли — верно, замыло, но именем Раи Березовской назвали улицу в Усть-Карагаче, посадили аллею и даже соорудили символическую могилу с крашеным гипсовым изваянием, выполненным каким-то знаменитым скульптором. Кто знал ее, говорили — как живая.
Завод построили за лето и запустили, но через несколько лет весь кедрач, что был поблизости от поселка, вырезали, пустив на карандаши. Фабрика же в Томске только-только набрала мощность, и стало не хватать дощечки, вот тогда и решили сделать Карагач сплавной рекой. В среднем и нижнем течении он хоть и был равнинным, неспешным, извилистым, но начало брал с гор и, несмотря на обманчивый сонный нрав, сохранял характер горячего, вольнолюбивого горца. Следовало обуздать и поставить под седло этого необъезженного скакуна: взорвать и растащить заломы, заковать в обоновку и пустить молевой сплав, затянув устье петлей сортировочной запони. Там уже набивать кошели и водить их далее по Чилиму, куда впадал Карагач, до железной дороги.
Лес по высоким террасам и материковым берегам был нетронутым, первозданным, с реликтовыми борами, массивными кедровниками, это не считая елово-пихтового чернолесья — за полвека не выпилить. По Чилиму пришел паузок[14] со взрывчаткой, пригнали заключенных, зарядили первый малый залом недалеко от устья, рванули — и получилось. Правда, дно подзасорили топляком, но брешь в плотине пробили значительную. Что течением не снесло, растащили воротами и русло в этом месте очистили. Следующим на очереди был Красный Залом, по кубатуре замытого, напластованного веками леса и коряжника раз в сорок больше прежнего. Заположили сто пятьдесят пудов аммонала, отвели подальше спецконтингент и бабахнули от души. Кедры в три обхвата вместе с корневищами, сорокаметровые сосны с кронами разметало на полверсты, плотина рухнула, и возникшая от перепада уровня воды двухметровая волна, насыщенная битой древесиной, понеслась по руслу, докатилась до пришвартованного к берегу паузка со взрывчаткой, опрокинула его и поволокла вниз по течению. А стронутый с векового места лес, в основном топляк, не просто разнесло по реке, но вперемешку с текучим донным суглинком туго набило в горло первого взорванного залома и запечатало его наглухо, образовав настоящую подпорную плотину — хоть электростанцию ставь! Местные жители несколько дней черпали сачками оглушенную нельму, пока она не завоняла, после чего на заломе открыто поселилась семья медведей, пришедшая на запах падали, и кормилась, пожалуй, месяц, отпугивая всех встречных и поперечных.
Аммонала больше не было, поскольку оставшийся затонул и замылся в новообразовавшийся полукилометровый залом вместе с паузком. Заключенных угнали на лесоповал, ибо надеялись на молевой сплав и заранее готовили лес на нижних складах. Работы по очистке прекратили до следующего половодья.
Весной же пригнали еще один паузок с водостойкой взрывчаткой. На сей раз военные саперы щедро и по науке зарядили залом, и так уже поджатый напором льда, отвели подальше все, что может пострадать, и покрутили взрывную машинку. Земля вздрогнула так, что начали валиться подмытые берега, закачались прибрежные деревья, в крайних избах Усть-Карагача вылетели стекла, гигантский столб воды вперемешку с грязью и рваной древесиной взмыл к небу сажень на сто, но когда все улеглось, залом оказался на месте и разве что стал ершистым от вздыбленных карчей. Мало того, песчаные и суглинистые яры, рухнув в воду, были вынесены к залому и на нем осели, образовав теперь уже водонепроницаемую плотину, армированную лесом. Ниже весенняя река начала мелеть, а выше разлилась таким половодьем, что затопило даже высокие беломошные боры. Вода гигантским потоком переливалась через гребень, образуя невиданный в этих краях семисаженный водопад, и теперь не то что зарядить, но и подступиться к залому было невозможно.
В это же время началось резкое таяние снега в горах, уровень зеркала подскочил сразу на несколько метров, под воду ушел лесной лагпункт, много заключенных потонуло, спаслась лишь пятая часть — кто успел выскочить из барака и забраться на деревья.
Но самое главное — затопило нижние склады, где лежал подготовленный к сплаву, но еще не спущенный лес. Штабеля бревен подняло, рассыпало и повлекло вниз к образовавшейся плотине. Стоящий торчком коряжник не позволил баланам[15] преодолеть водопад, кедровый ассортимент в считаные часы набило так, что вырос над водой нерукотворный деревянный мост, от которого на десяток верст встал молевой,[16] плотный затор. Пропустить его через залом уже было невозможно, многие тысячи кубов высокосортного кедра, сосны и пихты были загублены безвозвратно. Начальник лесного лагеря, он же начальник заготовительного пункта, застрелился, когда приехали арестовывать; следом за ним повесился только что назначенный начальник лесосплава, который в общем-то был невиновен, а командир саперов, руководивший взрывными работами, выдал продукты личному составу, встал на лыжи и ночью по насту ушел в неизвестном направлении. Говорят, спрятался у кержаков, принимающих всех гонимых…
Упершись в плотину, Карагач словно размышлял несколько дней, подтапливая высокую террасу, затем выбрал неожиданное направление и двинул свои воды через песчаный материковый берег, через древнюю пустыню, где заметно прослеживался дюнный ландшафт, покрытый корабельной сосной. Причем, будучи верен характеру своему, пошел поперек: говорят, сначала между песчаными, замшелыми волнами появилась вода — долгая цепь небольших луж, которая, как ни странно, не стекала по прогибам, а накапливалась — размачивала песок, заставляя его оплывать и просаживаться. То, что совершили древние ветра, за тысячелетия нагромоздив пятисаженные валы, воды Карагача в считаные дни раскиселили, разжижили в текучий плывун, и по нему, как по проторенному следу, с горским нравом устремила река всю свою скопившуюся мощь. Новое русло пробилось всего за одну весну, причем широкое, полноводное, с высоченными ярами по обеим берегам, что бывает весьма редко на равнинных реках. В Чилим вынесло столько песка, что при впадении посередине реки образовался высокий остров. Устье отодвинулось на пятнадцать верст от села Усть-Карагач, и его стали называть Белоярская Прорва — красивее ее было не найти по всей Сибири: течение медленное, вода зеркальная, голубая, на белые берега глянешь — шапка валится. Но Карагач не изменял себе: снесенный по пути столетний сосняк малой частью уплыл в Чилим, а большей — набился в новый залом, который и перегородил прорву раз и навсегда, причем неподалеку от устья, будто выставив заслон на пути всех, кто пожелает без трудов и забот пройти водою в глубь карагачских дебрей. И если на иных заломах, даже самых долгих и высоких, можно было обтащиться низким пойменным берегом, что и делали местные жители, когда отправлялись вверх по делам ловчим и шишкобойным, то здесь из-за могучих и почти отвесных крутояров такой способ не годился.
Кержацкое заклятие все еще держало реку…
Чтобы взять древесину в недрах тайги, прорубили широкую просеку по берегу, с началом зимы намораживали ледяную дорогу и лес вывозили на специальных розвальнях с подсанками,[17] запряженных парой быков. Во время войны на лесосеки стали присылать колхозниц из далеких колхозов, поскольку мужиков забрали на фронт, и тотчас опять начались похищения девушек и женщин. Жили они на лесоучастках, разумеется, без охраны, и пропадали не только из бараков по ночам, но и днем, прямо с лесосек, чаще совсем молоденькие и парами, поскольку деревья валили по двое лучковыми пилами. Бывало, обомнут снег вокруг сосны, запилят на вершок и пропадают, оставив лучок в резе. И ни следов тебе, ни лыжни — словно по воздуху улетают! Несколько раз следствие наводили и пришли к заключению, что колхозницы попросту сбегают от непосильной трудовой повинности, ибо двух или трех потом обнаружили в своих колхозах, а винят во всем незримых и явно не существующих кержаков. Говорят, за военные годы на Карагаче бесследно исчезло более двадцати незамужних девиц, солдаток и вдов. И только одна вернулась — будто бы вырвалась от староверов и, умея хорошо бегать на лыжах, добралась до лесоучастка. По рассказам, была она в какой-то старинной одежде, на шее золотой крестик, под шалью платочек кашемировый, но видно, от страданий на голову ослабла, заговаривалась, хохотала беспричинно или плакала, жалея какого-то Дорю, за коего будто бы была отдана замуж. Ее поместили в районную больницу Усть-Карагача, лечили и осторожно допрашивали. Будто она первая и назвала имя Раи Березовской, которую знать прежде никак не могла и которую будто видела на тайном становище кержаков. Мол, у нее уже трое детей, четвертым беременна, никуда отсюда уходить не хочет и ей не советовала.
Столь странное заявление посчитали за бред душевнобольной и не поверили…
В конце войны всех женщин убрали с лесосек и пригнали пленных, соорудили лагерь, натянув колючую проволоку в одну нитку и поставив единственного часового с винтовкой: устрашенные глухоманью, глубокими снегами, морозами, бурным весенним Карагачем и непроходимыми болотами, немцы никуда не бежали. Они считали, что попали в ад, и с безропотной терпеливостью сносили наказание, с любопытством и ужасом взирая на местных жителей. Но самое интересное, когда в сорок шестом году пленных стали отпускать в Германию, десятка полтора вдруг отказались возвращаться на родину, причем толком не могли объяснить, почему. Большую часть этих добровольцев все же отправили домой, но несколько немцев осталось на лесоучастках, завели семьи, нарожали детей, и никто из них не пожалел о своем выборе.
Карагач долгое время не трогали, не дразнили, как спящего лютого зверя, пока не вспомнили легенду о литейщиках с Зажирной Прорвы и их тайных приисках. Первый геолого-поисковый отряд работал один полевой сезон в горной его части и результатов не принес: золотые россыпушки были, но в основном древние, на высоких террасах и бедные. Удача пошла, когда спустились на равнину — уже в середине семидесятых открыли и оконтурили первое россыпное месторождение с внушительными запасами, причем прирусловое, удобное для промышленной добычи драгой. Столь важное открытие на Карагаче было омрачено обстоятельствами, о которых по всей реке ходили уже легенды, но в их правдивость мало кто верил. Во время проведения предварительной разведки Сухозаломской россыпи со стационарного участка сначала пропала повариха — восемнадцатилетняя девчонка, нанятая в Усть-Карагаче. Искали месяца полтора, даже все работы приостанавливали, прочесывая окрестную тайгу, неделю вертолет кружил, лодки сновали по реке — не нашли. И дома у себя так и не появилась, если бы сбежала. И еще не окончились ее розыски, как днем, по пути из лагеря на шурфы, исчезла Притворова Галина, специалист по россыпным месторождениям, двадцати семи лет, замужняя, имеющая ребенка пяти лет, пришедшая в Карагачскую поисково-разведочную партию переводом из Салаирской экспедиции. Рассохин этих пропаж не застал, но не раз читал милицейские ориентировки, расклеенные по всем поселкам.
Два вертолета начальства, милиции и КГБ прилетело, привлекли к поиску штатных охотников, егерей, пожарных авиалесоохраны, наконец, на Ми-6 доставили вооруженный взвод десантников и мужа геологини, какого-то начальника. Восстановили события поминутно, с утра до момента исчезновения, возможный район, где может находиться женщина, оцепили, выбросив десант с вертолета, перекрыли возможные пути следования, использовали даже какую-то секретную технику, которая с высоты птичьего полета отслеживает любое передвижение теплокровных существ. В конечном итоге на переходе через болото из урмана в урман поймали пожилую и с нехарактерным поведением кержачку. На допросе она вела себя гордо, независимо, почти не молилась, как иные, и заявила, что она — Раиса Березовская, бывшая студентка Томского индустриального техникума, и что если ее не отвезут обратно в урманы, то придут ее сыновья и обязательно отомстят за мать. Сотрудники госбезопасности подняли старые дела, провели экспертизы, убедились, что эта старуха и впрямь бывшая комсомольская вожачка, но отпускать не стали, а по запросу переправили в региональное управление. Куда она потом делась — неизвестно.
Когда активные розыски завершились, Рассохин уже работал в партии и присутствовал на общем собрании, где выступал подполковник из УВД, читал лекцию по правилам безопасности работы в таежных условиях. Он и рассказал, будто от сухозаломских охотников-старообрядцев, весьма мирных и законопослушных людей, стало известно, что еще в тридцатых годах на Карагаче возник новый толк староверов, которых все другие кержаки называли погорельцами, однако сами они именовали себя огнепальными. К советской власти они относились злобно: были случаи, когда ловили, калечили милиционеров или вовсе губили, привязывая голыми на комарах, распиная на длинной жерди, поскольку испытывали к ним особую ненависть. Старообрядцы, весьма щепетильные в делах брака и семьи, брали невест только из своих, и не только девушек, тем паче мирских, но и иголку украсть — грех великий. Погорельцы же — кержаки, оставшиеся без жен, придумали свой устав, по которому невест следует непременно воровать, и все равно — отроковицы они или мужние жены. Главное, чтоб были детородного возраста, не калеки и не убогие. А еще они всяческие поганые, богохульные, с точки зрения иных староверов, игрища измыслили, за что преданы анафеме и заслужили отлучение от Христа и веры православной.
Селились погорельцы по самым глухим углам и в основном по реке Карагач и ее притокам, жили малыми общинами, не признавали общепризнанных кержаками святынь, уставов, правил и прочих законов, вели скрытную жизнь и в случае малейшей опасности убегали в соры или заранее приготовленные, тщательно замаскированные с воздуха скиты, где вели себя настолько осторожно, словно дикие редкие звери в джунглях. Все представители толка погорельцев объявлены вне закона, поэтому всякий подлежит задержанию и аресту. Но этот подполковник предупредил, что в случае обнаружения следов их пребывания немедля сообщать органам и самим никаких мер к поимке не предпринимать.
Но и словом этот милицейский лектор не обмолвился, по какой причине возник такой толк, отчего его члены испытывают лютую ненависть к власти и почему именуют себя огнепальными.
На следующий год поисковый отряд спустился еще ниже по реке, и по левому безымянному притоку Карагача была открыта вторая россыпь, по запасам и содержанию золота втридевять богаче, чем первая. И тут своенравная река показывала свой поперечный нрав, ибо по всем правилам и законам уже размытые, снесенные вниз и переотложенные россыпи должны бы беднеть. После третьего полевого сезона к первым двум добавилось еще два месторождения — на Гнилой Прорве и еще ниже, в районе Широкого Залома. Не дожидаясь окончания промышленной разведки, было решено начать разработку.
Но чтобы завести драги к россыпям в Карагач, следовало разрушить восемь больших и малых заломов, начиная от нового, предустьевого, среди белых яров. На сей раз взрывчатки завозили немного, а баржами по Чилиму транспортировали специализированную мехколонну, пригнали земснаряд, который размыл приустьевой остров и расширил русло перед заломом, после чего рабочие с мотопилами насколько можно было изрезали деревья надводной части чуть ли не в чурки и спустили их вниз. Затем мощными буксирами и наземными лебедками стали растаскивать подводную, используя специальные «кошки». К середине лета проход в заломе был пробит, драги завели по Карагачу до следующего, спрятали пока что в устье притока и принялись расковыривать очередной завал. Технология уже была разработана, поэтому к ледоставу пробились и через него, и в результате драги вкупе с земснарядом оставили зимовать в безопасной старице где-то на середине пути между устьем и первой россыпью. Мехколонна же продолжала работать, двигаясь по зимнику от залома к залому и снося их надводные или, точнее, надледовые части. Будущим ледоходом должно было сорвать поднятый половодьем оставшийся лес-топляк, а буксиры довершили бы зачистку и провели драги к месторождениям.
Однако Карагач сдаваться не собирался, он всего лишь убаюкивал бдительность и готовил ловушку. Ледоход и впрямь сорвал два залома, утащил их к третьему, называемому Гиблым, и там надежно закупорил русло, как раз чуть выше места, где зимовали обе драги. В несколько дней вода вышла из берегов, хлынула в пойму, размыла высокую песчаную гриву и пробила ход в ту самую старицу, еще бывшую подо льдом. Образовалась новая прорва, куда и устремился поток; только что с завода четырехсоттонные драги и земснаряд, вмороженные в лед, поднялись вместе с ним и, никак не управляемые, поплыли вниз по течению. Буксиры пытались спасти положение и как-то зачалить ледяное поле с судами, затем сами суда, но подойти к ним близко было невозможно. Несколько смельчаков спрыгнули на льдину, добрались до земснаряда, вручную вращая лебедки, сбросили могучие якоря, но они не смогли пробить почти метровый крепкий панцирь, образовавшийся за зиму в стоячей воде старицы. Еще была надежда, что на одном из поворотов льдину прижмет к берегу или вынесет в залитую пойму, но чуда не случилось: через несколько километров драги с земснарядом впечатались в Гиблый Залом, словно по команде одновременно легли набок, и ледяные глыбы принялись крушить надстройки…
Спавшая потом вода обнажила мятое нагромождение ржавого железа и размотанные якорные цепи, змеящиеся по деревянной плотине, — сами якоря оказались почему-то замытыми по другую сторону залома, словно их перенесло по воде.
Случись это в тридцатых, арестовали бы кучу народа, с десяток вредителей расстреляли, а кто и сам бы пустил пулю в лоб. Угробить сразу две новые дорогостоящие драги, можно сказать, два плавучих предприятия, напичканных промывочной техникой, — потеря ощутимая, не скоро восполнимая, и следовало бы проанализировать, задуматься над частыми и роковыми совпадениями. Тут же все списали на стихию, на буйный характер Карагача, однако же все-таки некоторые очевидцы произошедшего вспоминали о кержацком заклятии, мол, вот она, отрыжка лихих лет. Не надо было нарушать порядка вещей, зорить староверские поселения, заставлять кержаков совершать противный природе грех — топить, зарывать, хоронить святые писания. Ведь если разобраться, они бежали в гиблые места от царя; они мечтали и молились, чтоб рухнул этот режим, и вот дождались, рухнул — и вовсе наступил конец света…
В то время подобному либеральному ворчанию еще никто не верил, впрочем, как и в мистические совпадения, но так или иначе, у всех последующих покорителей своенравной реки это отложилось в мозгах. По крайней мере, они стали осторожнее, предусмотрительнее, а рушить заломы и вовсе отказывались, вполне современно мотивируя это тем, что река как явление природное сама регулирует определенный экологический баланс.
Слово «экология» тогда только-только стало появляться в лексиконе тех, кто был по роду деятельности прочно привязан к природе, в частности среди геологов…
Тогда и вспомнили, что вдоль Карагача когда-то был зимник, по которому на быках вывозили сотни тысяч кубометров леса. Неужели при мощной тракторной технике не затащить в верховья драги, представляющие собой тот же плавучий земснаряд, смонтированный на понтоне? Почти заросшую дорогу отыскали, несколько расширили, кое-где срыли бульдозерами крутые спуски и, когда болота промерзли, а на многочисленных притоках Карагача встал прочный лед, драгу втащили на специальные сани и тихим ходом, без всяких приключении дотянули до заветных россыпей.
Проснулся Стас от того же громкого щебетанья ласточек, под которое заснул, и еще от яркого света солнца, встающего над свежей вырубкой. Лучи простреливали редкий кедровник на опушке и зеленовато-желтыми текучими пятнами плавили палаточный брезент. Он открыл глаза и тотчас зажмурился, ослепленный. И не увидел, а почувствовал руку Жени, безвольно лежащую на его бороде. Это был неожиданный знак полного доверия! Вероятно, еще с вечера, когда Рассохин уснул, ей захотелось прикоснуться к нему, а может, разбудить и что-то сказать. Она перевернулась на бок вместе со спальником, так что он щекой чувствовал тепло ее дыхания. И надо же, какая досада — спал так крепко после ночных бдений, что не услышал, не ощутил, хотя борода — штука чувствительная, а дыхание женщины — будоражащее.
А возможно, отроковица просыпалась уже засветло, и ей захотелось потрогать бороду. Запустила пальцы и уснула…
Опасаясь разбудить, он взял захолодевшую с тыльной стороны ладонь и только повернулся, как Женя отдернула руку и открыла глаза.
— Что?..
— Утро, — сказал Рассохин.
Мимолетный испуг в тот же миг растаял, расплавился вместе с текучим пятном солнца на ее лице.
— А я не выспалась, — хрипловато проронила она сонным голосом. — Нам пора вставать?
Это слово «нам» было самым добрым утренним знаком, и заспанные, пригашенные чувства враз обострились. Он прислушался на сей раз к тому, иному яркому пространству, что было за стенками палатки. Но пение ласточек предвещало покой и блаженство.
Женя слышала и чувствовала то же самое.
Сквозь птичьи голоса Стас услышал далекий рокот тракторов: звонкое, по-утреннему гулкое весеннее пространство доносило самые далекие звуки. Показалось даже, где-то токует глухарь — дробный раскат костяного щелканья…
— Надо вставать, — обреченно вымолвил он. — Труба зовет…
— Так не хочется! — почему-то восхищенно отозвалась Женя и тоже села вместе со спальником. — Сейчас начну чихать! Только не бойся, я чихаю очень громко.
И в самом деле чихнула так, что, казалось, хлопнули стенки палатки. Он нарочито заткнул уши.
— Богатырский чих!
— Прости, — повинилась она, выпрастывая руки. — Контраст температур…
И — еще раз громко и раскатисто, одновременно шаря рукой в поисках платочка. Нашла, прикрыла свой греческий нос.
— Будь здорова! — вспомнил Стас.
— Ой, спаси…
И опять, от души, со вкусом, не сдерживая голоса! В этот миг спальник свалился с плеч Жени, и Рассохин, узрев ее обнаженной до пояса, только сейчас, тугодум, сообразил, что отроковица всю ночь спала без одежды, сразу после купания забравшись в белый вкладыш.
Это запоздалое открытие смутило и вдохновило его одновременно. Подавляя в себе вороватое желание рассматривать и все же не в силах отвести глаз от тугой и манящей груди с коричневыми кружочками сосков, он приподнял вкладыш, закутал плечи практикантки и сверху накинул спальник.
— Замерзнешь, — вымолвил немеющими губами.
— Нет, — ожидая чиха, бросила Женя. — Сейчас… Выровняется температура… И пройдет.
Она и в самом деле чихнула еще трижды и рассмеялась.
— Вот и все! Обязательный утренний моцион… Ты сильно напугался?
И ничуть не стеснялась своей голой груди — напротив, показалось, заманивала, предлагала прикоснуться, и рука его была всего в трех сантиметрах…
— До сих пор дрожу, — и в самом деле подрагивая, вымолвил он. — Бульдозеристы тоже кричали тебе — будь здорова.
— Смеешься над бедной девушкой!.. Дома я встаю, и сразу под холодный душ. И не чихаю…
У нее еще свербило в носу и в глазах стояли слезы. Повинуясь внутреннему движению, Рассохин вытер их пальцами и неожиданно для себя поцеловал ее нос.
— Больше не будешь.
Она вдруг доверчиво уткнулась ему в плечо, и запах, исходящий от нее, на миг покачнул реальность. Рассохин так стиснул руками узкие плечи, что отчетливо услышал хруст.
— Сломаешь… — пощекотала губами ключицу. — Выйди, я оденусь…
Стас выпустил ее, по-медвежьи, на четвереньках, выполз из палатки и только здесь вдохнул первый раз. Низкое солнце плавило стволы кедров, и уже с утра было тепло, бежали ручьи и гомонили ласточки, сидя парами за неимением проводов на сухой березе. Урчанье тракторов, скрежет бульдозерных лопат и хлопанье траков стало слышнее, хотя до пробного участка по прямой было километра три. Он сунул ноги в резиновые сапоги, побежал вниз к разливам и, счастливый, чуть только не скворчал по-птичьи, сдерживая рвущийся наружу восторг. Умыл лицо ледяной водой, но этого показалось мало, чтобы остудить жар, — сорвал майку и поплескал себе на торс, растерся полотенцем. И с радостью вспомнил, что впереди еще целых два дня и две ночи — бесконечный срок, пока они будут одни на этом диком берегу речки его имени!
Но в следующий миг ему словно под коленки ударили: заявление наверняка подписано, и быть ему здесь оставалось всего одиннадцать суток…
Подавленный этой мыслью Рассохин присел возле кострища и принялся разводить огонь. Женя вышла наконец-то из палатки какая-то легкая и тонкая, возможно, из-за спортивного, обтягивающего фигуру костюма, махнула ему рукой, засмеялась и побежала умываться. А он вслух подумал:
— Я уеду — она останется…
Потом посидел, глядя в огонь, и опять вслух подумал:
— Что за глупости? Возьму и останусь.
Он закурил трубку, включил приемник, отвлечься хотел — передавали утреннюю гимнастику. Отроковица вернулась с разлива и сразу заметила его состояние.
— Что-то молодец не весел, — и засмеялась дразняще, отчего Стасу стало еще горше. — Отдай сейчас же мои вещи.
— Какие веши? — спросил он.
— Кончай дурачиться, отдай. Он у меня единственный.
— Кто?
— Купальник. На растяжке висел… Ну, хочешь, осенью тебе подарю?
Он вскочил, огляделся.
— Я не брал… Женя, я не брал!
— Куда же он делся? — Отроковица подошла к палатке. — Здесь был, все обыскала…
— От палатки не отходи! — уже на бегу крикнул он.
Кедровник был вперемешку с пихтачем, солнце пробивало его, и видно было далеко. Нарезая полукруги, он обежал весь примыкающий к лагерю лес и наконец в глубине нашел снежное поле — осевшее, рыхлое, с проталинами вокруг деревьев, но миновать его, не оставив следов, было нельзя.
Сделал два полукруга, каждый раз выходя на опушки — ни единой вмятины, чистый, колючий от желтой хвои: если кто-то и приходил, то со стороны вырубки или от речных разливов, а на подстиле следа не остается…
Рассохин вернулся к стану, изобразил как мог непринужденный вид.
— От меня не отходить далее чем на пять шагов, — предупредил он.
Женя не скрывала беспокойства.
— Что-то случилось, Стас?..
— Нет, все в порядке, — бодро доложил он. — Техника безопасности при работе в таежных условиях. Где, кстати, обитают кержаки-погорельцы. Пьем чай — и на работу.
— Кто же украл купальник?
— Приискатели… Ночью шарахаются от безделья, шутники. Из зависти сперли…
И сам не верил в то, что говорил.
— Из зависти?..
— Они же видели — мы вдвоем… Ночью, в палатке. Ну и…
Отроковица погладила его бороду и опечалилась.
— Поймаю — убью! — добавил он.
Женя же торопливо вынула темные очки и спрятала глаза.
Скорее всего, наступил миг, когда надо было говорить какие-то важные слова, признаваться в чувствах, может, обещать немыслимое и даже клясться, но вместе с ночью ушел азарт, порыв, очарование целомудренной близости.
Было утро, яркое солнце, и следовало все начинать сначала…
Потом они шли на участок по вырубке, по мягкому и совершенно сухому кедровому подстилу среди поля пней, поваленных и изрезанных гусеницами деревьев, гор, сучьев и вершин, и тоскливый этот пейзаж разрушения лишь добавил печали.
На берегу речки уже работали бульдозеры, но пока что просто выковыривали пни и выгребали лесной мусор за пределы площадки величиной в два футбольных поля. Вскрыша[18] россыпи — дело нудное и тонкое. Рудный пласт здесь напоминал кору головного мозга с извилинами: снимешь меньше — придется перемывать сотни лишних пустых кубометров, копнешь глубже — спихнешь золото в отвал. К тому же россыпь необычная, приискатели к таким не привыкли, тут геологический глаз да глаз нужен. Вроде бы и работы особенно никакой — ходить целый день за бульдозерами, пока бульдозеристы не привыкнут к месторождению и специфике месторождения и сами не научатся смотреть, что копают. И все равно надо присутствовать — хотя бы с удочкой на берегу, на песчаном пляже под солнцем…
В общем, работа для пенсионеров.
Однокурсница Аня работала тоже на золоте, в поисковом отряде, и с восторгом описывала Вилюй и тамошние места, где сохранились еще районы, куда не ступала нога геолога…
Приискатели уже настроили оборудование, выкусив ковшами шмат берега, и ждали команды — до Дня Победы оставалось трое суток. Пока бульдозеры срезали легкий, супесчанистый грунт, Рассохин с Женей сходили на драгу, где начальник в кожанке и с маузером на ремешке, увидев Женю, вдруг стал суетливым, даже угодливым, лично провел экскурсию, а потом еще стал потчевать завтраком в своей каюте буксира. И тут Рассохин узрел, как отроковица улыбается загадочно и переглядывается с начальником, ничуть не пряча своего завлекающего взора! Это как-то вмиг сначала поразило, а потом озлило Стаса, и пища в рот не полезла, поэтому он курил, пока Женя на пару с хозяином драги завтракала жареной в яйцах нельмой.
Когда они вернулись на участок, отроковица как ни в чем не бывало вдруг сняла очки, глянула на Стаса, прищурив все еще лукавые глаза.
— Зачем ты уезжаешь? Тебя здесь уважают…
— Я тут лишний, — обидчиво бросил он.
— Ты как-то неправильно все понимаешь, — попыталась оправдаться отроковица. — Ну какой ты лишний? Что придумал-то? Обидели тебя?
Его подмывало сейчас же, немедля и за три минуты рассказать, как его уважают — про отношение к нему начальства, неполученные премии, про пьющего с горя Юрку Зауэрвайна, про кражу монографии, но вовремя спохватился. Получилось бы — жалуется и признается, что уезжает от обиды и тоски, как в песне. А на самом деле он ехал за туманом, хотел туда, где не ступала нога геолога — в середине семидесятых об этом еще мечтали…
Рассохин колебался, Женя смотрела участливо и с любовью.
— Я подумаю. У меня есть время…
Она должна была услышать: «Ты мне нравишься, хочу быть с тобой».
И наверное, услышала, поскольку сразу же надела очки и спрятала глаза.
Именно в этот миг Стас почувствовал — сегодня должно случиться еще что-то очень важное, что повернет поток его жизни в новое русло, в прорву, и все будет иначе. А ее вольности с другими мужчинами можно не замечать или сразу прощать…
Что-то сегодня случится!
Примерно такое же предощущение было у него, когда они с Юркой Зауэрвайном протолкались мелководным безымянным притоком на это место и отшлиховали первую пробу…
Неужто еще раз поцелует богиня Удача?
Бульдозеристы были опытными, аккуратными, но жадными; они спали и видели себя с самородком в руках, поэтому, заметив подозрительный камень, вывалившийся из грунта, останавливались и бежали смотреть, невзирая на выступавшую из грунта воду и грязь. Подтрунивали друг над другом, однако же чем ближе был золотоносный горизонт, тем ярче в их глазах разгорался лихорадочный желтоватый блеск. К обеду они вскрыли россыпь, пока что узкой полосой, и Рассохин набрал мелкого галечника в лоток, отмыл до черного шлиха, который ссыпал в банку из-под сгущенки и отдал Жене.
— Это тебе, на память. Только никому не показывай, а то увидит охрана — отнимут.
А хотел сказать: «На обручальное колечко».
Она услышала, потому что, сняв очки, долго рассматривала черный песок с мелкими желтыми крупинками и вдруг сказала:
— На колечко не хватит! Разве что сделать его из тоненькой проволоки…
В это время бульдозерная лопата и вывалила из грунта странный валун слишком правильной геометрической формы, напоминающей бочку, и довольно легкий. Он катился впереди вала, наматывал на себя липкий суглинок, и еще бы минута — оказался зарытым, впечатанным во влажный земляной бурт вскрыши. Рассохин махнул рукой трактористу и, подбежав, откатил валун в сторону.
— Да это чурка какая-то! — крикнул тот из кабины.
— Сам ты чурка!
— Ну тогда самородок! Не забудь поделиться!
Захохотал и дал газу.
Стас отчистил геологическим молотком торец — черная, просмоленная древесина, слегка уже подопревшая от времени — натуральная бочка эдак литров на полтораста, деревянные обручи…
— Если бы мы нашли ее на Кавказе, — сказала Женя, — была бы с вином…
— В Сибири будет с золотом, — пообещал он и стал закатывать бочку на отвал. — Или с соболями… А скорее — вовсе пустая!
— Почему?
— Да легкая вроде…
— Не-ет, это чей-то клад! — засмеялась практикантка. — Мы клад нашли! Ура! Даже без волшебной ветки!
— Какой ветки?
— Ну той, которой ежиха вызволяет ежат! С ней же еще клады можно искать. Все открывается!
Рассохин закатил бочку на сухой и песчаный верх отвала, поставил на торец и обушком молотка разрубил первый обруч.
— Стой! — вдруг встрепенулась отроковица и схватила его за руки. — Надо загадать желание! Когда открывают клады, обязательно загадывают. И оно сбывается! Мы же сейчас прикасаемся к мистической тайне!
— А как загадывать? — спросил он.
— Ну, например, ты про себя говоришь, — стала учить, не отпуская рук. — Если в кладе то, что ты очень хочешь, о чем мечтал, то пусть мое желание сбудется! А если мура какая-нибудь, значит, нет.
— Какая мура?
— Что-нибудь ненужное тебе, ерунда всякая!
— А какое желание загадать?
— Это ты уж сам придумай, не маленький!
— Ладно, я загадал, — сказал Рассохин. — А ты?
— Разбивай!
Он разрубил второй обруч, затем третий — а их оказалось шесть, — бочка как-то по-человечески охнула, клепки у торца разошлись, и крышка провисла вниз. Женя дышала у самого уха, сгорая от любопытства.
— Ну, открывай!..
Стас подцепил крышку молотком, вытащил и увидел какое-то слежавшееся и влажноватое тряпье, хотя вода в бочку не проникала — скорее, содержимое попросту отпотело от перепада температур.
— Мура, — сказал он. — Ветошь.
Отроковица не поверила, точнее, не хотела верить — потянула серую и еще крепкую холстину, и в ней оказалось что-то завернуто и пересыпано желтой трухой наподобие табака.
— Погоди! — вдохновилась. — А это что?.. Библия?
В ее руках оказалась черная от времени, необычно большая и толстая книга в кожаном переплете. Они полистали ее, с трудом разлепляя волглые страницы — написано по-церковному, непонятно, затем выгрузили из бочки еще тринадцать так же завернутых в полотенца и тряпки, пересыпанных измельченной травой книг разного размера. На самом дне оказалось несколько меднолитых позеленевших складней и тяжелый медный же крест.
Смотрели друг на друга, на клад, и никак не могли определиться, что это — драгоценности, сокровища, так нужные им обоим, и тогда желание сбудется, или в самом деле бесполезная мура? Тогдашние познания Рассохина в области богослужебных книг и древнерусской литературы вообще были нулевые, собирательством редкостей и всяческих раритетов он не увлекался, поэтому оценить, что попало в руки, не мог. Понятно, что вещи эти музейные, наверное, для кого-то очень дорогие, необходимые, но только не для геологов, мечтающих открывать месторождения полезных ископаемых, а не спрятанные кем-то старинные толстенные книжищи, которые даже прочитать невозможно.
— Клад мистический, — наконец-то заключила Женя, благоговейно разглядывая книги. — Ты знаешь, что это, например? Какие тайны и истины скрыты за древними письменами?
Ей очень хотелось, чтоб желание сбылось, поэтому она так говорила, убеждала себя.
— Библии какие-то, что еще? — отозвался Рассохин. — Конечно, интересно. Букинистам, например.
Отроковица не могла оторваться от клада, и изумление ее было неподдельным.
— А что, если здесь какая-нибудь рукопись, не известная миру? Вот бы научиться читать!.. Давай для начала их просушим!
Они расстелили холстинки, разложили книги, но Женя вдруг спохватилась:
— Быстро неси сюда ветки! Надо создать тень! Нельзя сушить на солнце!
— Почему? Скорее просохнут…
— Книги долго были во тьме, — загадочным голосом и нараспев проговорила она. — Они боятся яркого света. Они могут ослепнуть! Потому что книги, как люди…
Рассохин посмотрел на нее как на сумасшедшую, но посчитал это за игру, за блажь, пошел и наломал охапку кедровых веток, после чего навтыкал их в песок, соорудив навес. Было уже по-летнему жарко, поэтому он решил позагорать, тем паче на высоком месте ветерком сдувало гнус, разделся и лег на другой, солнечной стороне отвала. Но у Жени купальник украли, поэтому она сначала подвернула маечку, заголив живот, затем склонилась к Стасу и прошептала, как будто их могли услышать:
— Я сейчас разденусь, но ты не смотри на меня!
Она выбрала местечко чуть ниже и в стороне, чтоб он не видел, сняла спортивный костюм, оставшись в гипюровом лифчике и таких же трусиках — и в самом деле, на это лучше было не смотреть. Но легла на общее обозрение бульдозеристов, которые утюжили площадку, подъезжая ближе двадцати шагов.
Рассохин сел к ней спиной и стал перелистывать книги, чтоб скорее просыхало. Бульдозерист, что вырыл эту бочку, могучий, спортивный мужик лет сорока, словно почуял — не поленился, взбежал на отвал, но больше не на клад глазел, а на отроковицу, лежащую поодаль.
— Святые писания! — будто бы восхитился он. — Во повезло некоторым!
— Возьми, если надо, — предложил Рассохин, кивая на книги.
— Я бы взял, — с хитроватым намеком сказал он. — Да кто же даст?
— Это не ты украл у меня купальник? — как-то игриво спросила отроковица.
— Купальник? — ухмыльнулся тот. — С удовольствием бы украл, на память!
— Тогда возьми книгу, — вдруг зовущим, шелково-шелестящим голосом предложила отроковица, ничуть не стесняясь своего гипюрного вида. — Это ты откопал клад. Тебя как зовут, юноша?
Бульдозерист в один миг слова ее оценил, покосился на Рассохина и вдруг уселся рядом с Женей, пожирая глазами — только что слюни не потекли.
— Меня зовут просто Ваня!
— Как мило — Ваня… — Она погладила его мазутную руку.
И это внезапно взбесило Стаса.
— Вали отсюда! — рявкнул он и поднял геологический молоток. — Ну, живо! Пока в лоб не получил!
Тот с сожалением и ухмылкой встал, помахал отроковице:
— Мы еще встретимся, красавица!
И ушел в свой трактор.
Женя проводила его загадочным улыбчивым взглядом и вдруг жестко произнесла:
— Чтоб я больше не слышала этого тона.
— Какого тона?
— Ревности! Я что тебе, жена? — и попросила, словно ничего не случилось: — Принеси мне книгу. Я тоже буду сушить.
Рассохин демонстративно отвернулся и сел, механически перелистывая страницы. Она же почуяла вину, подползла к нему, по-змеиному извиваясь, и неожиданно прижалась грудью к его спине, затем слегка потерлась, и едва прикрывающий ее прелести кружевной лифчик снялся сам. Стас ощутил ее твердые соски и стиснул зубы, чтоб преодолеть головокружение.
— Какой ты ершистый… — Отроковица погладила его волосы. — И заводной… Это потому, что ты совсем юный. Ну, повернись ко мне…
Стас в тот же миг ей все простил, медленно развернулся и накрыл груди руками. Она же игриво отстранилась, поправила лифчик, чмокнула его в щеку.
— Не шали! Трактористы все видят!
— Пойдем за отвал? — чужими губами сказал он.
— Там солнца нет, — капризно вымолвила Женя, еще раз его чмокнула и легла на песок. — А я позагорать хочу. Скоро будет гнусу — не продохнуть. И я останусь бледной поганкой. На прошлой практике в Казахстане была и знаешь как загорела? Среди моржей на Стрелке меня звали шоколадкой, до самого Нового года.
Потом пришли начальник драги с инженером по добыче, поглядели на клад без любопытства, посоветовали сдать в музей, но больше пялились на Женю. У начальника драги, как у комиссара, болтался маузер в деревянной кобуре, и если на рассохинский револьвер она и внимания не обратила, то тут проявила крайне игривое любопытство. Естественно, тот стал хвастать, показывать и, узнав, что у практикантки первый разряд по пулевой, преспокойно вложил оружие в ее руку. Инженер расставил на отвале мишени — два спичечных коробка и свою кепку. Отроковица тут же показала, что может не только кулаками махать: спички полетели брызгами, а кожаная кепка получила четыре пробоины, после чего инженер с гордостью ее напялил.
— Буду помнить вашу верную ручку. И нашу встречу!
— Вы что пришли-то? — Стас вышел из терпения. — Тир тут устроили…
И те наконец сообщили, что летит начальство, мол, надо запускать промывку, начали трясти бумагами. Рассохин не глядя подмахнул акт, и когда приискатели ушли, отроковица вдруг склонилась и прошептала:
— Хорошо, что они ничего не понимают! Иначе бы потребовали поделиться бесценными сокровищами. А все достанется нам с тобой! Это я их отвлекала…
Опьянев от ее дыхания, он попытался обнять, но отроковица выскользнула, отдалилась и сказала маняще:
— Не распускайте руки, молодой человек.
Они еще час лежали поодаль друг от друга и пролистывали страницы, сушили и пытались кое-что прочитать вслух. Отдельные слова поддавались, особенно быстро получалось у Жени, а Рассохин не мог сосредоточиться, косил на нее глаз и отчаянно потел. Спохватываясь, он тупо глядел на буквы как на иероглифы: незнакомое начертание знаков, какие-то крючочки, тем паче написано слитно, в строчку, слова от слова не отделить. Бумага была толстая, старая, сероватая, с какими-то водяными черточками и знаками, закапанная воском, испещренная дырочками, словно кто-то иголкой натыкал. Кое-как он прочел единственное слов:
— Рекоше!.. Рикошет, что ли?
— Это значит — «говорил»! — со знанием дела объяснила отроковица.
— Ух ты, откуда знаешь? — нарочито восхитился Стас.
— Милый мальчик, я выросла в профессорской семье, — с тоскливым неприятием проговорила она. — Оба родителя были нудными гуманитариями. Музыка, чтение, языки, правильная манера поведения… И друзья у них такие же умные и скучные. Даже священник один, отец Зосима. С ним хоть поспорить можно было…
— О чем?
— Есть ли Бог, например.
— А он есть?
— Вот сейчас и испытаем, — предложила она. — Будем гадать. Называй страницу и строчку.
— А так гадают?
— Гадают. Какая истина тебе откроется.
— Ладно, сорок третья страница, вторая строчка.
— Откуда, снизу или сверху?
— Сверху!
Страницы были пронумерованы непонятными буквами, поэтому Женя с таинственной улыбкой отлистала сорок две, нашла строчку и вдруг насторожилась.
— Что? — спросил Рассохин. — Открылась истина?
— «И убиен бысть копием, и брошен зверям лютым», — медленно прочитала она.
— Как это понимать? Как Божье провидение?
— Да ерунда, — встряхнулась отроковица. — Давай книги сушить. Только их в тени держи, видишь, листы коробятся на солнце.
— Теперь ты загадывай!
— Я уже нагадалась, — отчего-то разочарованно проговорила она. — И вообще, ты что на меня вылупился? Я же сказала — не смотри! Мне кажется, купальник все-таки спер ты!.. Отвернись!
Ей уже не хотелось играть, и Стас обидчиво отвернулся.
Они перелистали все четырнадцать книг и нашли одну красивую, с красными заглавными буквами, с такими же орнаментами-вензелями и завитушками, однако не напечатанную, а скорее разрисованную и написанную от руки, только очень мелко. Но даже и она не порадовала отроковицу.
И тут над тайгой затарахтел мелкий вертолет Ми-1, на котором летало такое же мелкое начальство. Он сел прямо на вскрытый участок, чуть не разметав ветром книги. Женя стремительно оделась, но не поспела натянуть резиновые сапоги и осталась босой. Из кабины выбрался Гузь, одетый по-полевому, с рюкзаком и карабином — прежде он летал по участкам в рубашке с галстуком, штиблетах и с портфелем.
— Ты что здесь загораешь? — сразу же возмутился он. — Ничего себе, санаторий устроили! Почему раздетые в рабочее время? Сейчас сюда большое начальство прилетит! С журналистами! Телевиденье будет снимать!
И тут он увидел драгу, вернее, яркую красную надпись вдоль верхней палубы, и, должно быть, не веря глазам своим, прочел, шевеля губами.
— А это что за самодеятельность?! Кто разрешил?
Рассохину сразу не понравился настрой Гузя — приехал, понимаешь, порядок наводить перед нашествием начальства, — поэтому одеваться не спешил, а тут и вовсе не сдержался от едкости.
— Народ помнит своих героев, — язвительно произнес он.
Чем еще больше разозлил и так настеганного начальника партии. Однако хитрый этот хохол далее задираться не стал, напротив, сбавил тон и переключился на клад.
— Это что тут у тебя, Стас? — спросил будто бы заинтересованно. — Церковные книги, что ли?
— Послание потомкам, — ухмыльнулся тот, зная, что Гузь не понимает иносказательности.
— От кого послание?..
— От предков…
— Не умничай, Рассоха! Собирай и уноси религиозную пропаганду.
— Куда?
— С глаз долой! Первый секретарь обкома летит, телевиденье везет…
— Это наш клад, — обрела голос несколько смущенная Женя. — Мы из земли достали…
И на сей раз не заигрывала.
Гузь посмотрел на нее оловянными глазами, но перечить не захотел — должно быть, вспомнил фингал Репы. Однако самолюбие уже было на пределе, и не мог он перед какой-то практиканткой ударить в грязь лицом.
И еще, был уверен Рассохин, его съедала самая обыкновенная мужская зависть.
— Знаешь что, Станислав Иванович… Я на твоем заявлении дату не поставил. Так вот поставлю, с сегодняшнего дня. Доволен?
— Счастлив! — воскликнул тот. — Благодарю!
— А может, тебя по статье уволить? За прогулы и разгильдяйство?
По закону жанра противления начальнику следовало согласиться, рубануть — мол, увольняйте! И еще рубаху пазгануть[19] на груди. Однако Рассохин промолчал, ибо ощутил, как горячий ком выкатился из грудной клетки и застрял в горле…
— Ходим, уговариваем его! — возмущенно заворчал Гузь, расценив его молчание по-своему. — Должности предлагаем! А он обнаглел вконец… Забирай эту макулатуру, свою красотку и топай отсюда. Пока я добрый. Диплом и трудовую получишь у кадровички, расчет у бухгалтерши.
Развернулся и пошел к берегу, где уже скрежетали ковши драги и пулеметно стреляла труба, выбрасывая отвал.
— Ты это загадал? — спросила Женя. — Чтоб скорее уволили?
Рассохин услышал в ее голосе раздражение и странный вызов — так обычно разговаривают мамы с непослушными подростками.
В Усть-Карагач он добрался на перекладных, в основном на попутных лесовозах, возвращающихся с железнодорожной станции, куда возили березовый баланс,[20] заготовленный зимой китайцами. Гравийная дорога в поселок была, но автобусы ходили два раза в неделю, а таксисты из-за весенней распутицы ехать отказывались: последних сорок километров трехмостовый «КАМАЗ» продирался всю ночь. За прошедшие тридцать лет поселок утратил статус районного центра, а более, в общем-то, ничего не изменили на этой земле, если не считать аж трех круглосуточных магазинов, где торговали водкой, да ресторана «Карагач», открытого в бывшей столовой на берегу старого, теперь превратившегося в затон устья. Даже улица Раи Березовской осталась, и только на месте памятника в кедровой аллее, посаженной когда-то школьниками, и где принимали в пионеры и комсомол, стояла торговая палатка с бижутерией. Еще бросилось в глаза — брусовые дома-бараки окончательно изветшали, почернели, скособочились, деревянные тротуары сгнили, а отстроенный в пору приискового расцвета многоэтажный торгово-культурно-развлекательный центр разобрали по кирпичику, и на его месте теперь лежали руины, укрытые сухой, прошлогодней травой…
А по центру поселка, верно, выпущенный на подножный корм, бродил целый табун лошадей, в семидесятых бывших в диковинку.
Можно сказать, весь этот край уже ограбили: лес мало-помалу вырезали, и теперь китайцы добирали березу, золотые месторождения вычерпали дочиста — после драг, уже в девяностых, еще несколько лет работали полубандитские старательские артели, домывая бутарами[21] и промприборами охвостья россыпей и старые отвалы. Правда, шофер «КАМАЗа» вместе с иными новостями о жизни в этом заглухающем краю поведал — нельма еще водилась в разгороженной на участки несокрушимыми заломами реке. Нельма — рыба редкая, запретная и потому сладкая. Еще говорил, медведей развелось, что особо наглые на помойках живут, народ пугают, и бобров на Карагаче теперь столько, что в пойме от осин и тополей одни пни стоят.
Но это все относилось к ценностям самовосполнимым.
И оставалось единственное рукотворное богатство в этой земле, о котором знал только узкий круг и которое могло погибнуть безвозвратно, если уже не погибло, — официальная версия, которая вела Рассохина на Карагач.
Он связался с Бурнашевым по космическому аппарату — еще одному, выданному, а теперь приобретенному на экспедиционные деньги, и сообщил, что добрался нормально, и услышал в ответ:
— Пожалуй, я тоже на днях рвану за тобой! На машине, с оборудованием. Возможно, уже завтра.
Был уговор не предпринимать никаких действий, пока не разрешится ситуация с исчезнувшим Галицыным.
— Мы же договаривались! — возмутился Станислав Иванович. — Что за самодеятельность? Сиди и жди команды!
— Да меня сын уже достал! Требует выезжать немедленно. На его джипе.
— Чей сын? Твой, что ли?
— Ромка Галицын, рвется искать отца! Нас подозревает в мошенничестве. Грозится бандюков натравить!
— С какой стати?
— Понимаешь, Галицын ему вчера позвонил, сказал, пришлет доверенность. Велел продать дачу и снять в банке пенсию. У него, оказывается, вся пенсия шла на книжку, и деньги он ни разу не снимал. Ромка говорит, хорошая сумма накопилась. Так вот, полковник велел все вырученные от продажи дачи средства вместе с пенсией перевести на какой-то счет!
— Он что, с ума сошел?
— Не знаю! Ромка на меня наехал, дескать, мы авантюру затеяли, чтоб его отца ограбить. Он думает, это мы с него деньги трясем, стервец. Хочет на месте разобраться. Я не могу ему запретить! Он отпуск взял… Ну не посылать же его одного! Без меня таких дел наворотит — не расхлебать.
Рассохин выругался: в самом деле, препятствовать сыну искать отца было невозможно и преступно, тем более в такой щекотливой ситуации, когда получается, что полковника в тайгу посылал он. А тут еще требует продать единственное жилье.
— Может, он сам придумал авантюру? Чтоб дача жене не досталась?
— Да ей еще сидеть семь месяцев!.. Ну, что будем делать, Стас? Ехать-то все равно надо, раз собрались, деньги Колюжного потратили, назад пути нет…
— А как же работа, экзамены у студентов? Не отпустят же!
— Я заболею. Будто бы. С медициной Сашенька все уладила, бюллетень на руках. Хочешь, диагноз зачитаю? Гастро… эндо… Нет, погоди…
— Плевать на диагноз, выезжай, — согласился Рассохин, полагая, что на машине с прицепом пилить из Москвы они будут дня четыре, а то и пять, — за это время можно сходить на лодке до Красной Прорвы.
— Одно утешает: если Галицын вчера звонил, то жив, — заключил Бурнашев. — А то еще труп на нас повесят!
— Тьфу-тьфу-тьфу!
— Ты плюйся и слушай дальше, — продолжал тот. — В общем, Стас, ты меня извини… Но я приеду не один. То есть не вдвоем с Ромкой, а втроем.
— Кто еще?
— Сашенька!.. Понимаешь, не могу отказать!
— Ты еще тещу возьми! — не сдержался Рассохин и поймал себя за язык, вспомнив, что сам-то уже пообещал Лизе…
— Теща останется с дочкой, — серьезно ответил Бурнашев. — Согласилась на два месяца… Сашенька у нас вместо повара будет. Знаешь как готовит? Особенно рыбу! Я за эту женитьбу на семь килограммов поправился.
— Ты что, на пикник собрался? — успел крикнуть Стас, и связь прервалась.
С минуту Рассохин тупо глядел перед собой и, не желая перезванивать, старался осмыслить все услышанное и понял единственное — ситуация выходила из-под контроля и управлять ею становилось невозможно.
Послонявшись по поселку с рюкзаком, он наткнулся на ресторан, вдруг ощутил голод и вспомнил, что последний раз ел вчера утром в самолете. Стас позавтракал ухой из запретной нельмы и потом еще два часа бродил знакомыми улицами — сокращал разницу во времени, чтобы не будить Лизу. И когда позвонил, оказалось, она не спала всю ночь, ждала его звонка.
— Я выезжаю к тебе в Усть-Карагач, — с ходу заявила Лиза. — Сегодня куплю билет на самолет.
— Вы что, сговорились? — возмущенно изумился Рассохин. — Мы же с тобой условились! Ты ждешь команды…
— Я получила письмо от мамы! — выпалила она. — Вчера!.. Какая команда, Стас?
— От кого?!
— От мамы!.. Тоже сначала не поверила. Будто с того света… Но кажется, это писала она.
— Ты уверена? Ты помнишь ее почерк?
— Не помню, конечно. Только я сличила с мамиными конспектами, студенческими… Вроде похоже! Женская рука, это точно…
— И что она написала?
— Просит, чтоб приехала в Усть-Карагач! Мне кажется, судьба! И упустить шанс не имею права…
— Погоди про судьбу, Лиза, — более успокаивая себя, проговорил Рассохин. — Сама подумай: столько лет не объявлялась — и вдруг присылает письмо? Как только мы затеяли экспедицию!.. Здесь что-то не так! Нюхом чую!
— Это ведь должно было когда-нибудь случиться? — не хотела сдаваться она. — Независимо от вашей экспедиции. Если мама осталась жива?.. Я не зря стала видеть ее во сне! Во снах ведь приходят истины? В вещих.
— Она что, находится в Усть-Карагаче? Живет здесь? Обратный адрес есть?
— Из письма непонятно, где живет, и обратного адреса нет, но штамп почтового отделения в Усть-Карагаче. Отправлено всего неделю назад.
— Хорошо, приедешь, а где станешь искать ее?
— Я должна поселиться в местной гостинице. Мама пришлет за мной своего знакомого…
— Кого? Фамилия есть?
— Нет фамилии, написано — знакомого, хорошего человека.
— Как ты думаешь, к чему такие сложности, конспирация? Почему мама сама не может тебя встретить?
Лиза помедлила и призналась:
— Меня это тоже смущает… Всю ночь думала… А если это шанс? Единственная возможность? Может, она заболела? Не в состоянии сама встретить? Нет, я должна ехать! Как бы я к маме ни относилась, все равно должна увидеть ее, поговорить… Ты же понимаешь.
— Мне надо несколько дней, чтобы разобраться, что здесь происходит, — заявил Рассохин. — Разберусь и сразу позвоню. Тогда и приедешь.
— Ты все-таки думаешь, здесь какое-то мошенничество?
— Не знаю, но сомнений очень много. Галицын пропал, а тут еще письмо… В общем, буду звонить каждый день. Пока сиди в Питере!
— Я тебе верю. Стас, — не сразу сказала Лиза. — Ты мудрый. Только я опасаюсь…
— Чего?
— А если с тобой что-нибудь случится? Мне уже кажется, Карагач — страшное место…
— Со мной ничего не случится, — заверил он. — Без моего звонка ни шагу!
— За самовольство расстрел? — пошутила она.
Рассохин сел на ржавый остов садовой скамьи: если пришло письмо, значит, Женя Семенова жива, а выстрел — бред, болезненные видения, спровоцированные ревностью.
Хоть бы письмо оказалось настоящим! Может, надо было согласиться, чтобы Лиза приехала? Если она найдет свою мать… Нет, если он найдет Женю Семенову живой и здоровой, тогда все может быть иначе!
Рассохин прихлопнул дальнейшее развитие этой мысли, словно назойливого комара, и отправился домой к участковому, которого Галицын оставил в Усть-Карагаче доверенным лицом.
Пенсионного возраста капитан Гохман чистил сарай и более походил на фермера, чем на милиционера: десятка полтора разнокалиберных поросят визжало в отдельной загородке и где-то еще кричали гуси и орал петух. Искать пропавших людей ему было явно некогда, хорошо, хоть нашел время, не пожалел денег и позвонил за свой счет…
Поначалу участковый намеревался скоро отвязаться от назойливого гостя из Москвы, поэтому встретил неласково и, разговаривая, работы не прекращал. Про исчезновение Галицына ничего конкретного сказать не мог. Дескать, пришел к нему резвый полковник, сначала допытывался про Карагач и угрожал, дескать до пенсии не доработаешь, у меня в МВД связи. И вообще надо выяснить, как сын фашиста оказался в органах: Гохман по доброте душевной рассказал о своем происхождении, да и в этом тайны никакой не было, ведь в СССР оставляли тех пленных, кто сотрудничал с НКВД и помогал выявлять в лагерях военных преступников. Отец Гохмана и был одним из них, не считал это зазорным, и разумеется, путь в Германию, даже Восточную, был заказан, могли отомстить.
И вот когда участковому надоели угрозы, он послал подальше московского полкана и велел убираться. Тот же резко изменил тактику, заявил, что это у него шутки такие, веселился, хохотал, живчик, сулил похлопотать и организовать вызов из фатерлянда, если захочет, для постоянного проживания на вражеской территории с предоставлением пенсиона и бесплатной квартиры. А на что ему вызов, если у самого три дочери в Германии живут? В общем, хоть гость в доверие и не втерся, но склонил к уступкам и в результате заполучил моториста Скуратенко с единственным исправным мотором на весь Усть-Карагач, если, конечно, не считать «крутых» владельцев лесосек, магазинов и ресторана, у которых были свои «пароходы и самолеты». Этот Скуратенко был должен Гохману по жизни — однажды спас его от верной тюрьмы.
Рассохин стоически нюхал свиной навоз, слушая короткую повесть, и решил сыграть на национальных чувствах. Участковый должен был знать бывшего маршрутника, ибо все немецкие фамилии на Карагаче имели одно происхождение.
— А вы помните Юрку Зауэрвайна? — внезапно спросил он и будто пароль назвал.
— Погодите, — вдруг смутился участковый и бросил широкую подборочную лопату. — Фамилия ваша как? Бурнашев?
— Я Рассохин, Стас.
— Тот самый. Рассохин?!
— Тот, — просто сказал Стас. — Юрка у меня маршрутником работал. Мы с ним открыли богатое месторождение…
Потомок пленного выматерился по-русски заковыристо, но изящно:
— Тебе сколько лет-то, Рассохин? Должно, за полтинник?
— Так и есть…
— Паспорт покажи.
Рассохин усмехнулся и подал паспорт. Участковый профессионально его пролистал, сверил фото и вернул.
— Ни хрена себе, — сказал по-свойски. — Ты что, консерванту наелся? Никогда б не дал…
— Бывает…
— Что сразу-то не признался? — возмутился он и подал руку. — Фридрих! Ну или Федор. А я тебя другим представлял. Айда в дом!
Жена у него была русская, но три дочери, в нужный час вспомнив свое происхождение по отцовской линии, сменили имена, язык выучили чуть больше школьной программы и уехали в Германию. Теперь звали родителей, но те предпочитали ковыряться в навозе…
Все это участковый поведал, пока его супруга собирала на стол, хотя Рассохин отказывался, ссылаясь, что завтракал в ресторане. Фридрих ничего слышать не хотел, за одно поколение, за одну жизнь на Карагаче из немца обратившись в русского сибиряка с вытекающим отсюда хлебосольством.
— А где сейчас Юрка? — спросил Рассохин, поняв, что сопротивление гостеприимству бесполезно.
— Юрку сейчас рукой не достанешь! — похвалился Гохман. — Вот судьба у человека!.. Он рассказывал, ты его золото мыть научил?
— Было дело…
— И одну тайную россыпь указал, богатейшую? Вроде как вас обидели, и ты в отместку…
— Ничего я ему не показывал!
— Да? А он говорит… Ну, ладно, в общем, подался Юрка в старатели. В одиночку по тайге лет двенадцать скитался, пить бросил. Думали уж, погиб где… А перестройка началась, является в Усть-Карагач — рожа красная, уже на «Вольво» катается. Три пилорамы поставил, потом деревообрабатывающий комбинат купил, где карандашную дощечку делали… Если не ты показал россыпь, значит, повезло Юрке, сам надыбал. Сейчас в Кемерово живет, иногда приезжает. Тебя добрым словом вспоминал. Говорил, вы отличились, а никакого почета не оказали. До сих пор помнит и обижается.
— Дело прошлое, — отмахнулся Стас. — Времена такие были, что ворошить… Сейчас надо полковника искать. В общем, он жив.
— То есть как жив?
— Звонил вчера Бурнашеву и своему сыну.
— Откуда?
— Неизвестно…
— У него сотовый? — с надеждой спросил Фридрих. — Если сотовый, то он близко! Тут за деревню ушел — связь пропала.
— Телефон у него космический. Из любой точки можно звонить.
— Это хуже… А ему пробовали?
— Постоянно набираю — выключен.
— Но если живой, чего искать-то его? Не ребенок…
— Звонок странный. Высылает доверенность сыну, чтобы тот продал дачу, снял деньги в банке и все перевел на какой-то счет. Как будто выкуп.
— В заложники взяли? У нас? Да не может быть. Это у вас в Москве…
— Все меняется, — вздохнул Стас. — На Карагаче обычно женщины пропадали. Сейчас мужики. И такие, с кого есть что взять.
Участковый местные легенды знал.
— На погорельцев не спишешь…
— В том-то и дело… Может, бандиты завелись?
— Дикие старатели до сих пор бродят, отвалы перемывают. Но только летом, сейчас им рано еще…
— Кто же лодку прострелил?
— Говорят, пробоины по одному борту и все навылет. Пуль нет, установить, чей карабин, нельзя… Да у нас тут и незарегистрированного оружия хватает.
— Кто лодку нашел?
— Рыбаки, браконьеры, в общем… Говорят, в залом прибило. Шепнули жене Скуратенко.
— А что она?
Гохман уклончиво похмыкал, почесал спину об оконный косяк — не хотел говорить всего, что знал.
— Заявление написала о пропаже мужа, и больше не беспокоится. А она баба дотошная, должна бы верхом сесть и погонять…
— Что-то знает?
— Уголовный розыск проверяет. Думаю, избавиться вздумала от муженька. Хахаль у нее завелся…
— Почему же вы так плохо ищете? Пропал ваш сотрудник, пенсионер, полковник…
— А на него заявления нет! У нас ведь так: пока не заявили — не можем завести розыскного дела. Дела нет, трупа нет — никто искать не станет. Кто захочет вешать на себя московского полковника? Эдак ведь всю область на уши поставят. Если кто из родственников заявит, тогда конечно…
— На днях сын Галицына приедет…
— Пускай приезжает и сам ищет. У нас не на чем. Был катер, так и тот отняли еще в прошлом году. На все отделение — одна машина и два мотоцикла…
— Есть же спасатели, МЧС!
— Мы заявку сделали, да ведь половодье, целые поселки топит. МЧС эвакуацией занимается…
— Ну и порядки!
— У вас в Москве не лучше, — отпарировал Гохман. — Сам не был, но такое говорят!.. Людей средь бела дня на улицах стреляют. И преступников не находят.
— Скажи мне, Фридрих, кто такой арендатор с Коренной Соры? — устало спросил Рассохин.
— А, этот… Он тут два лета жил. Сорокин, из Канады приехал, гражданство получил.
— Из Канады?..
— Будто корнями он местный, слух был. А больше информации никакой. Говорят, он вообще весь Карагач захватил.
— Карпов собирается разводить?
— Не знаю, пока что местных бичей разводит… Карпы — причина, чтоб аренду получить. Вроде хотели поселение возродить, какую-то общину или коммуну. Маслобойку поставил, лосиную ферму завел. А как вкусил первозданность наших мест, то ли нанял каких-то баб, то ли обманом заманил на сезон, орех заготовили, и сам вроде драпанул. Общину бросил. Вроде ничего и не заработал, потратил больше. Дурак, приехал из Канады, думает, тут рай. Тут комары в палец толщиной, стопку крови за раз берет… Теперь на Карагаче мы редко бываем, населения там нет, ничего не случается. Наш край теперь привлекает только непуганых идиотов.
— И есть такие идиоты?
— Ну, один Сорокин. А второго лично знаю. Два года подряд сюда приезжал, ученый, аж из Петербурга. Тоже скитами интересовался. Все хотел по Карагачу пройти, как этот полкан, экспедицию организовать. Дворецкий его фамилия…
— Дворецкий?
— Ну да, Михал Михалыч. Знакомый?
— Имел честь, заочно. Жалобы на меня писал…
— На нас тоже написал, — вдруг вмешалась супруга Гохмана. — Жил тут месяц, поили его, кормили. А он потом в УВД донес, будто Фридрих заодно с Сорокиным! Мол, покрывает его. Бессовестный человек!
— Только у Дворецкого денег не было даже моторку нанять, — выждав паузу после речи жены, продолжил участковый. — Хотел на одном энтузиазме, да разве на нем сейчас выедешь? Меня все сговаривал, давай, дескать, богатого Юрку раскрутим, пусть денег даст.
— А почему идиот?
— Да псих какой-то. Две недели назад прислал предписание губернатору. Ну, а тот спустил через УВД нашему начальнику. В общем, всех настращал и потребовал никого не пускать на Карагач. Кто будет копать, того ловить и сажать. Правда, неизвестно за что.
— Считай меня третьим идиотом, — сказал Рассохин. — Но у меня бумага есть, из Министерства культуры. Показать?
— Да я тебе верю! — Участковый почувствовал себя неудобно. — Потому что ты с Юркой работал, тебя помнят. У нас ведь даже прииск был, Рассошинский. Так что ты, считай, почетный гражданин.
— Ну а вообще, люди по Карагачу есть? Охотники, например?
— Говорят, есть какие-то, кержаки или бичи. Опять же про баб рассказывают.
— Не про баб, а про женщин, — строго поправила его жена.
— Ну, про женщин. Будто когда зону женскую закрывали, так многих по амнистии выпустили. Они и разбрелись по Карагачу. Мужики жаловались — в верха рыбачить не пускают…
— Бабы… женщины мужиков не пускают?
— Вроде того. Но это оперативная информация, уголовка проверяет.
— Значит, все-таки есть население?
— Нигде не зарегистрированное. Еще туристы бродят, шишкари, рыбаки — за всеми не уследишь. Сейчас любят глухие места, у кого техника есть…
Стас перебил:
— Надо пройти по Карагачу, пока вода большая. Хотя бы от Коренной Соры до Зажирной Прорвы. Пока полковник в уме был, звонил и упоминал Зажирную.
— Что, теперь без ума?
— Похоже, если велит сыну все распродать. Он мужик был прижимистый, халявщик, в общем.
— Зачем такого послали?
— Некого было! Сейчас же знаешь, проблема кадров… Ну что, пройдем до Зажирной?
— Пройти-то можно, — согласился Гохман, — только на чем? У местных буржуев просить мотор не стану. К ним на крюк попадешь — не спрыгнешь. Был бы Юрка!..
— Лодка есть?
— Этого добра навалом. У нас тут цветмет не принимают, так и лодки еще целые, и провода на столбах. Моторов нет.
— Прахов собирается скупку организовать, — вставила жена. — Скоро ложки и те унесут.
— Посмотрим, — многозначительно ухмыльнулся Фридрих. — У нас сейчас «Вихрь» — как подержанный автомобиль.
— Мотор купим.
— Другое дело! — вдохновился тот и глянул на жену. — Отпустишь, мать, в командировку с ученым?
— А я вас помню, — вдруг сказала та, глядя на Рассохина. — Вы жили на Гнилой Прорве, в поселке приискателей. В бараке.
— Жил, — признался тот. — В бараке.
— Я там в леспромхозе работала, — как-то мечтательно произнесла она и погрустнела. — Вы были такой загадочный, с бородой и трубкой… Мы даже в клубе один раз танцевали, помните? А вы нисколько не изменились.
— Жена у меня — спецконтингент, — отчего-то грустно похвалился Гохман. — Настоящая сибирячка. В общем, я — сын фашиста, жена — ссыльнопоселенка, а дочери…
— Ну хватит тебе! — оборвала его супруга, и сразу стало ясно, кто хозяин в доме. — Языком-то молоть…
— В Усть-Карагаче есть такая женщина — Евгения Алексеевна Семенова? — сразу у обоих спросил Рассохин.
Жена участкового соображала быстрее.
— Семенова? Евгения? Есть. Только она давно Меркулова.
— Которая Меркулова? — уточнил Гохман.
— Да Василия Осиповича, с Мотофлота.
— А, есть такая! У нее разве девичья фамилия — Семенова?
— А то какая же? Будто студенткой приехала и осталась.
— Верно, студенткой, — не веря своим ушам, проговорил Стас. — На практику приехала, к геологам…
— Что-то такое было, — отмахнулась она. — Говорили, Василий Осипович ее в лесу нашел, что ли. Привел и оставил. Теперь у них дети взрослые.
— Можем заскочить на Мотофлот, — видя интерес Рассохина, предложил Гохман, а сам ждал команды от жены. — Попроведовать… А потом и на Карагач. Если, конечно, ты не против.
Последние слова относились к жене.
— Поезжай, помоги человеку, — позволила она. — Не чужой…
— Если танцевали, конечно, не чужой! — с намеком засмеялся Гохман.
Жена не среагировала.
— Будешь на Гнилой, так на кладбище сходи, — велела строго. — Поправь там… Столько лет не бывали.
— Это обязательно, — серьезно заверил он. — Святое дело. Правда, говорят, и кладбище погорело…
— Поезжай, — благословила она и вдруг поцеловала мужа, тем самым выказывая на миг неожиданную нежность к нему.
— Сначала за мотором в магазин! — обрадовался тот, переодеваясь в милицейскую форму. — Потом начальству доложусь и автомат возьму. А по пути на Мотофлот заедем.
Желтый милицейский мотоцикл по виду был старее хозяина, однако же еще тарахтел.
— Это я специально жену завел, — оправдывался Гохман. — Иначе не отпустит. Я от Карагача столько беды натерпелся! Как ни поеду, без приключений не обходится. Раз вообще чуть не погиб…
Натерпевшись от буйного населения поселка, Карагач отвернулся от него, пробил себе новое русло, создав немало хлопот тому, кто намеревался попутешествовать по реке. На Мотофлоте, что был близ старого устья, никакого флота давно не было, но остался длинный, в одну улицу вдоль Чилима, поселок, который облюбовали приезжие дачники. Местного населения оставалось немного, дворов семь, разбросанных среди новеньких коттеджей, но к своему стыду участковый не знал, в котором живут Меркуловы, и сослался на то, что больно уж распространенная фамилия. Подъезжая к брусовому двухквартирнику, Рассохин испытывал ощущение, сходное с мистическим шоком: неужели все оказалось так просто? И Женя Семенова, которую не могли найти даже с помощью авиации, парашютистов, погонь, засад и сплошного прочесывания местности, вдруг явилась ниоткуда, вышла замуж, поселилась на берегу большой реки, нарожала, вырастила детей и теперь преспокойно живет, как будто бы ничего не случилось…
Нет, наверное, случилось, иначе бы не стала писать письмо своей первой дочери Елизавете…
Милицейский мотоцикл вышел встречать хозяин — с седой, веником, кержацкой бородой человек лет семидесяти. Он молча поздоровался за руку с участковым, но на Рассохина лишь глянул и отвернулся.
— Василий Осипович, супруга-то у тебя дома? — участливо спросил Гохман.
— На что тебе, паря, супруга моя? — подозрительно спросил тот.
— А вот, человек интересуется!
— Что за человек-то?
— Ученый, из Москвы.
Меркулов наконец-то оглядел Рассохина, а сначала смотрел сквозь него, как через стекло.
— Вашу жену зовут Евгения? — спросил он. — Девичья фамилия — Семенова?
— Ну и что?
— У нее есть дочь Елизавета, в Питере? То есть в Ленинграде?
Бледноватое лицо старика зарозовело.
— Какая такая дочь? Не знаю, не слыхал. У самой спросить надо бы.
— Позовите, спросим, — предложил Рассохин.
— Ты-то с какой стати спрашивать станешь? — вдруг взъелся Меркулов. — Ты кто ей, ученый? Хрен с горы? Моя жена, я и спрошу!
— Да ты не сердись, Василий Осипович, — примирительно сказал Гохман. — У товарища ученого поручение от дочери, мать свою поискать. Потерялась лет тридцать назад, а звали ее, как твою жену.
Старик и вовсе стал багровый, захлопнул открытую было калитку.
— Постойте-ка тут пока…
И скрылся в доме.
— Дед чудаковатый, — шепотом проговорил участковый. — Как бы семейный дебош не устроил. Если честно, то, говорят, жена у него погуливала в молодости. Сам-то на буксире работал, кошели с лесом водил. Месяца по два дома не бывал…
Минуты три стояли молча, прислушивались к неясным звукам.
— У нее нос с горбинкой? — вспомнил примету Рассохин.
Гохман открыл рот, но ответить не успел, ибо на крыльце оказалась суровая пожилая тетка — иначе не назвать, но, как говорят, со следами былой красоты.
Стас вздохнул облегченно.
— Вы что это моему деду наплели? — Она прихватила клюку и спустилась на звонкий, деревянный тротуар. — Какая такая дочь?
Это была не Женя Семенова…
— Вы нас простите, — повинился Рассохин. — Я ищу Женю… Евгению Семенову из Ленинграда.
— Ну, я это была! — заявила тетка, — только не из Ленинграда. И у меня никаких дочерей нет!
— Это совпадение, — вступился Гохман. — Виноваты, извиняемся…
— Вам совпадение, а этот черт ревнивый мне три дня шею пилить будет!
В этот миг Стас узрел, что над ее головой кружатся две ласточки, пикируя, словно на кошку. Тетка подняла клюку и пригрозила:
— Вот я вас сселю с избы-то, паскудницы!
До появления высокого начальства и журналистов на пробном участке запустить драгу и добыть хотя бы грамм золота никак не удавалось: сначала полетел какой-то вал по причине заводского брака, потом сгорел электромотор, и наконец в рудоприемник завалился и заклинил ковши угловатый и крепчайший камень. На прииске возникла нервная, злая лихорадка, когда все друг на друга кричали, требовали, но даже все вместе не могли быстро преодолеть непреодолимые обстоятельства — стихийный, коварный нрав Карагача. Необкатанную, бог весть как попавшую в россыпь глыбу кое-как раскололи кувалдами, вытащили, запустили драгу, но в отлаженной, не раз проверенной и испытанной технике промывка не пошла. То есть золото не оседало на специальных резиновых ковриках, а вместе с тяжелой фракцией уходило в отвал. Оказалось, полностью отсутствует обязательная заводская регулировка агрегатов и настройка приборов. Следовало бы вызвать специалистов завода-изготовителя, но где там ждать неделю — надо добыть первое золото, показать процесс и начальству, и телезрителям!
Вероятно, Гузь договорился с начальником драги, и тот послал рабочего с банкой краски и кистью — закрашивать имя «Рассоха» вдоль верхней палубы. Закрасил, спустился, но прошло четверть часа, краска на солнце и ветру просохла, и название проступило сквозь нее вроде бы даже еще ярче, по крайней мере свежая белая полоса с красными буквами притягивала внимание. Рабочий опять залез наверх, теперь с банкой красной краски, но Рассохин уже не увидел, чем это закончилось, потому что они с Женей Семеновой собрали книги и удалились в палатку, за три версты от участка.
Вопрос с увольнением разрешился так внезапно и скоро, что в первые минуты Стас ощутил не удовлетворение, а панику и поймал себя на мысли, что готов бежать за Гузем и просить отменить решение, даже покаяться, правда, неизвестно за какие грехи. Он вдруг осознал, что все кончилось, надо собирать вещички и возвращаться на Гнилую Прорву за расчетом. Причем неизвестно, на чем добираться: моторную лодку он должен был оставить на участке, ибо через два дня сюда приедет весь отряд, а попроситься на вертолет можно только у начальника партии. Тот же, злой и обиженный, скорее всего, не откажет, но поизмывается всласть, припомнит все, что было и чего не было.
Вообще-то Гузь страдал комплексом неполноценности: по образованию он был горным инженером-разведчиком, проще говоря, буровиком, но руководил геолого-поисковой партией, исполнял обязанности старшего геолога и, надо сказать, кое-чему научился, нахватался — по крайней мере, глину от песка отличал и даже знал, что такое синклиналь,[22] ибо так ласково называл жену. Но всякий пришедший молодой специалист мог заткнуть его за пояс, когда дело касалась теоретических знаний, мог сказать, что он не профессионал и занимается не своим делом. Гузь сильно от этого переживал и, будучи человеком сильным, властным, имея полную поддержку в руководстве экспедиции, всех поисковиков, в том числе и Репнина, постоянно прижимал, поддавливал, заставляя по несколько раз переписывать отчеты. А удачливых тихо ненавидел, однако при этом в глаза и за глаза мог нахваливать, хлопать по плечу и даже прославлять в своих речах на собраниях коллектива.
Рассохин догадывался, что теперь хочет от него начальник партии: присвоив себе его научную работу, написанную по материалам Рассошинской россыпи, он уже снискал себе славу первооткрывателя и теперь страстно хотел, чтобы это повторила и «народная» молва. Остаться в партии, возглавить поисковый отряд и получить все прочие блага можно было очень просто — сказать во всеуслышание, например, перед телекамерой, что идейным вдохновителем, прорицателем и предсказателем этого месторождения был начальник партии Гузь. А я, мол, только выполнил его указания, протолкался в безымянную речку и копнул галечник, вскрытый речным руслом, в той точке, которую поставил на карте начальник славной Карагачской партии…
Для полного счастья ему не хватало признания низов, которые отлично знали, кто автор открытия, поэтому речку и драгу по собственной инициативе окрестили его прозвищем — Рассоха. Можно было всяко относиться к Репнину, но именно он первым назвал так и речку, и месторождение в своем отчете, а потом и в докладе, и поздравлял его искренне.
Когда они с отроковицей пришли к своей палатке, Рассохин ощутил уже острое желание сейчас же вернуться назад и сдаться Гузю. Заявление еще не подписано, в кадры не сдано и все можно вернуть вспять… И пожалуй, дозрел бы, пока они еще часа полтора подсушивали книги, и вернулся, но Женя словно мысли его прочитала.
— Знаешь, — проговорила она, глядя как-то возбужденно, — я думала, ты еще совсем мальчик. Восхищенный, влюбчивый мальчик. А ты мужчина, Стас. Мне было так приятно. Я тобой горжусь! Хотя будет так жаль расставаться…
Сказала так и тем самым отрезала все пути к отступлению. Он даже с ужасом подумал, что бы случилось, какие беспощадные слова бы произнесла отроковица, прояви он слабость.
— Я не хочу расставаться с тобой, — проговорил он, сдерживая желание обнять ее, сжать, как утром, до хруста косточек.
Женя не захотела ничего отвечать, видимо, еще не знала, как воспринимать его слова. Они сидели перед горой книг, сложенных на столе, каждый на своей стороне, но и найденный клад не радовал. Вдруг она засмеялась.
— Этот Гузь тебе завидовал! Как он завидовал!.. Кстати, а что теперь с книгами делать? Возьмешь с собой?
— Не знаю, — обронил Рассохин. — Не успел подумать…
— Ты их возьми, — посоветовала отроковица грустно. — Так будет справедливо. Ты открыл эту россыпь, и клад твой. Я только одну книгу возьму, вот эту, красивую…
— И что стану делать с этим добром? — не сразу и туповато спросил он.
— Поставишь на полку. А потом, когда будет время…
— Наверное, я уеду в Якутию, на Вилюй. Там полок нет.
— Отправь домой. Где у тебя дом?
— В деревне Рассохино. Стоит заколоченный…
— У тебя нет родных?
— Брат забрал матушку к себе, в Москву…
— Матушку… Как ты хорошо ее называешь, ласково. Ты удивительно ласковый мужчина.
Женя сказала это так грустно, с каким-то холодным сожалением, что не вызвала ожидаемых, естественных чувств; напротив, словно отдалилась. Мало того, подчеркивая разницу в возрасте и свою многоопытность в отношениях с мужчинами, рассказала о своем неудачном замужестве — попыталась оттолкнуть его, лишить надежды, но вызвала только скрытую ревность.
И вдруг сказала слова, смысл которых Стас понял тогда однозначно.
— Что, если эти книги — моя судьба? Клады открываются не случайно. Это знак…
— Вот и возьми себе, — отвернувшись, сказал он.
— Как же я с ними все лето? Здесь полный абалаковский рюкзак… Нет, мне хватит одной. Лучше ты забирай. Не хочу отнимать твою судьбу.
Все, что возникло, родилось между ними в это короткое время, сейчас рушилось. И Женя, должно быть, почувствовала, что с ним происходит.
— Люди находят клады и начинают их делить, драться, — вдруг проговорила она с печальной улыбкой. — А мы с тобой не знаем, как от него избавиться. Чемодан без ручки… Хочешь, скажу, что ты загадал?
— Не хочу, — наливаясь угрюмостью, буркнул он.
— Ты уедешь сегодня? — Она дотянулась рукой и запустила пальцы в бороду, как вчера ночью.
И взмученные чувства как-то враз посветлели.
— Не знаю…
— Сегодня не уезжай. — Голос отроковицы стал трепещущим, словно птичка, зажатая в кулак. — Пусть у нас будет еще одна ночь. Я тебе расскажу историю о зимующей ласточке.
— Здесь будет много народа, — выговорил он немеющими от предчувствий губами.
— А чтобы никто не мешал, мы спрячемся. Возьмем палатку и уйдем в лес. Там найдем местечко… заветное, тайное. И наперекор всем приметам, наперекор судьбе!..
— Книжки читаете? — насмешливо и громко сказал Гузь, внезапно появляясь на стане. — Вот молодость!
Явно подкрался, гусь лапчатый, была бы возможность — подполз еще ближе, чтобы послушать, о чем они читают!
Женя даже не дрогнула, медленно отняла руку и внезапно глянула с той неприкрытой завлекающей полуулыбкой, которая уже бесила Рассохина.
— Подглядывать и подслушивать нехорошо! — и кокетливо погрозила пальчиком. — Даже если вы — начальник.
— Да я и не подглядывал! — неожиданно миролюбиво воскликнул тот и воззрился на отроковицу с интересом. — Придется вам, сударыня, поскучать в одиночестве. Некоторое время…
— Это почему?
— Отрока вашего забираю!
— Я боюсь одна! Говорят, здесь живут погорельцы.
— Навещу вас, — пообещал тот. — Но могу и охрану выставить!
— Нет, лучше вы навестите! — призывно засмеялась она.
— Рассоха, у тебя лоток с собой? — Гузь, завернув полу куртки, утер вспотевшее лицо.
Эта фамильярность Гузя говорила о том, что ему сейчас что-то срочно потребовалось от Стаса.
— С собой, — обронил он, сдерживая гнев.
— Тогда выручай! Бери и пошли со мной.
— Куда?
— Золото мыть!
— У вас драга[23] работает, — умышленно односложно, без всякого выражения проговорил он. — А я уволен.
Гусь захлопал крыльями и загоготал:
— Рассоха, будь человеком! Ну, я погорячился… Начальство летит! А вы… а ты тут как на пляже. Обнажились и загораете! Я с вертолета видел!.. Хочешь, так еще сто лет работай! Я же тебя не гнал… В общем, хватай лоток и вперед, на мины. Промывку запустить не могут эти охламоны! Все нас торопили, а сами!.. Будем картину изображать, для телевидения. Лотками намоем и на коврики насыплем. А то хотели уж бронзы напилить и опилок насыпать. Надо же сделать вид!.. Ну, а что иначе? Второй раз первый секретарь обкома не полетит и корреспондентов не привезет. Знаешь, сколько сил было приложено, чтоб его заманить? Короче, у нас в запасе три часа! А твоя уважаемая… наша уважаемая практикантка пока… будет поддерживать огонь. Чтоб не погас, как и положено…
Последние слова были с намеком, но у Рассохина шевельнулась в груди предательская надежда, напрочь затмившая интуицию и предчувствие. Он ничего Гузю и ответить не успел, а как-то враз все ему простил, даже легкое заигрывание с отроковицей.
— Иди, — подвигла Женя, глядя преданно. — И возвращайся скорее.
Он прочитывал в ее словах совсем другое и воспринимал ее зовущее обещание как естественное, ожидаемое, неотвратимое и одновременно щемящее и грустное, ибо грядущая ночь должна была стать прощальной. Но если он пойдет, то Гузь, конечно же, выбросит заявление и оставит в отряде.
— Иди, Стас, — подстегнула его надежды отроковица. — Я никого не боюсь, это шутка…
— Заводи мотор! — Гусь вразвалку двинул к лодке. — С утра набегался — ноги отваливаются…
Рассохин подождал, когда он удалится, склонился к уху практикантки и прошептал:
— Не нужно строить начальству глазки.
Она все понимала, но тут же вывернулась:
— Это я его умышленно! Люблю заводить таких жлобов! А ты что подумал?..
— Мне это не нравится!
— Я ради тебя, — зашептала Женя. — Ты ведь не хочешь уезжать, правда? И мучаешься…
— И ради меня не надо!
— Послушай, милый! — громко и вызывающе засмеялась она. — Ты что, муж мне?.. Какой ревнивец! Ну точно как Виталий!
— Какой еще Виталий?
— Мой супруг! Между прочим, я замужем.
Еще секунда, и все бы кончилось. Рассохин уже чуял накатывающую волну гнева, но отроковица вдруг приподнялась на цыпочки, поцеловала в губы и шепнула:
— Жду тебя, мой Отелло… Беги!
Стас прихватил полевую сумку, лоток и побежал заводить мотор.
На участке нервозная обстановка только раскалялась. Закрашенная теперь красным надпись на драге проступила еще раз, но теперь как негатив: то есть на красном фоне объемно выступали бело-розоватые буквы — «Рассоха», но их уже никто не пытался скрыть. Дежурная смена летала по драге, как рой встревоженных ос, пыталась отладить промывку, а отдыхающая, вооружившись алюминиевыми и фаянсовыми тарелками, мыла золото, стоя по колено в реке. Лотков оказалось всего два, впрочем, как и тех старателей, кто владел этим инструментом мастерски и мог действительно спасти положение. Однако после трех минут в ледяной воде руки немели до полного бесчувствия, поэтому прямо у воды распалили костер, а начальник драги, несмотря на сухой закон, достал неприкосновенный запас спирта. Гузь сидел на радиостанции и отслеживал ситуацию с вылетом начальства из Усть-Карагача, где оно сейчас попутно инспектировало деревообработку. Кок на буксире готовился к приезду гостей, варил уху из запретной нельмы, жарил ее на сковородах, как холодную закуску, и пек возле открытого огня на ивовых прутьях — это горячее рыбацкое блюдо на Карагаче называлось чапса. А поскольку было неизвестно, когда представители власти и журналисты улетят назад, то прямо на вскрытом участке, отглаженном бульдозерами, готовили экзотический ночлег: стелили пихтовую лапку, ставили палатки, чтоб гости могли поспать прямо на россыпи, то есть на золоте, сколачивали столы и запасали дрова для костра.
По команде Гузя всем старателям следовало немедля сдать шлих,[24] спрятать промывочный инструмент и исчезнуть с глаз.
Между тем срок, означенный им, прошел, солнце падало к горизонту, но вместо отбоя начальник партии заявил, что есть еще час, дескать, чем больше намоете, тем будет убедительнее представление нового месторождения и торжественней торжество по поводу сдачи его в эксплуатацию. Из своих запасов налил околевшим старателям по стопке водки и даже угостил чапсой, которая, видимо, случайно попадала в огонь, слегка подгорела и затрусилась пеплом. Рассохин принципиально не пил и не ел, поскольку от последних слов Жени, много раз прокрученных в голове и наконец-то до конца прочувствованных, не мерз в ледяной воде, не испытывал голода и давно бы сбежал с принудработ, но опасался, что Гузь пойдет его разыскивать и опять помешает.
А тот словно чуял его настроение и даже подбодрить пытался.
— Гляди, Рассоха, — ткнул пальцем в драгу. — Увековечил ты свое имя! Закрасить невозможно. А это как называется?.. Вот, Бог правду видит!
Ручная промывка, в общем-то, шла неплохо, нашли даже несколько мелких, со спичечную головку, самородков, и начальник партии воспрял — было уже чем втереть очки и показать товар лицом.
Потом Рассохин сотни раз вспоминал свое тогдашнее состояние, восстанавливал в памяти самые незначительные детали своих ощущений, внезапных мыслей и желаний, но не мог отыскать даже намека на предчувствие беды. А ведь раньше оно было, это предчувствие, что беды, что радости — однозначно, и много раз выручало, позволяя упредить несчастье или, наоборот, двигаться к удаче.
Тогда же он механически тупо шлиховал золотоносную гравийно-песчаную смесь и слушал трепещущий в ушах, щекочущий голос Жени: «Пусть у нас будет еще одна ночь… А чтобы никто не мешал, мы спрячемся. Возьмем палатку и уйдем в лес. Там найдем местечко… заветное, тайное. И наперекор всем приметам, наперекор судьбе!.. Жду тебя, мой рыцарь!».
Голос ее и усыпил бдительность.
Наконец команда прозвучала, и еще какие-то заверения Гузя, мол, никто не забыт, ничто не забыто, но Рассохин недослушал, бросил лоток с недомытым грунтом и как с низкого старта рванул к своей моторке, причаленной выше участка. На ходу вырвал ломик с цепью, оттолкнулся подальше от берега и запустил двигатель. Лодка летела по речке, мелькали прибрежные кусты, облитые вечерним оранжевым солнцем песчаные яры, пики высоченных одиночных елей, и мир был настолько прекрасен, что от переполненности чувств хотелось подпрыгнуть вверх, откинув руки назад, утратить земное притяжение и взлететь. На прямых участках русла Стас и впрямь бросал румпель, раскидывал руки, подставляясь ветру, и кричал нечленораздельное:
— И-и-й-ы-ых!
Где-то на середине пути он услышал гул тяжелого вертолета и с радостью подумал — теперь все, теперь о них с Женей никто не вспомнит до утра. Если только черти не принесут Репнина, который непременно захочет поставить свою палатку на старом стане — и примета хорошая, и от начальства подальше. Солнце плясало сзади над самым лесным окоемом, было достаточно времени, чтобы снять палатку, убежать далеко в синий вечерний лес, найти самое заветное местечко и — наперекор всему!..
Судя по звуку, вертолет уже сел на участке и заглушил двигатели, когда Стас подъехал к стану. И еще издалека заметил, что нет дыма: так уж было принято у геологов — если в лагере кто-то есть, то костер должен гореть. И тем более огонь еще приятнее, когда человек испытывает одиночество. У Жени это была третья производственная практика, должна бы уже научиться…
Стометровку до лагеря он одолел как спринтер и с разбега будто на стену наткнулся. Костра никто и не разводил без него, никто огня не поддерживал, со стола был сброшен дюралевый лодочный капот вместе с посудой, колья у палатки вырваны, и весь ее перед провис до земли.
— Женя? — позвал он, стряхнув оцепенение.
Сунулся в палатку — пусто!
На глаза попали расческа отроковицы, лежащая на спальнике, и брошенный у входа фонарик.
— Женя?! — громче крикнул Рассохин, вынырнув наружу.
И лишь тогда заметил следы борьбы: мягкий хвойный подстил, слежавшийся за долгие годы в пружинистый матрац, на котором не оставались отпечатки обуви, сейчас был взрыт, словно кого-то, упирающегося, тащили от палатки, чьи-то подошвы растоптали вылившуюся из банки сгущенку, а нарубленный сушняк раскидан по сторонам — швыряли поленья…
Мысль, что Женю похитили незримые и вездесущие погорельцы, возникла мгновенно, как он вспомнил исчезнувший вчера купальник, а потом ясно слышимые шорохи в кедровнике. Кто-то выслеживал, подкрадывался, наблюдал и вот выбрал момент…
Он бросился вниз, к разливам — бочка с бензином оказалась на месте, после чего еще раз осмотрел палатку. И тут обнаружил, что нет рюкзака Жени, который лежал у нее в изголовье вместо подушки, и тех вещей, которые она вынимала, — спортивного костюма и мужской рубашки, в которой она бегала утром умываться.
Лишь дважды обежав весь стан, он сообразил, чего еще не хватало, что пропало вместе с отроковицей: клад — все книги и медное литье.
Рассохин хоть и не застал времени, когда исчезла геолог Галина Притворова и повариха с Сухозаломской россыпи, но по горло наслушался историй, версий и предположений от очевидцев и участников тех событий. После этого случая в партии женщины не пропадали, и ходили только страшилки о кержаках из толка погорельцев, чтобы запугивать и делать сговорчивыми отроковиц-практиканток. Стас хоть и опасался чего-то подобного, но как-то отвлеченно, как опасаются собственной смерти и все-таки живут. Казалось, этого с Женей произойти не может, потому что он рядом, владеет способностью предчувствовать опасность и может ее предотвратить…
Уняв первую панику, он еще раз тщательно осмотрел стан, следы, прошел по ним несколько метров и потерял: Женя далее уходила или добровольно, не сопротивляясь, или ее понесли, причем в том направлении, где он вчера охотился за «глухарем», то есть вверх по речке. Все окрестности месторождения он знал наизусть, маршрутил здесь полтора полевых сезона, поэтому сунул под палатку полевую сумку, взял только револьвер и побежал по берегу. В густом хвойнике было темновато, вечернее зарево освещало лишь верхушки крон — подходил тот сумеречный час, когда очертания всех предметов делались обманчивыми, колеблющимися, создавая иллюзию движения. Вместе с этим и мысли становились какими-то мерцающими, неясными, ничем не подкрепленными. А с чего бы иначе вдруг подумалось, что Женя пошла искать это самое потаенное, заветное место? Пока он шлиховал на участке?.. Пошла и по неопытности заплутала, а с собой ни карты, ни компаса, ни местности не знает…
Звать надо! Кричать, стрелять!..
И закричал бы, но вовремя вспомнил о пропавшем кладе. Его она уж точно с собой не понесла бы…
Книги и прочие религиозные причиндалы могли взять только кержаки. Возможно, они и охотились за ними, например узнали, что геологи станут делать вскрышу и разработку россыпи, пришли, чтобы выкопать, отследили, как они с Женей открыли бочку, потом улучили момент и похитили, а заодно прихватили и отроковицу…
Нет, пожалуй, наоборот, попутно взяли книги, а цель была — женщина. Потому вчера пропал купальник…
Он бежал с остановками — прислушивался, рассматривал неясные предметы впереди и землю, но кругом был пухлый подстил, как вода, не сохраняющий следов. Единственная мысль, которая теперь утешала: далеко не уйдут! Клад весит под сорок килограммов вместе с литьем, отроковица еще на двадцать пять больше. Одному не унести, значит, погорельцев не меньше двух, и то бежать с таким грузом, да еще живым, умеющим постоять за себя, долго невозможно. Пойдут шагом, значит — можно догнать!
А Женя будет сопротивляться, ибо не терпит никакого насилия.
Примерно через километр Рассохин наткнулся на ложок, по которому бежал ручей, а по северному склону еще лежал глубокий и разопревший от тепла снег. Если он идет в правильном направлении, то похитители непременно где-нибудь пересекут эту контрольно-следовую полосу! Он резко повернул, побежал вдоль лога и через полтораста метров увидел цепочку глубоких ям, перерезающих снег чуть наискось. Отпечатки обуви еще не успели оплыть, были довольно четкими, но какими-то бесформенными, как от растоптанных валенок. Определить, сколько прошло человек, тоже оказалось невозможно, однако точно не один, и шли по-волчьи, ступая след в след. Скорее всего, обуты были в кожаные бродни, которые еще до сих пор носят охотники, причем и зимой, надевая внутрь снятые чулком шкурки щенков. Нога не мерзнет, и ходить на мягкой подошве можно неслышно…
Кроме кержаков да геологов на Карагаче больше никто не охотится.
Сразу за логом следы терялись, хотя на другой его стороне пошел смешанный лес, усыпанный палой и влажной листвой. Будь это днем, что-то можно было найти, но уже смеркалось, подступала хоть и белая, однако ночь, и потому Рассохин побежал наугад, ориентируясь по тому направлению, как погорельцы форсировали снежную полосу.
— только бы у них не было лодки, — вслух подумал он.
И через несколько минут выскочил на берег весеннего речного разлива, отороченного болотным кустарником на высоких кочках. Пока еще хватало призрачного, дрожащего света, отраженного водой, прошел в одну сторону, затем в другую и наткнулся на свежие следы бродней, оставленные на раскисшей почве.
Кержаков было двое, и пришли они на двух обласах, которые вытаскивали на отмель между кустов, а потом сталкивали уже с грузом, и совсем недавно, может, всего час назад. И эти следы делали реальными не только похищение и похитителей, но и строй мыслей, по крайней мере от паники уже ничего не осталось. Рассохин повернул обратно, на стан, теперь напрямую, вдоль разливов. Сейчас все зависело от скорости: на обласах против течения они тоже далеко не оторвутся, и если бы днем, то догнать их на дюральке под «Вихрем» — дело одного часа. Конечно, ночью, услышав вой мотора, они могут уйти в пойму и затаиться в залитых кустах, но в семнадцати километрах выше был залом, где можно их настигнуть. Берега высокие, погорельцам придется обтаскиваться — там и потеряют нужных ему полчаса.
И ведь есть еще богиня Удача!
Прибежав на стан, он с тайной надеждой заглянул в палатку, нащупал фонарик и посветил — чуда не случилось. Поднял расческу Жени и обнаружил волосы на зубьях — они еще пахли отроковицей… или так показалось? Завернул в пробный мешочек, сунул себе в карман, прихватил полевую сумку с картами и помчался к лодке.
На воде было светлее, розоватое небо отражалось в речке, в залитой узкой пойме, и это добавляло уверенности. Рассохин гнал моторку на полном газу, едва вписываясь в крутые повороты. Скоро отметил место на берегу, откуда отчалились обласа, револьвер вынул из кармана и положил рядом, чтоб был под рукой, в другую взял фонарик, опробовал — плохо, слишком белая ночь, чтобы лучом пробивать пойму. А материковая терраса и вовсе кажется непроглядной…
Он ждал появления обласов на реке за каждым поворотом и по мере приближения залома испытывал страсть гончего пса — непроизвольный, яростный стон походил на скулеж. Несколько раз мотор выбрасывало из воды топляком, но шпонка винта оставалась целой, и это подсказывало — будет удача! За одним из поворотов он узрел на темной, как старое серебряное зеркало, реке нечто, напоминающее облас. Почудилось даже, он движется в крест течению — будто удирает в затопленную пойму, но это оказалось толстое кедровое бревно, потерянное зимой лесорубами. Свежий желтый спил напоминал лунное отражение…
Залом возник внезапно из-за поворота, Рассохин резко сбросил обороты и встал, пошарил лучом по низкому берегу, по нагромождению белесого лесного завала — никого, только шевеление теней. Он причалил возле волока, выскочил на берег и побежал по таску, хорошо заметному на сырой глинистой почве. На верхнем бьефе[25] залома до следующего речного поворота было пусто.
И редкие следы бродней только в обратном направлении: то есть погорельцы здесь перетаскивались, но в сторону устья и Карагача, то есть когда шли к стану…
Неужели успели спрятаться в пойме? И он проскочил мимо?
Стас пробежал берегом до разливов, но следующий поворот так и не открылся. На обратном пути он почти убедил себя, что погорельцы остались где-то на отрезке реки между участком и заломом. Возможно, вообще отплыли на несколько верст, забились в пойму и ждут, когда он перестанет метаться по реке и искать, чтобы уже спокойно уйти. Спрятать лодку и сесть в засаду? Догадаются… Пустить ее по течению, посадив за румпель чучело, — мало ли, бензин кончился, мотор сломался… Самому залечь на заломе! И валить, как медведей!
В тот миг он не сомневался, что может хладнокровно убить человека.
Рассохин вернулся к лодке, прикинул место для засады, нашел подходящую корягу, чтоб обрядить в куртку и берет, и хотел уже усадить чучело вместо себя, но заметил, на бензобаке нет соединительного шланга с «грушей». Потом оказалось, отсутствуют провода на свечах зажигания, а шнур стартера отрезан.
И это все проделано за десять минут его отсутствия…
Погорельцы были где-то рядом! Они ждали здесь в засаде, точно зная, что он погонится, видели, как подъехал к залому, и, чтобы избавиться от преследования, испортили мотор.
Стас выскочил на берег, трижды выстрелил наугад в кусты и закричал:
— Сволочи! Ублюдки! Выходи!
Эхо на ночной реке было гулким и громогласным. Он прислушался, в надежде, что его услышит Женя и откликнется. Но единственным ответным звуком было испуганное кряканье взлетевших с разливов уток…
Чтобы зайти в устье Карагача, теперь надо было делать крюк в пятнадцать верст по Чилиму и там штурмовать Белоярский Залом, либо подниматься по затону — старому руслу — до образовавшейся плотины, перетаскиваться в отмершую от реки курью[26] и уже по ней выходить на Карагач. Правда, был самый короткий путь — лесовозная дорога из поселка прямо на реку, но и по ней весной почти не ездили из-за двух глубоких логов, залитых водой.
Галицын со Скуратенко добирались по этой дороге, поэтому Рассохин решил идти их следом. В Усть-Карагаче наняли «ГАЗ-66», приехали на берег затона и там выбрали самую маленькую, более похожую на скутер, лодчонку.
— Двоих-то подымет? — с сомнением спросил Стас.
— Как раз на двоих, — заверил участковый. — Плюс бензин и вещи. А на другой нам сквозь сору не пройти, вода падает. Если что, и через залом перетащимся.
Загрузили дюральку с мотором, вещи, продукты и пять километров пилили три часа, причем водитель вездехода после каждого лога удваивал сумму, угрожая вытряхнуть пассажиров с барахлом и повернуть назад. Как и во все времена, милиции здесь не боялись, поэтому Гохман помалкивал и разводил руками. Если московский полковник проявлял тут столичную резвость, то вполне мог нарваться. Но когда угрюмый водила довез и получил деньги, стал добр и услужлив, вызвался даже встретить на обратном пути, мол, только срок назовите.
— Обратно вещдок отвезешь, — велел ему участковый. — В милиции сгрузишь.
Старенькую «Казанку» с булями[27] едва отыскали на берегу: на место происшествия выезжал опер из уголовного розыска, который осмотрел лодку и на всякий случай припрятал в кустах. Дюралька Скуратенко и впрямь оказалась простреленной в пяти местах, да еще и в днище зияло несколько узких прорубов, оставленных топором. Ни вещей, ни каких-либо следов обнаружено не было, поэтому вещдок отправляли в милицию только как факт, подтверждающий характерность исчезновения Галицына и моториста. Однако когда стали грузить лодку в кузов и поставили ее на попа, Гохман что-то заметил и попросил подождать. Он достал складник, склонился к кормовой банке непотопляемости, отковырнул аккуратно вырезанную ножом торцевую стенку и отогнул в сторону. Вместо пенопласта, которым обычно заполняются банки, там оказался промокшее и тяжелое банное полотенце. Участковый осторожно вынул сверток, положил на землю и развернул — внутри лежал пластиковый пакет с сырыми слипшимися бумагами в картонной папке.
— Похоже, тайничок, — спокойно заключил он. — Что-то припрятали…
Рассохину одного взгляда хватило, чтобы определить, что это были копии архивных документов! По крайней мере, видимый первый лист, пропущенный через ксерокс, отлично читался, и не краска от влаги побледнела, а лист посерел.
— Ладно, — сказал водителю Гохман, заворчивая папку в полотенце. — Отдашь Рябышу в уголовный розыск.
— Стоп! — вмешался Рассохин. — Уголовному розыску эти бумаги не нужны. Да и читать их там не станут, выбросят на помойку.
Участковый попробовал отделить верхний лист, но тот начал расползаться у него в руках.
— Пожалуй, выбросят, — согласился он. — Специалистов у нас не осталось.
— Отдай мне папку, Фридрих? — попросил Стас. — Я с ней разберусь — разлеплю, просушу…
Гохман думал три секунды.
— А что тут? — спросил на всякий случай.
— Архивные бумаги, Галицын спрятал.
— Вижу, что архивные. Ты что, специалист?
— Нет, но что-нибудь придумаю!
— Добро, помогу, — самоуверенно пообещал Фридрих.
Вещдоки загрузили в кузов и отправили машину в поселок.
Участковый благоговел от новенького «Вихря» — должно, давно в руках не держал: запряг в лодку, примкнул тросиком, после чего весь осмотрел, проверил и лишь тогда запустил, потом дал поработать на холостых оборотах. В общем, провозился часа полтора, а надо было отчаливать, поскольку пик половодья на Карагаче уже прошел и уровень воды, судя по тине на кустах, падал. Еще одной приметой приближающегося лета были тысячи береговых ласточек, снующих над водой и чистящих гнезда в норах, которыми были источены все песчаные яры. Отчалили, когда солнце пошло к закату, да и то пошли на такой малой скорости, что даже эта крохотная лодчонка не поднималась на редан,[28] бороздила воду; Гохман обкатывал мотор бережно, как свой, в чем наконец-то и проявилась его немецкая натура.
Рассохин еще помнил Карагач, пройденный несколько раз в обласе, на весле, знал расстояния с точностью до километра и рассчитывал добраться в первый день до Коренной Соры. Однако участковый никак не хотел прибавить оборотов, и по чистой, глубокой воде они телепались до самого заката, и когда повернули в сору, начало смеркаться. Напрямую до бывшего кержацкого становища было километров шесть по затопленной и когда-то заваленной сорванным заломом низкой пойме. Правда, за прошедшие годы топляк и коряжник сгнили в прах, но зато на этом прахе выросли сибирские, причем застарелые джунгли: кустарник каждый год плющило ледоходом, однако за лето он вновь выбрасывал побеги, и в результате земля под водой напоминала туго сплетенную корзину. Двигались в сумерках, малым ходом, мотор то и дело выбрасывало из воды, и когда сорвали первую шпонку на гребном винте, в опасных местах Гохман глушил «Вихрь», и они брались за шесты, проталкиваясь сквозь заросли до более-менее чистого плеса или озера. Вот тут Рассохин оценил малые размеры лодки — только по сорам и ходить на такой.
Когда пробились к высокой пойме, совсем стемнело, поэтому рассмотреть что-либо на берегу уже было невозможно, да и от бережливости участкового отваливались руки. Пока он тетешкал мотор, сняв его с лодки, Рассохин развел костер, поставил палатку и приступил к слипшейся в толстый картон папке с документами. Снимать по одному листочку оказалось невозможно, бумага расползалась, однако довольно легко разделялась, если брать сразу по три-четыре: по крайней мере, третью часть утаенных Галицыным архивных материалов уже можно было прочесть. С помощью ножа Рассохин расчленил всю папку и разложил бумаги поодаль от костра, на сухую прошлогоднюю траву. Понаблюдав за ним, Гохман взял на ладонь слипшийся строенный лист и что-то прикинул.
— А если размочить? — предложил он и, прихватив фонарик, пошел к разливам.
И впрямь, опущенная в воду бумага достаточно легко разделялась на листы, только обращаться с каждым надо было очень бережно.
— Ты молодец, Фридрих! — искренне восхитился Рассохин. — Клин клином вышибают!
— Как же! — удовлетворенно сказал тот. — Двенадцать лет криминалистом, пока райотдел в Усть-Карагаче был. Потом райцентр упразднили. В общем, дорабатываю стаж…
Для того чтобы промокнуть воду с размоченных листов, их раскладывали на хлопчатобумажные вкладыши от спальных мешков и к полуночи разлепили всю папку — оказалось около сотни копий документов. Рассохин недооценил отставного милиционера: прежде чем передать материалы, он тщательно их изучил, проанализировал и, должно быть, самое интересное изъял.
А на вид — тупой ограниченный мент…
Пока Стас подсушивал бумаги возле костра, кое-что успел прочитать — это были те самые недостающие страницы из донесений филеров и докладов Сорокина вышестоящему начальству. Речь шла о книгах, бывших в собственности у кержаков на Карагаче: похоже, засланные жандармом шпионы получали задание выявить их названия, внешний вид и состояние и особое внимание обращать на пергаментные книги, писанные на еврейском, латинском, арабском и прочих иноземных языках. То есть получалось, жандармерию интересовали не сами кержаки, а их домашние библиотеки, но у Рассохина возник совсем другой вопрос — с какой стати Галицын так резво увлекся археографической наукой, в которой еще недавно ничего не смыслил? Значит, нашел в архивах то, что указывало на прямую выгоду, оттого и готов был взять на себя финансирование экспедиции.
Даже бегло просмотреть все бумаги, да еще при свете костра, было невозможно. После купания и особенно сушки копии рукописных документов поблекли, а листы скоробились. Кое-как к рассвету Рассохин пересушил всю папку, завернул ее в пластиковый пакет и, спрятав в свой рюкзак, пошел по прибрежному чернолесью. Отыскал аншлаг, жерди, свежий затес на дереве и кострище с новым таганком: вероятно, полковник с мотористом пили чай. Хотел уже возвращаться назад, но в молодом пихтаче мелькнул холм недавно вынутой, еще не побывавшей под дождем земли…
Все подтверждалось, Галицын не удержался и начал раскопки: из ямы глубиной чуть больше метра что-то извлекли! Стас дал круг и на полянке, где, видимо, когда-то стояла изба, обнаружил клепки от разбитой бочки, свежее кострище и подстилку из пихтолапки. Значит, полковник в тот же день не поехал к Красной Прорве, а решил попытать счастья и сразу же попал в десятку. Металлодетектор у него был дорогой, чувствительный, поэтому точно нашел место, где кержаки зарыли бочку. Сама она, с деревянными обручами, звенеть не могла, но содержимое — меднолитые складни, застежки на книгах — выдало тайну захоронения. Староверы металлом не сорили на своих становищах, гвоздей, подков, стреляных гильз и прочей утвари не разбрасывали. Зазвенело — щупом проверил, тут и есть…
А Бурнашев изобретал и два месяца паял аппарат…
Изучая следы раскопок, Рассохин не слышал, как подошел Гохман, и увидел его внезапно. Тот, видимо, уже оценил результаты работы полковника, хмыкнул:
— Ну, я догадывался, Станислав Иванович. Кержацкие клады… Слышал от старых людей про сселение.
— И что скажешь?
— Конкуренция может быть. Земля-то в аренде. Могли прихватить…
— Кто? Сорокин?
— Поди узнай, кто… Еще говорят, кержаки на свои клады страшные заклятия ставили. Кто достанет и присвоит, дольше трех дней не проживет. Обязательно с человеком что-нибудь да случится. Помрачение рассудка, к примеру.
— Сам-то веришь в это? — Рассохин подобрал круглое дно от бочки и клепку.
— Я не верю, но люди говорят… И вот пожалуйста!
Скорее всего, на Карагаче в старообрядческих поселениях был один бондарь: эта бочка по своему виду и форме была точно такая же, как и найденная при вскрыше россыпи на Рассохе. Только уже сильно погнившая, с желто-коричневыми разводьями с внутренней стороны: вода просачивалась в бочку и, скорее всего, там оставалась, даже когда вмещающий грунт просыхал. Книги, если таковые были внутри, наверняка сопрели и превратились в глиняные комья, которым уже вряд ли поможет талант криминалиста.
Самые худшие предположения Рассохина подтверждались — снаряжать экспедицию на Карагач надо было еще лет двадцать назад.
Они с Гохманом обследовали весь мыс высокой поймы, где было становище староверов, прилегающую к нему территорию, и обнаружили еще одну яму. Рядом валялся хорошо сохранившийся и довольно вместительный берестяной туес, закрытый крышкой и тоже засмоленный. Галицын открыл его просто: вспорол ножом по кругу и достал содержимое — судя по зеленоватому налету на прелом тряпье, что-то медное. Полковником овладела страсть кладоискательства, и скорее всего, на Коренной Соре он нашел что-то очень дорогое для него, возможно, золотые или серебряные изделия, поскольку книги, тем более испорченные, ценностями для полковника были сомнительными.
Только сейчас Рассохину пришло в голову, что Галицын, вполне возможно, жив и здоров, и на них с мотористом никто не нападал. Если они в самом деле выкопали что-то ценное, то сговорились со Скуратенко, и сначала полковник ввел в заблуждение своими восторгами и призывами, а потом имитировали собственную гибель, прострелив и изрубив лодку. Сами же раздобыли другую, что сделать совсем нетрудно — бесхозных дюралек на берегу возле поселка десятка четыре, и пошли вверх по реке. Благо Стас лично вручил полковнику крупномасштабную карту с отмеченными кержацкими поселениями. За прошедших полмесяца они могли преспокойно подняться до Сухого Залома с раскопками, в том числе и на Зажирной Прорве, где была литейка староверов, а потом уже с добычей уйти через горы в другую область. Галицын не зря получил полковника и наградное оружие, провернуть подобную операцию для него не так и сложно.
Пора бы уже спросить с Бурнашева, гарантировавшего порядочность своего протеже…
В этом месте Рассохин отмел свои подозрения, вспомнив о копиях документов, спрятанных в тайник, устроенный в лодке: Галицын бы ни за что не оставил драгоценные и компрометирующие его бумаги. Все-таки их с мотористом кто-то или взял в плен, или пустил на дно…
— У Скуратенко было оружие? — спросил он участкового.
Тот писал протокол осмотра и намек уловил сразу.
— Симоновский карабин у него… Я тоже подумал: может, они представление устроили? Полкан этот ваш борзой, Скуратенко тоже, на ходу подметки режет… Слышал, в таких кладах и золото есть. Украшения всякие фамильные, царские десятки… Староверы-то по Карагачу именитые были, богатые. Говорят, тайными тропами гнали пушнину московским купцам, которые их веры. Во была теневая экономика! Только одного не могу понять: как ваш полковник так сразу точно эти клады нашел? И на такой глубине? Места знал?
Кажется, и Гохман подхватил заразную бациллу.
— С помощью специального прибора, — уклончиво объяснил Рассохин.
— Миноискателя? Да ладно тебе, он на два вершка всего и берет! И то железяку с кулак. Знаю я…
— Сейчас есть такие аппараты, берут и глубже…
— Вот бы раздобыть! — мечтательно проговорил Гохман. — Я тоже одно место знаю, кержаки жили…
Стас не стал посвящать его в тонкости поискового дела и объяснять, что клады могут быть только в тех скитах, монастырях и становищах, откуда в тридцатых проводили насильственное сселение старообрядцев. В иных случаях они бросали все наживное — скот, пчел, зверовые ловушки, домашнюю утварь, дома и уходили на новые места, унося с собой святой источник, откуда черпали вдохновение и истинность своей веры — не правленые «проклятыми антихристовыми» никонианами книги, называемые в среде советских археографов крестьянскими библиотеками. А полный «круг чтения» у этих страстных книгочеев насчитывал до сорока томов…
Незаметно для глаза вода в Карагаче спадала, нос приткнутой к берегу лодки за ночь оказался на суше, и следовало спешить, хотя оставалась надежда, что заломы еще стоят на подпоре и держат достаточно высокий уровень. Пробиться сквозь Коренную Сору оказалось еще труднее: до чистой воды шли в основном на шестах и веслах, только изредка включая мотор. Пока толкались через джунгли, солнце поднялось в зенит, а до Красной Прорвы было часа три хода — это если срезать крупные меандры. Гохман мотор жалел, шел на средних оборотах по основному руслу, но уже на редане. Река лишь дважды подходила к материковым берегам с высокими песчаными ярами, и оба раза участковый медленно проезжал вдоль круч, как вдоль контрольно-следовой полосы, чтобы посмотреть свежие следы причаливания. Но похоже, Галицын слишком спешил, чтобы распивать чаи под кронами боровых сосен.
Возвышающийся берег урочища Красная Прорва можно было увидеть только с большой воды, и добираться до него следовало через залитую болотистую пойму цепочкой мелких озер, соединенных замысловатыми протоками. Полковник должен был найти среди разливов вытекающий из ближнего озера исток, поставить возле него приметную вешку, чтоб потом отыскать ее в межень и подниматься дальше. Вешку Рассохини не обнаружил, зато в глаза бросились свежие порубы ивняка, нависшего над истоком. Скуратенко очень хорошо знал Карагач, ибо отыскать в однообразном прибрежном кустарнике узкий проход мог человек, не раз тут бывавший. Гохман осторожно въехал в исток и прибавил оборотов: затопленные берега проток и ленточных озер оказались густо заросшим высоким болотным кедром и пихтачом, в узких местах кроны которого смыкались, образуя сумрачные гроты. Кержаки умели выбирать потаенные места для своих поселений и скрытные подходы к ним, вот только не учли аэроплан…
Участковый еще издалека точно определил место, где причаливалась лодка Скуратенко, и подогнал свою туда же.
— Прибыли, — устало заключил он и зачем-то перетянул на грудь всю дорогу болтавшийся за спиной автомат. — Пойдем хоть ноги разомнем.
На Красной Прорве было когда-то монастырское поселение, то есть сюда уходили доживать свои годы престарелые старообрядцы, принимая на себя нечто вроде схимы. При них обычно жили один-два молодых, но с каким-нибудь физическим изъяном кержака, не нашедших себе пары или не могущих жениться, которые выполняли всю тяжелую работу. По архивным данным штаб-ротмистра Сорокина, найденным в Омске, здесь постоянно проживало до трех десятков мужчин и женщин преклонного возраста, это не считая тех, кто приходил сюда на лечение: многие старики и старухи вполне успешно занимались врачеванием. Рассохин читал в деле записку томского благочинного, который жаловался, что староверы из некоего монастыря на Красной Прорве распускают слухи о чудесном излечении всех, кто к ним приходит, и сей ересью смущают православное население, вводят в заблуждение и наносят вред церкви. А сами, де-мол, обезумели, прячась по лесам, творят непотребную бесовщину, якобы изгоняя из хворых нечистую силу, и подлежат строгому наказанию.
Вероятно, жандармы впервые слышали об этом монастыре, поэтому долго вели розыск, где находится Красная Прорва, и когда отыскали, то под видом болящего, но с реальной язвой желудка, послали своего филера. Тот вернулся через полгода совершенно здоровым и отписался, что кержаки и в самом деле пользуют страждущих какими-то своим снадобьями, но при этом вынуждают жить по их уставу: спать всего три часа на голых досках или еще хуже — подстелив осоку под голое тело, а все остальное время трудиться — так они называли молитвы, ловить рыбу, ухаживать за пчелами или работать на огороде. Что касается бесовства и ложного чудотворства, то их проявления имеются: например, филер сам видел в монастыре мирскую восьмилетнюю девочку, которую привели откуда-то с Оби. В паровой молотилке ей оторвало четыре пальца на левой руке, и вот теперь их отращивают: каждый день руку, слой за слоем, намазывают сначала кедровой живицей, потом какой-то особой глиной, замешанной на крови животных, пока искалеченная кисть не превратится в колотушку, Девочка по многу часов стоит перед деревом и крестится этой рукой, читая шепотком молитвы, коим научили ее кержачки, а на утро глину размачивают, снимают, и все повторяется, если охотники подстрелили птицу и есть свежая кровь. И пальчики отрастают — из культи вышло по две фаланги каждого. Это как раз и есть явная бесовщина, поскольку от одних лишь живицы и глины с кровью ничто отрасти не может. А убогий кержак, живущий при монастыре, хвастал, что старцы и старицы способны отрастить любую часть тела, и случалось, даже усопших воскрешали, когда была на то Господня воля…
По сведениям того же филера, на Красной Прорве стояло два келейных общежития — мужское и женское, странноприимная изба, молельный дом, трапезная и две бани на озерах — для монахов и мирских отдельно. По всей видимости, все постройки были сожжены карателями, но за прошедшие годы пожарище затянуло мхом, а кедровки засеяли поляну семейками прогонистых, более похожих на кусты, молодых кедров. Реликтовый бор, который так и не достали лесорубы, обрамлял мыс и склоны высокого увала полосой в полтора километра. За ним начиналось верховое болото с угнетенной сосной, а затем чистое, ленточное, с многочисленными озерами, скрытыми под плавучими берегами, вспухшими, незамерзающими торфяниками — преграда, которую не преодолеть ни летом, ни зимой. Рассохин бывал здесь дважды еще в семидесятых и каждый раз испытывал чувство, что попал на необитаемый остров, где время и пространство становятся понятиями относительными и абстрактными.
Сейчас же, едва поднявшись на увал, он сразу ощутил их полную, осязаемую реальность: на краю монастырского поселения был стационарный стан — со столом и лавками, с тентом из армированной пленки, с двумя подопрелыми квадратами подстилки под палатки, а вся поляна оказалась перекопанной длинными траншейными рассечками и отдельными ямами. Причем давно, скорее, прошлым летом…
И кто это сделал, догадаться было нетрудно: здесь, как и на Коренной Соре, стоял аншлаг «ООО Кедры Рода».
Но глаз выхватил зрелище, заставившее оцепенеть самого выдержанного и хладнокровного — на толстой, в три обхвата сосне возле кострища был распят человек! И надо было вглядеться, дабы понять, что это всего лишь чучело, имитация распятия: камуфляжная куртка Галицына, пятнистые брюки, резиновые сапоги и даже утепленная красная бейсболка — все было приколочено к дереву гвоздями.
Участковый однако же поглядел на это невозмутимо, присел на корточки возле свежего кострища и снял милицейскую фуражку. По остаткам волос на его арийском черепе сбегал пот.
И только тогда Рассохин оторвал взгляд, потряс головой и увидел среди черного угля и золы останки обгоревшего и успевшего поржаветь металлодетектора.
В это время где-то в глубине бора послышался треск и приглушенный звериный рев.
Весь остаток ночи Стас греб вниз по течению, хотя тяжелый неповоротливый «Прогресс» плохо повиновался веслам и почти не прибавлял скорости хода. Уже на заре Рассохин увидел наконец надстройку драги, буксир, палатки и вертолет «Ми-8», стоящий поодаль на площадке вскрытого участка. Показалось, на стане приискателей нет ни души, но едва он причалил к берегу, как из кустов появился автоматчик в гражданском: должно быть, на прииске уже выставили охрану или это был телохранитель начальства.
— Я геолог Рассохин, — не дожидаясь вопросов, сказал Стас. — Играй тревогу, у нас человека похитили.
Автоматчик не внял.
— Выходи из лодки, — приказал негромко. — Оружие есть?
— Да пошел ты!.. — внезапно для себя заорал Рассохин. — Оглох, что ли?! Говорю, человека похитили! Где Гузь?
Охранник слегка оторопел, но автомата не убрал. Стас выскочил на берег и направился к палаткам, но страж перекрыл дорогу.
— Стой! Куда?
— Мне нужен начальник партии Гузь! — рявкнул Рассохин. — Где? Или начальник прииска!
— Там руководство! — громким шепотом проговорил охранник. — Не кричи, разбудишь…
— Слушай ты, хрен с горы! Поднимай свое руководство! Погорельцы человека похитили, женщину! Нужен вертолет!
Стражник наконец-то справился с замешательством, опять наставил автомат.
— Быстро отсюда! Бегом! Запретная зона! Посторонним вход воспрещен!
— Я тебе сейчас покажу посторонним! — Рассохин пошел в атаку, но в это время на палубе буксира возник Гузь.
— Рассоха? Ты что там орешь?
— Женю погорельцы увезли! — Он побежал к буксиру. — Надо поднимать вертолет!
— Какого Женю?..
— Женю Семенову, практикантку! Пока я тут шлиховал!..
— Тихо, не кричи! — Гузь сбежал по трапу на берег. — Кто? Куда увезли?
— Кержаки, погорельцы! Двое, пришли на обласах…
— Да перестань, что несешь? Какие погорельцы?..
— Те самые, что похитили Притворову на Сухозаломском!
Гусь наконец-то услышал его.
— Ты видел? Сам видел?
— Как увозили — не видел. Я здесь с лотком торчал!
— Ну, тихо, тихо. — Начальник партии был с похмелья и соображал плохо. — Дай подумать… С чего ты решил, что погорельцы?
— А кто?! Следы нашел, в броднях. Гнался до залома. Пока по берегу искал, у «Вихря» провода выдернули, шланг… Они недалеко, надо поднять вертолет! Лес голый, не скроются.
С буксира на шум прибежал Чурило в майке, тоже полез с бестолковыми расспросами, но в это время из палатки вышел седовласый, знакомый по газетам секретарь обкома.
— Ты кто? — спросил он Стаса.
— Рассохин, геолог.
— Когда похитили? — Он был краток — видимо, не спал и все слышал. — Сколько времени прошло?
— Часов десять назад. Но на заломе появились в половине первого ночи!
— Почему сразу не сообщил?
— Думал, сам догоню. По горячим следам.
Секретарь глянул на часы.
— Где пилоты? — спросил. — Будите, пусть поднимают машину.
И сразу все забегали. Секретарь застегнул рубашку, заправил в брюки.
— Что же ты, Рассохин, геолог, проворонил женщину?
Гусь глянул на него умоляюще, но выдавать его Стас и не собирался — не до того было.
— Отлучился на четыре часа, по делам, — буркнул он.
— Опять погорельцы… А знаешь, почему они женщин воруют?
Рассохин тогда ничего еще не знал о карательной экспедиции против кержаков Карагача, всякая информация была строго засекречена, поэтому сказал, что знал:
— Толк у них такой…
— Не толк, а наша бестолковщина! — сердито проговорил секретарь. — Послали дуболомов с пулеметом!.. Ладно, давай ищи женщину! Может, и повезет.
— Разрешите и мне? — гоготнул Гусь. — Я как начальник партии отвечаю…
— Начальник партии здесь я! — прорычал секретарь. — И я за все отвечаю!.. А с тобой, гусь ты лапчатый, еще разберусь. Пусть он летит, — ткнул перстом указующим в Рассохина. — У него хоть воля в глазах. А ты иди похмелись…
Пожалуй, с этого момента Стас начал различать партийных руководителей по образу мышления и манере поведения. Этот секретарь потом оказался в ЦК, стал сподвижником Горбачева, но когда тот развалил СССР, ушел в оппозицию и скоро был забыт, как все и мыслящие, угодившие в аппарат по переработке сознания.
Он бежал к вертолету вместе с экипажем и охранником-автоматчиком, который уже глядел как лучший и старый друг. Пока разогревали двигатели, Рассохин со штурманом «проползли» по карте, и когда взлетели, взяли курс на залом. Солнце встало, и в его косых лучах вода сделалась багровой; утренний туман, курящийся из логов, создавал впечатление таежного пожара. Над заломом вертолет заложил круг; залитая пойма и смешанный лес просматривались хорошо: в разливах брели по воде лоси с голенастыми молодыми телятами, через залом, как по мосту, прыгали зайцы, летали вспугнутые с тока глухари. Окажись в поле зрения человек, да еще с грузом, не заметить было бы невозможно. Потом машина пошла над рекой, обрамленной темно-зеленым, стоящим по высоким террасам хвойником, непроглядным, как густая краска: войди под кроны, втащи облас, и тебя уже не сыскать…
После пятого залома речка сузилась, превратилась в ручей, и пилоты, развернув вертолет, пошли назад. Они набирали высоту, чтобы охватить глазом больше пространства, а у Стаса падали надежды: вдоль золотоносного притока Карагача было полное безлюдье. Лишь однажды на зимнике, по которому вывозили лес с месторождения, что-то мелькнуло, и это заметили сразу все, но оказалось, медведица с двумя малышами скачками уходила от воющей над головой машины. Когда вернулись к залому, Рассохин показал знаком разворот, ткнул в карту, мол, давай над хвойным массивом — вдруг да где-нибудь в прогале, случайно, наудачу увидим, но пилот указал на прибор — топливо…
Обратным курсом они шли напрямую, пересекая кедровники, но Стас все еще не мог оторваться от иллюминатора — даже когда внизу замелькали пни свежего лесоповала. Было полное ощущение нереальности происходящего: ведь он почти соприкоснулся с погорельцами, находился от них в двухстах метрах, когда те курочили мотор! И вдруг исчезли, не оставив ни следа, ни какой-нибудь косвенной приметы, указывающей, где искать.
Из вертолета Рассохин вылез оглушенный: ему что-то говорили, о чем-то спрашивали, но он видел лишь шевеление губ и ничего не понимал. Ушел на берег, сел в свою лодку и только сейчас вспомнил, что мотор испорчен, и какое-то время сидел ссутулившись и ничего, кроме звона в ушах, не слышал, не хотел слышать.
Гузь, крадучись и таясь от начальства, принес ему бутылку водки и жареную нельму с барского стола, кажется, уговаривал выпить и закусить, причем заботливо, как тяжелобольного, однако Стас лишь мотал головой. И еще откуда-то издалека все время доносился стонущий женский голос:
— Ой-ей-ей. Место-то какое страшное…
Потом приискатели сами, по доброй воле, подтянули корму к берегу и за пять минут починили «Вихрь».
— Заводи! — крикнул кто-то, и это было первое слово, на которое он среагировал.
Запустил мотор и, даже не взглянув на берег — ему махали и кричали что-то, — унесся вверх по притоку. И встречный ветер слегка остудил голову, привел в чувство. Заехав на стан, он взял два запасных бака с бензином и снова погнал лодку к залому. Быть такого не могло, чтобы люди ходили, не оставляя следов, или делались вовсе невидимыми! Просто он впопыхах, да еще ночью, при фонарике, не заметил, сосредоточился на другой задаче — устроить засаду, и что-то упустил, недосмотрел. Да и Женя — не кукла, не покорная безропотная отроковица, которую ведут в плен; даже если ее связали, заткнули рот, посадили в мешок, все равно должна дать какой-нибудь знак, мету оставить, зная, что он будет искать. Пусть даже вначале испугается, потеряет самообладание, но обязательно придет в себя, и очень скоро. Первый разряд по пулевой стрельбе не получить, не имея упорства, хладнокровия и выдержки. Даже если у тебя муж — мастер спорта международного класса…
Хотя бы веточку заломила, отпечаток сапога оставила!
Он причалил не к берегу, а к залому, привязал лодку и поднялся наверх. Он не считал себя особо одаренным следопытом, но с детства занимался охотой, на пару со своим одноклассником, который потом закончил институт и стал охотоведом района. И уже работая геологом, занятия этого не оставил, зимой с бригадой бегал за сохатыми по старым вырубам вокруг Гнилой Прорвы, весной ходил на глухариные тока, а летом, в маршрутах, добыл двух медведей с лабазов, устроенных в прибрежных черемушниках, куда зверь выходил на кормежку. Распутывать следы было, в общем-то, привычным делом.
Погорельцы могли на обратном пути тащить обласа не берегом, а прямо через эту плотину. Хоть и опаснее, второпях можно и ноги переломать — лесины весной осклизлые, неустойчивые, наступишь — качаются, и сухого ельника, похожего на колючую проволоку, обломанные сучья торчат как гвозди… но зато втрое короче, чем проламываться по кустарникам, заваленным сорой. А кержаки спешили оторваться подальше, пока он вместо драги моет золото на участке.
И что если мотор сломали не похитители — их сообщник, третий, поджидавший на заломе, дабы прикрыть отход, отвлечь на себя внимание, увести по ложному следу? Помог перетащиться через преграду, сам потом засел на берегу, скараулил, когда примчится Рассохин, вырвал провода из катушек, шланг, стартер отрезал и ушел другим путем — сушей, еловой гривой, которая подходит почти к самому залому…
Стас пролез через весь залом от берега до берега, затем вернулся назад, спустился к нижнему бьефу и на обратном пути нашел доказательство! Два обласа погорельцев причаливали к сухой сосне, лежащей поперек русла и одним концом замытой в берег: на ее поверхности, отбеленной до стерильной чистоты, были свежие следы грязи, явно оставленные броднями кержаков. А чуть выше, на пихтовой лесине, мазок черной смолы! Перед весной кержаки обласа отсмолили, приготовились к сезону, и днища их не успели отшоркаться на перетасках. Перевалив через залом, он нашел еще четыре таких же мазка и место, где погорельцы спустили долбленки на воду, сели и ушли вверх по течению, увозя с собой драгоценный груз.
Третий мог прийти по суше и уйти назад. Значит, не так далеко должно быть его логово! Рассохин достал лист карты с этим участком реки, нашел еловую гриву, отбитую горизонталью, и прикинул маршрут его движения. Пособник мог прийти с верховых, ленточных болот, которые тянутся от Красной Прорвы, и откуда вытекает исток золотоносной речки. Место для тайного, скрытного жилья подходящее: лесорубам там делать нечего, сосняк на торфяниках чахлый, угнетенный, геологам и вовсе, — весь этот район относился к территории древней пустыни. Судя по опорной скважине, заболоченная, сырая, едва проходимая эта земля лишь сверху перекрыта водоупорными глинистыми отложениями, а ниже, на сто пятьдесят метров, сухой пылеватый песок, возможно, еще храпящий жар древнего солнца.
Оставив лодку у залома, Стас ступил на низкий полузатопленный берег и еще раз прошел по волоку: все точно, погорельцы спустились сверху, обтащились и отправились к прииску. Второй раз своим следом не пошли, чтобы сбить с толку преследователей, так что надо искать сейчас не похитителей, ибо их след оборвался, а их сухопутного помощника. А он существовал, так как выведя из строя мотор, не мог уйти речкой на обласе!
Волок был замусорен лесом, и эта небольшая сора была продолжением залома, поэтому Рассохин сначала тщательно обследовал кустарники, густо сплетенные над сырым скользким суглинком — тоже контрольно-следовая полоса, и только потом добрался до полузамытых, вросших в землю стволов деревьев. И тут нашел бесформенные пятна оставленные запачканными на волоке броднями. Верхняя часть колодины отбелилась растаявшим снегом, а по ней, как по чистому вымытому полу, протопали в грязной обуви. Случись небольшой дождь, и все бы смыло!
Стас пошел по следу пособника, а тот перескочил на другую лесину и таким образом удалился от волока на полсотни метров, ни разу не ступив на землю, миновал сору и оказался на еловой гриве. Вывод был верный: третий участник похищения существовал и пришел на реку сухим путем!
И тут у Рассохина шевельнулась и чуть ожила надежда, приземленная вместе с вертолетом: что если у погорельцев, как на Кавказе, как в кино, — похитителей невест нанимают, которые потом и передают ее жениху? Эти двое захватили Женю, попутно клад, ушли до залома и здесь вручили отроковицу заказчику, а сами с книгами погребли вверх, в свое логово? Прорываться по речке с женщиной, тем более зная, что на прииске много народу и вертолет, — все это для незримых кержаков весьма рискованно и опасно. Здесь же почти молниеносно провернули дело — захватили добычу, через два часа передали и скрылись…
Не вписывалась лишь одна деталь: этот третий, получив добычу, не стал бы поджидать Рассохина и портить мотор.
А если был четвертый? Следов на деревинах много, и не понять, ходили несколько человек или один бродил туда-сюда. Третий убежал с невестой, а дружок его прикрывал! Говорят же, кержаки поодиночке не ходят, тем паче погорельцы…
Эх, если бы сразу до этого додуматься! Когда обнаружил испорченный «Вихрь»! Догнал бы на одном дыхании — грива узкая, слева и справа кочкастые мокрые соры, и тянется около трех километров, прежде чем соединится с высокой террасой. Своими ногами Женя не пойдет, значит, ее несут, но даже если меняются, все равно выдохнутся… Впрочем, погорельцев никто никогда не видел, может, они мужики могучие, тренированные суровой таежной жизнью. И вес под семьдесят кило для них привычный, к тому же своя ноша не тянет…
Вдохновленный, Рассохин впервые за день выкурил трубку и пошел гривой, на ходу высматривая следы. На лесном грунте с тонким хвойным подстилом, недавно вытаявшим из-под снега, подошвы бродней не отпечатывались, но если приглядеться, то все равно видно, где наступали — чуть разрушена целостность подсохшей корочки мелкого мусора, кое-где с валежин сдернут мох. Все совпадает, кержаки ушли гривой в материк, так что выходные следы нужно искать уже на террасе, к тому же чем дальше от речки, тем они будут менее осторожны, не исключено, где-то есть тропа, набитая за многие годы — не первый же раз погорельцы ходили к залому. Это их путь на Карагач! Говорят же, что они добывают пушнину и каким-то образом переправляют ее кержакам других толков, взамен получая боеприпасы, соль и муку.
Грива подходила к увалу почти вплотную, однако была разделена сырой болотиной, так называемым тыловым швом, через который навели явно рукотворный мост, хотя на вид — два ветровальных дерева с выворотнями, но упали навстречу друг к другу, соединясь вершинами, а так не бывает. Ель на болотистой почве глубоко не укореняется. Чтобы не махать топором и не свариться с лесниками, на Гнилой Прорве местные мужики сразу за огородами так дрова готовили: подрубали корни и ждали, когда дунет хороший ветерок. Если же только с одной стороны подрубить, то и упадет в нужную сторону. А что упало, то пропало…
Обе сваленные таким образом ели зависли на сучьях, стволы не касались воды, но по «мосту» кто-то недавно проходил, хотя следов нет, бродни отчистились за три километра пути по сухой гриве. Но тонкие вершинки, которые, если наступить, чуть погружались в болотину, и сейчас были еще мокрыми, не успели просохнуть, солнце не доставало. Рассохин перебрался к подножию невысокого мшистого увала и сразу же засек направление, по которому ушли погорельцы: не тропа еще, но натоптано изрядно и уже нынешней весной. И в одном направлении — наискось по склону, сокращали расстояние, тянули прямицу, а по ней и найти легче логово! Стас взял азимут по компасу и только поднялся на увал, как услышал в небе гул: кажется, начались поиски, над тайгой летал «Ан-2», вероятно, челночил вкрест течению речки. Вот что значит присутствие высокого начальства, иначе бы дня два канителились, прежде чем пригнали авиатехнику. Сейчас самолет был кстати — барражируя над районом, он отвлекал внимание кержаков, заставлял сидеть по своим норам, и Стас может к ним, как к глухарям на току, подобраться незаметно и неслышно.
На гребне увала следы пропадали, мох был короткий, щеточкой, и быстро распрямлялся. Между тем солнце давно перевалило зенит, и следовало спешить, чтобы до темноты выйти к краю верховых болот — по карте это километров восемнадцать. Где-то там, в недоступных гривах[29] и урманах[30] — лежбище погорельцев! В местах, до которых больше никому дела нет.
Часа два Рассохин шел по азимуту материковым, но со следами угнетения, бором с частыми и чистыми буграми вспученных торфяников, на которых густо кровянела прошлогодняя клюква. Шел, хватал ее на ходу, озирался по сторонам, а самолет уже летал рядом, почти над головой: возможно, на борту были люди сообразительные, искали не только вдоль реки — норовили высмотреть логово или перехватить похитителей на подходах к нему.
Рассохин прошел больше половины, когда самолет прошел на малой высоте и чуть в стороне и сразу же потянул вверх. Сосняк становился все реже и ниже, с метелками утлых неразвитых крон, и с воздуха хорошо просматривался. Ему показалось, пилоты что-то высмотрели, ибо «Ан-2» сделал разворот и опять потянул к ленточным болотам.
— Верной дорогой идете, товарищи! — негромко вдохновил их Стас и помахал рукой, указывая направление. — Туда! Туда!
Было неясно, заметили его сигналы или нет, но самолет в самом деле ушел в сторону болот с набором высоты и там, невидимый, пошел на круг. Под ногами все чаще попадались мокрые торфяники, поля густого багульника, уже пахнущего до головокружения, мох становился глубже и кое-где уже чавкал под сапогами. Впереди показалась первая песчаная грива, отмеченная на карте, — по сути, гребень древнего бархана, — поросшая узким прямоствольным бором. Место для схорона погорельцев вполне подходящее, и можно уже сегодня, пока не село солнце, пробежать ее и подсечь следы. Хотя бы косвенные: порубки деревьев, затеей, старые пни — топят же они дровами свои берлоги! Между тем самолет словно умышленно отвлекал на себя кержацкие взоры, кружась над лесом где-то за гривой. Рассохин воспользовался этим, скорым шагом одолел последние полкилометра и поднялся на вершину невысокого, но сухого бархана. И всего-то метров двенадцать в ширину, а как на другой планете: брусничник цветет, белые пятна ягельника и ощущение надежности…
Он пересек гриву и в это время увидел, как за хвостом «Ан-2» потянулись три предмета, напоминающие сосиски. Они разделились, и над каждым возник сначала куполок стабилизации, затем несколько секунд спустя с ясно слышимыми хлопками раскрылись парашюты.
Пилоты нашли логово и выбросили десант! Как раз рядом со следующей боровой гривой!
Рассохин слетел с бархана и помчался скачками. Он потерял парашютистов из вида, но точно заметил место, куда они должны были приземлиться — за гриву, а это с километр по болотистому сырому сосняку. Если сейчас десант прихватит погорельцев, отступать они будут назад, то есть на Стаса, поскольку впереди залитое верховое болото. И тут их можно встретить!
Лес уже был обводнен так, что из-под сапог летели брызги. Один Стас все-таки проколол, когда ползал по залому или перебирался по «мосту», внутри хлюпало и сбилась мокрая портянка, но переобуваться некогда. Самолет тем временем заламывал вираж над гривой, которую только что оставил Рассохин: вероятно, пилоты были на радиосвязи с десантом и теперь готовились навести его на тайный схорон или же на кержаков, если станут удирать. Наверняка это были военные, действовали очень слаженно, отработанно, как на загонной охоте. Стас не добежал до гривы метров двести, когда увидел широкий прогал в сосняке, причем в обе стороны от него — здесь можно и перехватить отступающих погорельцев! Он заскочил на торфяную пучину, чтобы видеть дальше, вынул револьвер, вытолкнул стреляные гильзы и зарядил полный барабан. С момента прыжка десанта прошло минут пятнадцать, давно уже должны приземлиться и стронуть кержаков с логова — они, поди, тоже наблюдали и парашютистов заметили. Интересно, Женю они понесут или поведут за собой? А может, бросят, чтоб спастись самим?
Только бы оставили в живых! Ведь эти же звери утопили Раю Березовскую…
Прошло еще семь минут, прежде чем Рассохин услышал осторожное бульканье воды под броднями — погорельцы отступали и двигались, как лоси, выслушивая пространство. «Ан-2» снизился еще и прошел почти на бреющем, верно, звуком мотора пытался оглушить похитителей. Стас отвлекся на самолет лишь на секунду и вдруг увидел перед собой двоих в камуфляжных комбинезонах и с автоматами — неужели погорельцы успели перескочить прогал?!
— Не двигаться! Оружие на землю! — Десантник рубанул очередью над самой головой.
— Вы что, охренели?! — заорал Рассохин и присел. — Мать вашу!
В критических ситуациях иных слов у него не находилось, а эти сыпались сами собой.
Третий десантник оказался сзади — обошел когда-то, стервец, и теперь крался в пяти метрах от Стаса.
— Да я свой! — крикнул он. — Геолог Рассохин! Меня обложили, идиоты, а погорельцев проворонили!
Должно быть, речь его этих камуфляжных убедила, возможно, знали, что где-то в одиночку исчезнувшую практикантку ищет геолог, но один все равно спросил:
— Документы есть?
— Ну дураки! — возмущенно сказал Стас. — Вы же все испортили! Где-то здесь близко кержацкое логово! От залома по следу шел!
Десантник все равно не поверил, достал радиостанцию «Комарик» — ту самую, с которой Гагарин в космос летал, всегдашнюю мечту геологов, и, связавшись с бортом самолета, спросил, кто такой Рассохин. Ему ответили, и тоже, видимо, с помощью понятных выражений, после чего вояки опустили автоматы.
— А мы тебя выпасли, — промолвил потом он разочарованно. — Смотрим, борода, вроде похож…
Стас сел на торфяник, сразу же промочил брюки, но вставать не хотелось.
Парашютистами оказались вовсе не военные, а те же милиционеры, специально обученные ловить беглых заключенных. Посовещавшись, они пошли снимать купола, зависшие на мелком сосняке за гривой. А Рассохин, уже привыкший извлекать надежду из всего — может быть, обманчивую, призрачную, вдруг подумал, что сегодняшнее представление с десантированием и захватом может завтра сослужить службу: погорельцы, что сидели сейчас в своих норах, успокоятся и через сутки-двое вылезут на свет божий. Поэтому надо убраться отсюда поскорее и увести с собой десантуру. Однако эти здоровые парни пешком идти отказались, а достали топорики и принялись расширять прогал на болотине, готовить площадку для приема вертолета.
— Тебе не кажется, — вдруг сказал один, — что студентка сама сбежала? Говорят, вы какой-то клад нашли… Она же с кладом этим пропала?
Рассохин даже объяснять ничего не захотел, молча встал и пошел обратным маршрутом к залому. Но по дороге эти его слова, как искры, подпалили сомнения, когда он вспомнил детали их последнего с Женей разговора, вызвавшего смятение чувств. Сейчас, словно протрезвев, он неожиданно осознал, что она играла с ним, вернее, пытала, бросая то в огонь, то в воду, и это доставляло ей удовольствие. Она умышленно рассказала ему о своем бывшем муже, и с такими подробностями их отношений, что он вскипел от злости и ревности. И тогда отроковица как-то незаметно погасила пламя, призналась, что ненавидит всю свою прошлую жизнь, свой Питер, с которым связано все самое мерзкое и подлое, от погоды до проспектов, на которых нет деревьев, травы, цветов, поэтому люди насыщаются энергией камня, асфальта и металла. Ее муж был человеком известным, мастером спорта по пулевой стрельбе международного класса, много ездил по миру, привозил медали, призы, но никогда не брал ее с собой, хотя возможностей было предостаточно. Причина однажды раскрылась: у него была любовница, врач команды, которая родила ему сына. То есть он одновременно жил в двух семьях, и это продолжалось еще несколько лет даже после того, когда Женя узнала правду. Муж и в самом деле любил ее, несколько раз уходил к сопернице, возвращался, пока ей это не надоело. Женя работала фотографом на «Ленфильме», мечтала сниматься в кино, однако режиссеры видели в ней только женщину и предлагали войти в актерский мир «на спине».
И вот однажды она ощутила отвратительность, неприемлемость этой циничной, с извечным поиском сладострастия жизни и решила круто все изменить.
Она ушла со студии и поступила в Горный институт, и теперь осталось лишь защитить диплом, чтобы потом взять дочку и навсегда покинуть презренный город на гиблых болотах.
Еще призналась, что всю жизнь ждет своего единственного мужчину, ищет его и сюда, на Карагач, попросилась сама, потому что название понравилось, уловила в нем некую мистику, предопределенность и подумала — суженый здесь и она непременно узнает, как только он возникнет перед ее взором.
И только ворохнулась надежда, что сейчас отроковица скажет — мол, вот и нашла, этот мой мужчина — ты, но Женя принялась описывать своего будущего избранника, и Стас понял, что никак под это описание не подходит, хотя бы по возрасту…
А потом так же внезапно поманила тайным местечком, куда уйдут вдвоем, где поставят палатку, и — наперекор судьбе. И в этот миг более всего походила на богиню Афродиту…
Могла же она, увидев погорельца, некого таежного молодца, возникшего перед взором, узнать в нем суженого? И сбежать с ним добровольно… Эта дикая, невероятная версия встала в воображении Рассохина как залом, собирающий весь мусор, снесенный с берегов половодьем.
Уже поздним вечером, когда Стас вернулся на речку, он увидел костер на противоположном яру и еще одну лодку.
— Рассоха, давай сюда! — крикнул ему Репнин. — Где тебя ночами носит?
Они сидели вдвоем с Гузем и пили водку, нарушая сухой закон, объявлявшийся с началом полевого сезона. Наверное, обмывали передачу первого участка месторождения прииску…
— Ну и что? — выжидательно спросил начальник партии, наливая ему в кружку.
Мета, поставленная отроковицей под глаз Репы, стала желто-зеленой.
Стас не хотел ничего обсуждать, тем более делиться своими предположениями. Молча выпил водку, снял сапог и вылил воду.
— Что решил-то? — поторопил Гузь.
— Буду искать…
Они переглянулись с Репой, и тот пожал плечами.
— Извини, но мне придется забрать у тебя моторку.
— Забирай…
— Не дури, Рассоха, — попытался урезонить его Гусь. — За поиски взялись профессионалы, эмвэдэ и кагэбэ. Своими методами… Накроют этих погорельцев… медным тазом. Нам приказано не отвлекаться.
Рассохин сел к костру, от мокрой одежды повалил пар.
— Не отвлекайтесь. А я буду искать.
Репа готов был выдать речь, скорее всего нравоучительную, однако глянул на него и промолчал.
— Револьвер сдай, — жестко заявил начальник партии. — И секретные документы. Ты уволен, а уволенному не положено.
Секретными документами были карты-двухверстки с артиллерийской сеткой. Стас выдернул из полевой сумки наган, два листа карт и кинул все под ноги Гусю.
Потом отправил туда же и бесполезную теперь сумку.
Распятый камуфляж Галицына был неким символическим, угрожающим знаком всем, кто ступит на этот берег. Пока было чучело, но от него исходила чужая, зловещая воля и решимость.
Однако настоящее распятие они обнаружили спустя полчаса, когда звериный рев повторился, и как показалось, чуть ближе. Сын пленного фашиста передернул затвор автомата и крадучись двинулся на звук. Рассохин хоть и был безоружен, однако пошел следом: впереди стояла стена стволов могучих сосен, видимость полтора десятка шагов, не более, и зверь, если это был он, мог выскочить внезапно. Так они прошли метров двести, прежде чем вновь услышали хриплое, утробное ворчание и глухой стук, теперь несколько правее. Гохман в тот час изменил направление и сделал знак — осторожнее. Это мог быть медведь, кормящийся на муравьиных кучах, которые встречались здесь довольно часто, весенний бор был гулким, как храм, и усиливал все звуки.
Вдруг участковый вскинул автомат и стал выглядывать что-то из-за дерева. Замер на мгновение, расслабился и ругнулся.
— Ничего себе упаковали! Вот это уже чистый криминал…
Впереди между двух сосен на земле корчился человек: сквозь рукава его брезентовой куртки была пропущена березовая жердь метров шести длиной, растянутые кисти рук и локти прикручены веревкой, а на голове — брезентовый чехол от палатки, завязанный на шее.
Рассохин слышал о такой старинной казни по-таежному, но видеть подобного еще не приходилось…
Человек пытался встать, однако сил уже не хватало, жердь перетягивала и одним концом упиралась в сосну. Участковый ловко рассек веревки и вспорол рваные рукава энцифалитки, после чего сдернул прогрызенный напротив рта мешок и отпрянул.
— Мать твою!.. Мишка? Скуратенко?
Тот сел, как чурка. Затекшие, с посиневшими кистями руки не слушались, взгляд дикий, блуждающий. Глаза загноились, губы истрескались и кровоточили, на грязном заросшем лице какие-то белые разводы.
— Убью, сука! — прохрипел он. — Ментяра поганый…
— Мишка, ты что? — Участковый поставил его на ноги, прислонил к дереву. — Это же я, Федор Гохман!
— Зарежу паскуду…
— Тебя кто распял?
— У-у, падла! — заревел и одновременно заскулил моторист. — Он мне ответит! Кишки выпущу!
Гохман похлопал его по щекам.
— Ну все, все, ты спасен, будешь жить. Кому кишки собрался выпускать? Кто тебя так?
— Полкану этому долбаному! — осмысленно проговорил Скуратенко.
— Тебя что, этот полкан на жердь поставил?
— Не поставил, а подставил, падлюка. Сдал, сучий потрох!..
— Ладно, пошли на стан.
Участковый закинул одну безвольную руку себе на шею, Рассохин подхватил другую, но Скуратенко слабо воспротивился.
— А ты — кто?
От него несло, как от бомжа — мочой, немытым телом…
— Это свои, — успокоил Гохман. — Рассохин, ученый из Москвы.
— Какой Рассохин?
— Тот самый, геолог…
— Чуть коньки не отбросил, — расслабившись, пожаловался вдруг моторист. — Жрать дайте…
— Жрать на стане. Кто распял-то тебя, если не полкан?
— Полкана самого чуть… — Скуратенко выматерился. — Из-за него и меня приговорили.
— Кто? Погорельцы?
— Сорокинские, твари…
Вероятно, он только сейчас начал понимать, что спасен, и от этого стал обвисать, едва перебирая ногами, однако Гохман расслабиться ему не давал, допрашивал на ходу:
— Что, у Сорокина люди есть на Карагаче?
— Ты мент, а не знаешь! — возмутился моторист. — За что тебе только зарплату дают?!
— Ты короче, без комментариев!
— Четверо на «Прогрессе», баба с ними, молодая, красивая, зараза… — Скуратенко простуженно хрипел, скорее, страдал от высокого жара. — Вся в кожу одета, как змея, окороками виляет… Я бы их всех положил, да полкан стрелять не дал, гад. Увидел красивую бабу и раскис. Они меня на жердь, а его с собой увезли…
— Куда?
— Вверх пошли…
— Чем они тут занимаются? Копают клады?
— Хрен знает. Головы народу пудрят, проповеди читают… В общем, лечат.
— Как — лечат?
— Мозги лечат. Полкана воспитывать увезли. А я, видно, конченый для них… Но я не в претензии! Заявления писать не буду.
— Почему?
— Не хочу!
На стане Скуратенко положили на расстеленную палатку, и Гохман принялся его потчевать: сначала напоил яблочным соком, а потом разогрел тушенку и стал кормить бульоном, с ложечки, как ребенка. Тем временем Рассохин массировал его руки, онемевшие от веревок: правая уже чуть шевелилась, но левая, синюшная, висела плетью.
— Его надо в больницу, — сказал Стас. — У него явная пневмония, воспаление легких. Вон какие хрипы, и потный… На сырой земле лежал.
— Ты что, доктор? — между делом спросил Гохман.
— Это мы проходили…
— Не поеду, — захлебываясь от жадности, заявил моторист. — Пока их, сволочей, не грохну. А бабу эту, стерву, на кукан насажу!
— Они траншей нарыли?
— Ну да. И снова копать приехали, с лопатами. А тут мы…
— Говоришь, они только мозги лечат?
— Они не золото ищут — книги…
— Какие книги?
— С какими-то знаниями, древними. По медицине, что ли, я не понял. А полкан понял, сука…
— На Коренной Соре вы с полковником копали? — вдруг спросил Рассохин, чем вызвал недовольство.
— Мы, а что тебе-то? Ты вообще откуда взялся на Карагаче?
Участковый заткнул ему рот ложкой.
— С ученым повежливей надо, Миша…
— Носит вас! — с трудом проглотив бульон, сказал тот. — Полковники, ученые! И эти еще, лекаря, мать их… И все лечат!
Стас достал из рюкзака фляжку, налил глоток водки в стаканчик и поднес ко рту Скуратенко.
— Выпей, может, подобреешь…
Тот выпил и на самом деле слегка подобрел, даже пальцы левой руки зашевелились. Правой же попытался сам взять ложку. Рассохин не отступал.
— Клад с полковником поделили?
— Поделили, — не сразу признался моторист. — Он себе больше взял, волчара… Налей еще?
— Что хоть было? — Стас выпоил еще стаканчик.
— Книги кержацкие. Иконы медные, кресты…
— А золото?
— Не было там золота! Один крест только серебряный, килограмма на полтора. И еще корка от книги, тяжелая. Но полкан все себе взял!
— А тебе зачем книги и иконы? Ты что, верующий?
Скуратенко с двух глотков водки начал пьянеть и оживать:
— Да он сказал, продать можно, за большие деньги. А если за границу увезти, то вообще… Помочь обещал, падла…
— Здесь тоже хотели копать?
— Видал, сколь тут нарыто? Сорокинские, паскудники, успели…
— Они и клад у вас отняли?
— Полкан сдал! Указал, где нашли!.. Они говорят, Коренная Сора — наша земля. И все, что в ней находится… Все забрали — мотор, бензин, карабин… Всех замочу!
Рассохин налил ему еще глоток, Гохман дал закусить.
— Где у сорокипских людей база?
Моторист воспрял еще больше:
— Где-то в верхах… Или на Гнилой, или на Зажирной. Упоминали… Телефон этот… забрали, космический. Еще у полкана карту какую-то нашли. Баба обрадовалась… Она у них вроде начальника, всех лечит… Коза драная… Это она мне казнь придумала. Говорит, по старому сибирскому обычаю… Спасешься — значит, на то воля бога Кедра… Через две недели приедем, посмотрим…
— Какого бога? — запоздало переспросил Стас.
— Они же полудурки! За бога тайги дерево считают, кедру…
— Сектанты, что ли?
— Да чокнутые! И выходит, я спасся, а полкана эта баба к распятию приговорила. То есть оболочку его, будто… У человека несколько оболочек, как на капусте… Сегодня какое число?
— Вроде шестнадцатое…
— Завтра две недели будет, как распяли. Обещали приехать и снять, если выживу. Суки! Все равно выжил — траву ел, мох жевал… Приедут, а меня тут хрен!
И вдруг уснул, хватая воздух открытым ртом. Рассохин пощупал слабый пульс.
— Вези его в больницу пока светло, а то помрет. Я останусь здесь.
По космической связи он дозвонился до начальника поселкового отделения и дал трубку участковому. Тот объяснил ситуацию и, видимо, все-таки напугал свое руководство похищением полковника и бандой Сорокина, по крайней мере, обещали прислать машину на Карагач, забрать больного Скуратенко и дать оперуполномоченного с милиционером.
— Двоих не увезу! — закричал Гохман. — Со мной же еще Рассохин!
— Может, в областное УВД позвонить? — спросил Стас. — Здесь без ОМОНа не обойтись.
Тот замахал руками:
— Ты что? Меня с дерьмом съедят! Конечно, что мы с опером сделаем, если их целая банда? И еще вооруженные!.. Доложу начальнику, пусть сам…
На палатке, как на носилках, они спустили моториста к лодке и там уложили на пол, подогнув колени — от транца[31] до носовой банки во весь рост не входил. Гохман сел было за румпель, но призадумался.
— На Красной Прорве оставлять тебя опасно, — вдруг заявил он. — Могут сюда нагрянуть. Что у них на уме?
— Ничего, я спрячусь!
— Пожалуй, оставлю на другом острове. Там опасный прижим, его стороной объезжают. Искать не станут, и вся река как на ладони. Садись!
Рассохин погрузил свои вещи и забрался в лодку, встав на колени рядом со Скуратенко. Участковый выехал через озера и протоки на Карагач, а там повернул против течения. Через два поворота по правому берегу показалась новая сора, которой прежде здесь не было: большую часть залома вынесло в пойму и на прижиме усадило на береговой вал, а потом еще замыло песком. Получился деревянный остров, больше похожий на разрушенную крепость, которая прежде всего защищала от размыва пойменный берег — иначе бы река давно образовала в этом месте прорву.
Гохман причалил, опасно лавируя между коряг в бурной воде.
— Только сиди тихо, не высовывайся, — предупредил он. — И слушай. Загудит мотор — костер туши. Автомат оставить не могу. Очень хочется до пенсии доработать.
Оставил на берегу канистры с бензином, свой рюкзак, чтоб максимально облегчить и так легкую посудинку, подумал и выбросил на берег резиновую лодку в чехле.
— На всякий пожарный. Спустишься вниз, если что. А то скажут — оставил ученого в опасности, без плавсредства, как Робинзона…
— Мотора не жалей, гони, — посоветовал Рассохин.
— Завтра к обеду вернусь! Если ОМОН дадут, значит и вертолет будет!..
Дернул ручку стартера, ткнул передачу и, развернувшись на одном месте, умчался, едва касаясь воды, — солнце уже висело над горизонтом и садилось в тучу, что говорило о смене погоды.
Стас поднялся на этот ощетинившийся топляком, как противотанковыми ежами, островок, нашел ровную площадку и стал устраивать ночлег. Отсюда и в самом деле река просматривалась километра на полтора в обе стороны, а вдали, за пойменным хвойником на том берегу, виднелась стена подсвеченного заходящим солнцем реликтового бора Красной Прорвы. Вид был завораживающий и отчего-то пугающий, тревожный, к тому же весенняя река, разгоняясь на прямом отрезке, била в сору прямо под ноги, прижималась, вспучивалась и, закручиваясь в цепь глубоких воронок, нехотя поворачивала почти под прямым углом, образуя широкую заводь до середины реки. Взирая на все это, Рассохин внезапно подумал, что, в общем-то, легкомысленно, спонтанно задуманный поход за кержацкими кладами на Карагач уже не состоится и можно давать отбой Бурнашеву с Колюжным. Их опередил некий бывший канадский гражданин, который явно приехал сюда с той же целью и у которого теперь даже карта есть с отметками всех сселенных старообрядческих скитов и становищ. Судя по тому, как сорокинские расправились с Галицыным и мотористом, люди они жесткие, да и неизвестно, сколько их, где базируются. Конкурировать с ними невозможно, не используя их же методы, а на местную милицию надежды никакой, если даже своего полковника искать не хотят…
Но вместе с мыслями обреченности все равно теплилась одна, эгоистичная: если даже экспедиция не получится, то все равно это время прожито не зря — счастье уже в том, что побывал на Карагаче, снова увидел стихию таинственной жизни реки и словно не было прошедших трех десятков лет. Да и получил подтверждение: Женя Семенова жива, раз прислала письмо. Найти и выручить Галицына, потом отроковицу, которой поди, уже за шестьдесят перевалило, и наплевать на экспедицию…
Он развел костерок, поставил разогревать тушенку и накачал лодку: лучшего способа ночевать без палатки было не придумать — тепло, мягко, и если ночью дождь, перевернул вверх дном, вот тебе и крыша. Солнце село, но вечера как-то по-летнему были долгими, светлыми, а одиночество желанным, поэтому, наскоро перекусив, Стас заварил крепкого чаю, погасил костер, чтоб не обнаруживать себя, опрыскал лицо спреем от гнуса и устроился в лодке с фонариком и бумагами, утаенными Галицыным.
Поблекший от воды текст копий в косом свете читался довольно легко и вроде бы увлекательно, чувствовалось, что жандарм Сорокин имел хорошее образование, каллиграфический почерк, способности к аналитике и еще обладал творческим даром — писал легко, образно и одновременно лаконично. Он доносил своему петербургскому генералу корпуса Муромцеву, что семнадцатого числа августа месяца его филеры задержали на реке Чилим близ устья Карагача странника именем Анкудин, в котомке которого обнаружилось четыре старинных пергаментных свитка и книга на греческом языке, писанные в ветхие времена, поэтому для их перевода и изучения требуется переслать в Академию словесности либо кому-то из бывших насельников Афонского монастыря — никто больше прочесть и оценить отнятые свитки и книгу не в состоянии. Однако сам он, будучи знакомым с кушанским письмом, совершенно определенно может заключить, что эти рукописи к Стовесту отношения не имеют. Сам арестованный Анкудин происхождения их не знает, от кого получил и кому несет, говорить отказывается.
Еще бросилась в глаза несуразица: все составленные Сорокиным документы адресованы питерскому начальнику, но до адресата не дошли, ибо не имеют виз, и обнаружены почему-то в Омском архиве.
Когда вчера разлепляли бумаги, все листы перепутали, и продолжение приходилось отыскивать по нумерации страниц или по смыслу, и это занимало много времени. И вот, перебирая копии, Рассохин сначала потерял к ним интерес, ловя себя на мысли, что все время прислушивается к окружающему пространству и отвлекается на всякий громкий всплеск воды или звуки, доносящиеся из поймы. Стас понимал, что они никак не связаны с человеком, что это бьют хвостами бобры возле берегов, плещется на мелководье нерестящаяся рыба, но с сумерками все сильнее ощущал, как подступает неясная тревога, какое-то неудобство и ожидание чего-то неприятного. Он не чувствовал опасности или угрозы на этом островке: открытый со всех сторон водный простор исключал возможность кому-либо подобраться незамеченным, но все равно выключал фонарик и слушал, как бурлит прижим внизу и несомые стремниной топляки глухо стукаются о деревянный берег.
И вдруг подумал, что причина этой настороженности — нервы, и что уже никогда не будет, как тридцать лет назад, когда после пешего маршрута он за три минуты ставил палатку и уже на четвертой засыпал, невзирая ни на шорохи, ни на треск среди деревьев — явный признак бродящего неподалеку зверя. Рассохин налил из фляжки немного водки, выпил без закуски и закурил трубку: надо пересилить себя, успокоиться и позвонить Лизе.
Он набрал питерский номер и сразу же услышал ее голос — ждала.
— Ничего не узнал о маме? — с надеждой и сразу же спросила она.
Рассохин поведал, как они с Гохманом ездили на Мотофлот, где оказалась совсем другая Евгения Семенова.
— Ты уверен, что другая? — усомнилась Лиза. — Может, не узнал? Столько времени прошло…
— Я тебя помню!
— Точно помнишь?
— Она совсем не похожа на Афродиту. Хотя в Усть-Карагач тоже попала студенткой.
— Я должна сама ее увидеть! И поговорить.
— Там нечего смотреть — старая толстая тетка. Да и призналась бы, если написала письмо. Нет, это не она!
— Жаль, а то бы я могла поехать уже сейчас… А ты где?
— На необитаемом острове, — сказал то, о чем подумал. — С мыслями Робинзона…
За двое суток, проведенных вместе, Лиза не позволяла себе ни единого вольного, с безобидным намеком слова; напротив, была все время в напряжении, возможно, вызванном воспоминаниями и мыслями о матери, говорила сдержанно и только единожды расслабилась, когда рассказывала историю о зимующей ласточке.
И совсем иначе общалась по телефону.
— Хочу сейчас быть твоим Пятницей, — многообещающе проговорила Лиза. — Сидеть у костра и гладить твою ершистую голову. Когда ты меня позовешь?
Он почему-то опасался этой ее смелости и неких намеков.
Темный предмет на белесой воде он принял сначала за топляк, который часто проносило по реке, но приглядевшись, заметил в его очертании что-то напоминающее человека на плоту.
— Уже скоро, — пообещал он, не желая рассказывать всего, что творится на Карагаче.
— Если не возьмешь в экспедицию, — пригрозила она шутливо, — сама приеду, с Дворецким. Михаил Михайлович приглашал!
— Куда приглашал?
— В путешествие по старообрядческим скитам!
Рассохин попросил Лизу присматривать за профессором. После их первой встречи ученый проникся журналисткой, которая вела с ним соглашательскую политику, поддакивала, обещала написать о всех оригинальных версиях Дворецкого и теперь время от времени наведывалась к нему в университет. Она опасалась, что обман раскроется, или придется и впрямь что-то писать, чего фотокорреспондентка глянца делать не умела. И еще хуже, если профессор узнает, с чьей подачи и с какой целью его опекают… Но кажется, интриган затеял свою игру и намеревался использовать журналистку, чтобы добиться признания. Он настойчиво подталкивал Лизу, чтобы она как представитель прессы, но человек сторонний помогла ему сформировать общественное мнение в Академии наук. Мол, никто не заподозрит сговора, а я в долгу не останусь…
— Он что, собирается на Карагач? — спросил Рассохин.
— Выдал предписание губернатору — реакции нет. Так что поедет сам, на разборки.
— И этот на разборки!
— А кто еще?
— Да это я так… — Теперь он отчетливо видел человека, плывущего в резиновой лодке. — Ну ладно, до завтра!
— Что такое? У тебя что-то случилось?
— Нет, все в порядке!
— Тогда поговори еще со мной? — капризно попросила Лиза.
— Побережем аккумулятор. Здесь, на острове, электричества нет.
Он отключил телефон и вынул из рюкзака бинокль: вдоль затопленного пойменного берега несло одноместную резиновую лодку, причем человек сидел лицом вперед и не греб, а лишь подправлял движение. Такое плавание, да еще в половодье и сумерках, было не просто рискованным — безрассудным: пропороть резинку можно о любую корягу, кругом ледяная вода, в которой продержишься десять минут, не больше.
Лодку несло к прижиму, и гребец поздновато заметил это, налег на весла, но столкновение с колючим плавником соры было неминуемо. Рассохин спустился к воде и опоздал на несколько секунд. Лодка с гулким звуком стукнулась о сучкастую лесину, отскочила и завертелась вдоль берега, человек в сетчатом накомарнике бил веслами, но лишь усугублял положение.
— Хватайся за корягу! — крикнул Стас.
Вероятно, гребец только сейчас увидел его, но совету не последовал, напротив, оттолкнулся от нависшего над водой дерева, и чудом уцелевшую лодку понесло в заводь, на новый круг. Человек же вертел головой, верно, был напуган или потерял ориентацию, потому что стал выгребать не поперек течения, к противоположному берегу, где было затишье, а против.
— Не греби! — еще раз крикнул Рассохин. — Поднесет — поймаю!
И услышал напряженный, вызывающий и какой-то старушечий голос:
— Ты кто? Что надо?
— Причаливай!
— Ты огнепальный?
Ему показалось, ослышался, но соображать, что сказала женщина, было некогда, впрочем, как и переспрашивать.
— Огнепальный! — подтвердил он. — Не бойся!
Лодку обернуло в заводи по кругу, вновь подхватило течением основного потока и понесло к прижиму. Все-таки пробоина была — корма и нос задирались, середина проваливалась и вроде где-то шипело. Едва она ткнулась в бревно, Рассохин схватил за весло, потом за резиновую уключину, подтянул и сам чуть не улетел в пучину, подскользнувшись на мокрой лесине.
В лодке и впрямь оказалась женщина, лица которой было не рассмотреть сквозь сетку накомарника, да и некогда рассматривать: напор воды в прижиме и вес человека уже складывали резинку пополам. Рассохин схватил женщину за шиворот и буквально выволок на copy, Но она присутствия духа не теряла: в свою очередь, поймала лодку за веревку и потянула за собой. Отяжелевшая, та не поддавалась, да тут еще всплывшая котомка чуть не вывалилась в реку. Стас поймал ее, рывком опрокинул обвявшую резинку и вылил воду. В голове вертелась фраза, которую обычно говорят в таких случаях — он ее и произнес:
— Тебе что, жить надоело?
— Бог меня храпит, — самоуверенно отозвалась женщина и сдернула накомарник. — Не первый раз. Заклею, обсушусь и дальше…
На вид ей было под сорок, хотя настоящий возраст скрывался за бродяжьей неряшливостью: перехваченные тесьмой грязные волосы слиплись в сосульки, усталое тонкое лицо, руки в цыпках, неуловимый, самоуглубленный взгляд, а голос — изнеможденный или простуженный, от того старчески хриплый.
— Ну раз так, пойдем, — предложил Рассохин.
— А ты… Ты обманул меня! — осматривая его, вдруг заявила женщина. — Ты зачем заманил меня? Ты кто?
— Я не заманивал. Я спасал, ты же пробила лодку, чуть не утонула…
— Зачем сказал — огнепальный?
— Не знаю, — обескураженно произнес он. — Ты спросила, я сказал…
— Ты не огнепальный!
— Нет, я просто человек…
Она вдруг разволновалась и стала по-обезьяньи гримасничать, скалясь и вытягивая губы трубочкой. И только сейчас Стас узрел ее блуждающий, нездоровый взгляд.
— Ты кто? — спросила уже испуганно. — Почему здесь?
— Турист я, к примеру. Вроде тебя…
— Следишь за мной? Кто заставил следить? Матерая? Посмотри мне в глаза! Прямо в глаза!
— Что тебе надо? — возмутился Рассохин. — Скажи спасибо, из воды достал! А то бы купалась…
— Как твое имя? — перебила она, пытаясь отнять лодку. — Назови имя!
— Стас! И что? Может, паспорт показать?
— Не надо. И так вижу. Я все вижу! Ты хороший человек. И мужчина симпатичный. Но потерянный.
— Почему — потерянный?
— Пока трудно сказать. — Взгляд ее был неприятным, как с тяжелого похмелья. — Наверное, грех на тебе есть. Или проклятие…
— Ты сейчас наговоришь!
— А с виду очень даже ничего. И борода золотистая, эротичная.
Он собрал лодку в ком.
— Тебя-то что ночью несет, безголовая? Да на таком мыльном пузыре? Экстрим, что ли?
— У меня очень важное дело! — гордо и даже хвастливо произнесла она. — Я ищу священную кедровую рощу.
— Зачем тебе?
— Там живет огнепальная пророчица.
— Зачем тебе пророчица?
— Она унесла с собой истину. И все погрязло во лжи.
— Какую истину? — Рассохин испытывал непроизвольный озноб от ее слов.
— Высшую! Будущее человечества во мраке.
— А где священная роща?
Женщина по-старушечьи мелко засмеялась.
— Какой хитрый! Я скажу, а ты вперед меня найдешь!
— Ну, ладно, — согласился он и пошел вверх. — Пошли сушиться и клеить.
Ей ничего не оставалось, как последовать за ним. Стас повесил спустившую лодку на лесину, взял топор и принялся рубить смолевую щепу от соснового корневища. Экстремалка оглядела стан на вершине соры, заметила лежбище, устроенное в лодке, и вроде бы окончательно успокоилась, стала искать пробоину в резинке.
— Прошлой ночью я спасалась на березе, — вдруг вполне разумно призналась она. — И лодку клеила. Хорошо, там такая развилка была…
— Ты откуда плывешь-то? — спросил Рассохин, запаливая щепу.
Женщина оставила лодку, подошла к костерку и, опустившись на песок, уставилась тяжелым, испытующим взглядом, от которого хотелось отвернуться.
— Вижу, ты меня не выдашь, — заключила удовлетворенно. — Ты красивый мужчина, и борода у тебя, как у огнепального человека. Скажу по секрету — я ушла от людей Кедра.
— А это кто такие?
— Лжецы, обманщики и самозванцы! Они называют себя последователями огнепальных, но сами не имеют к ним никакого отношения. Они тоже ищут пророчицу.
Рассохин вдруг мысленно назвал ее блаженной — скорее всего, так и было: разум от безумия уже было не отделить.
— Где они живут-то, люди Кедра?
— Этого я сказать не могу.
— Почему?
— Связана клятвой.
— Но ведь они лжецы и обманщики? Разве можно давать им клятву?
Она призадумалась, но потом отрицательно повертела головой:
— Нет, всякую клятву нарушать грешно. Хочу остаться чистой.
— Ну, добро… Но ты можешь сказать, чем они занимаются?
— Живут под сенью кедра. — Зубы у блаженной стучали от холода.
— И все?
— Собираются на круг, говорят… Хочешь — дам понюхать масло?
— Какое?
— Кедровое.
— Пожалуй, не хочу…
Сумасшествие на минуту перевесило разум.
— До поселка еще далеко? — вдруг обеспокоенно спросила блаженная.
— На твоем транспорте — четыре дня. — Стас достал из рюкзака свой спортивный костюм и свитер. — Или шесть ночей…
— Почему шесть?
— Потому что ночи короткие. — Рассохин положил перед женщиной одежду. — Переодевайся и сушись.
И спустился к реке.
В прижим набивало речной мусор, и когда его масса становилась критической, его отрывало, уносило в заводь, и там после нескольких кругов, словно нитку из клубка, вытягивало по фарватеру и влекло до следующего прижима. Скорее всего, экстремалка и путешествовала вместе с речным сором, на что можно было отважиться лишь от безумия или крайнего отчаяния. Мысль, что она принадлежит к сорокинским, у него возникала сразу же, тем паче Скуратенко говорил, что верховодила казнью женщина, однако эта не походила на лидера.
Он выкурил трубку, и когда вернулся, блаженная сидела у огня в его костюме, прокаливала босые ноги и жевала зачерствевший хлеб с Усть-Карагачской пекарни.
— Я взяла твой хлеб, — повинилась. — Не удержалась… Я ведь женщина!
Рассохин молча достал соленое сало, колбасу, банку с тушенкой вскрыл и сунул в огонь.
— Странное дело, — проговорил он. — За сегодняшний день на Карагаче спасаю второго человека.
— От голода?
— И от голода тоже.
— Колбасы не надо, — вдруг сказала она. — И тушенки. Я мясного не ем.
— Запрещают, что ли?
— Нельзя пожирать плоть себе подобных.
— Понятно, вера не позволяет. Из вегетарианского у меня только хлеб. Еще чай и сахар. Ты когда последний раз ела?
— Сегодня медуницу нашла. И еще у меня орехи есть, кедровые…
— Травоядная, значит?
— Плотоядие сокращает жизнь.
— Ты хочешь жить вечно? В таком виде?.. Да, здорово тебе мозги промыли!
Экстремалка положила кусок хлеба и обидчиво дернула головой:
— Если ничего не понимаешь — не говори! Я просто не ужилась в коллективе. То есть в общине… Почему меня не пускают к отрокам? Я уже год в общине, прошла имянаречение! Хочу рожать! А мне не дают!
— Этого я не знаю. — Рассохин растерянно пожал плечами. — Из-за характера, возможно… Поэтому и сбежала?
— Не сбежала. Я поехала искать пророчицу. Потому что все лгут! И я это чувствую. Найду и восстановлю справедливость и истину! А если встречу отрока огнепального толка, то обязательно совокуплюсь с ним и зачну.
— А не поздно тебе рожать? — спросил вполне серьезно и тут же пожалел об этом.
— Я уйду от тебя! — Она вскочила и ринулась с островка в разлив. — Ты тоже обманщик и смеешься надо мной!
Рассохин чуть замешкался и поймал за шиворот, когда блаженная забрела в воду по пояс. Накупался сам, но выволок женщину на берег, насильно привел к костру и еще извинился за некорректное поведение.
Похоже, это ей понравилось — настроение у блаженной менялось стремительно.
— Ты ешь, не обижайся. — Рассохин приставил чайник к огню. — Извини, но я старше тебя! Могу задавать всякие вопросы. И это ты пришла к моему костру, а не я к твоему.
— Я не пришла, меня прибило! Заклею лодку и поплыву дальше. Благодарствую за помощь.
— Кто же тебя отпустит? Поплывет она…
— Ты меня… не отпустишь? — вдруг заинтересованно спросила блаженная.
Он не услышал этого интереса и не узрел коварства — молча достал нож и двумя ударами рассек ее лодку пополам, остальное дорвал.
— Сама теперь не уйдешь.
— Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой? — Она опять стала гримасничать. — Зачем?! Вот был бы ты отрок огнепального толка!..
— Ваши люди похитили человека на Красной Прорве, — жестко заявил он. — А второго распяли на жерди и оставили умирать. И при этом вы еще не едите мяса! Орешками питаетесь, травкой, птицы божии… Ты же с ними заодно? Если держишь клятвы?
Блаженная встрепенулась, и из мешанины ее слов стало ясно: она знает о похищенном Галицыне и распятом Скуратенко.
— Нет! Я ушла! Искать огнепальную пророчицу! А эти люди вторглись на нашу территорию. Здесь наши места силы. И они священны. А эти вторглись, осквернили — и были наказаны!
— Где сейчас человек, которого взяли на Красной Прорве? Куда увезли?
— Под сень Кедра. Яросвету сейчас хорошо, он прошел много кругов и сразу получил имя…
— Его теперь зовут Яросветом?
— Матерая нарекла.
— Почему ты решила, что ему хорошо? — спросил Рассохин, а сам подумал — уж не ее ли встретил Галицын и голову потерял?
— Яросвет сам говорил! Каждый день мы собираемся на круг. То есть под сенью кедров и обсуждаем свои чувства. Нужно обязательно рассказать обо всем, что ты днем думал, ощущал и как к кому относился. И никто не посмеет солгать.
— И сколько же вас собирается на круг?
Она спохватилась и буркнула:
— Ничего не скажу…
— Как хочешь. — Рассохин попытался зайти с другой стороны. — Но советую лучше мне все рассказать. Про свою компанию. Завтра сюда приедет милиция, уголовный розыск. Они церемониться не будут. Пойдешь за соучастие.
— Куда — пойду?
— В тюрьму!
Блаженная сделала загадочное лицо.
— Ты оставил меня возле себя… Значит, я нужна тебе?
— Оставил, чтоб узнать, где находится похищенный человек.
— Я тебе не интересна как женщина?
— Нет!
Окрепший голос вновь обратился в старушечий.
— Какая я несчастная… Почему не нравлюсь отрокам? Я же хорошенькая!
— Тебя как зовут? — Рассохин достал уголек из костра и прикурил.
— Зарница.
— Редкое имя… У нас в школе игра такая была.
— Я прошла имянаречение.
— На самом деле зарница… Кто же тебя так назвал? Наставник, учитель или как он у вас называется?
— Матерая. Возомнила себя пророчицей.
— А пророк у вас Сорокин?
Она глянула исподлобья и отвернулась.
— Не скажу.
— Ну как хочешь. Раньше-то как звали? В миру?
— Не помню. Я отреклась от мирского имени.
— Почему Матерая нарекла тебя Зарницей?
— Иная жизнь, иное имя. Теперь я отроковица.
Рассохин подскочил.
— Кто?!.
— Отроковица Зарница. А что?
— Очень уж знакомое — отроковица… А мужчины у вас отроки?
— У нас нет возраста. Мы всегда юные.
— Скажи-ка мне, отроковица. Пророчица ваша не из кержаков?
— Не знаю…
— Говорить не хочешь? Твое дело. Но подумай: сама еще молодая, симпатичная… Но выглядишь, как старуха. Ну какая же ты отроковица?.. Когда последний раз в зеркало смотрелась?
— Внешний вид не имеет значения! Это внешняя оболочка, как одежда. Важно, что у человека внутри!
— Внутри у человека кишки, — язвительно заметил он. — Органы пищеварения.
Блаженная хотела возразить, верно, сказать что-нибудь о душе, но обожгла босую ногу, отдернула и сморщилась. Ступни у нее были узкие, изящные, явно выпестованные в хорошей, дорогой обуви, а не в чоботах на деревянной подошве, которые сушились возле костра.
— Ладно, отроковица, — примирительно сказал Рассохин. — Утро вечера мудренее. Жуй черствый хлеб. Вон чай вскипел… Тебе с сахаром? Или это белая смерть?
Вместо ответа она лишь вскинула глаза. Стас налил полную кружку, опустил туда горсть рафинада, после чего отрезал большой кусок хлеба и, подумав, оставил булку и нож.
— Только вы не смотрите, — попросила спасенная, принимая кружку. — Я так хлеба хочу…
— Ешь на здоровье, — он встал. — И ложись спать в мою лодку. Там постелено.
Она тут же его огорошила:
— А ты? Ты не хочешь спать со мной? Мы станем заниматься только тантрическим сексом, без совокупления.
— Мне нельзя даже тантрическим, — серьезно проговорил он. — У меня траур.
Блаженная понимающе скорчила горестную физиономию.
Он прихватил пакет с архивными бумагами, фонарь и пошел на дальний конец соры, где над водой нависал огромный кедр, когда-то упавший в реку и до блеска отшлифованный водой и льдом. Там нашел подходящее место, где ствол расходился на три отростка, устроился между ними и стал набивать трубку…
Оставшись без оружия, карты и, в общем-то, без продуктов — три банки тушенки да полкило галет, на следующий день Рассохин все же вернулся на ленточные болота, где по ошибке был схвачен парашютистами, и уже в сумерках пробрался на первую гриву. Ночь он просидел без огня, затаясь на валежине возле выворотня, и хорошо в рюкзаке был накомарник: ночью с разопревших на солнце марей поднялся гнус, и воздух приходилось цедить сквозь сетку, чтоб дышать. День он проспал на сухом торфянике в болоте, где гулял ветер и сдувал гнус, и следующую ночь отдежурил на второй гриве, но погруженные в трясину древние барханы оставались безлюдными, как в пустыне. Со следующего утра Стас начал обследовать их сначала по периметру, дабы отыскать хоть малейшие следы человеческого пребывания, однако нашел лишь отпечатки яловых сапогов десантуры, которые протопали, словно лошади, да множество свежих сохачьих следов — лосихи приходили на гривы для растела.
Между ленточных болот были такие же ленточные боры, уходящие на северо-восток, где превращались в отдельные островки, называемые урманами. Сосны на них стояли могучие, перезрелые, сюда никогда не ступала нога лесоруба, и поэтому гривы остались в первозданном виде, и все здесь было естественно: деревья умирали от старости и на корню, потом еще по многу лет стояли голыми и черными, прежде чем рухнуть наземь. Старым замшелым и свежим, кондовым валежником барханы были искрещены вдоль и поперек, стволы сосен достигали до полутора метров в толщину у комля, выворотни вообще поднимались метра на три в вышину. Пройти здесь незамеченным можно было очень просто и даже не оставлять следов, если ходить по ветровалу, впрочем, как и устроить подземное жилище. Или даже наземное, если подыскать хорошую дуплистую валежину и выбрать оттуда гниль — по крайней мере, получится теплая и сухая нора, где можно передвигаться на четвереньках.
Такую нору Рассохин и устроил себе на северной оконечности первого бархана, однако спал там немного и только днем, причем просыпался всегда в поту, хотя вроде бы и нежарко было, решил — от духоты такая потливость. Все остальное время сидел на наблюдательном посту или, обвязав сапоги кусками парусины, чтобы не нарушать мохового покрова, тщательно, метр за метром, исхаживал гривы и урманы. Через неделю он уже научился искать следы, оставленные погорельцами: они маскировали пни каждого спиленного или срубленного дерева, на месте оставался едва заметный мшистый бугорок, внутри которого оказывался довольно свежий срез да сосновая хвоя. Все остальное — ствол, сучья, вершина и мелкие ветви — выносилось или разбрасывалось по лесу, и поди разбери сразу, ветром наломало или человек руку приложил. На обеих гривах Стас нашел полтора десятка подобных спрятанных пней и несколько явно изрубленных на дрова смолистых валежин, от которых даже корней и щепок не осталось. Место выворотня есть, яма хоть и подернулась мхом, но не заросла, не сгладилась, а дерева нет!
Эти следы доказывали, что жилье на барханах есть, и принадлежит оно погорельцам — кто еще будет так маскировать свои следы? И дело времени его найти, однако к концу второй недели Стас доел последнюю галету и, окончательно ослабев на голодной диете, ушел с барханов к залому, чтобы оттуда сплавиться на плоту на стан своего бывшего родного отряда или на прииск и украсть продуктов. Ушел в полной уверенности, что теперь-то уж точно найдет кержаков незримого и неуловимого толка и с осознанным ощущением собственного дичания: скрытная жизнь, постоянное состояние поиска, бдение в засадах и полное отсутствие людей сделали свое дело. Умом Рассохин понимал, что бывшие соратники по отряду, сам Репа и приискатели не желают ему зла и наверняка дадут тушенки с сухарями или даже хлеба, поскольку его теперь пекут на камбузе буксира, но он не хотел ни с кем встречаться. Непонятная и обозленная обида, зароненная в тот миг, когда Гузь отнял лодку, оружие и карты, от одиночества лишь обострилась, и еще добавилось горечи от того, что за две прошедших недели никто даже не попытался прийти к нему, узнать, как дела и жив ли вообще. Чувство брошенности и ненужности иногда приходило даже во сне, и он просыпался со слезами на глазах. Самолеты и вертолеты над головой летали не раз, должно быть, розыски Жени Семеновой продолжались, но по земле никто не пришел, ничего не спросил…
А ведь три года изо дня в день и бок о бок проработали! Сколько разговоров переговорили, сколько дум передумали вместе, даже буриме сочиняли всем отрядом, когда шли дожди и нельзя было выходить в поле — какую бы тему ни задавали, все равно получалась поэма о любви и дружбе…
С гребня залома Рассохин вывернул три сухих бревна, спустил на воду и переплел их жгутами из скрученных таловых виц.[32]
Срубил сухостойную елку на шест, забрался на плот и оттолкнулся от берега — все не пешком. Уровень воды в реке сильно упал, обнажились белые пески на поворотах, еще сырые, но уже зеленые берега, и каждый был памятным: здесь ночевали, там рыбачили, а за следующей песчаной косой, такой же почти белой, ночью Юрка Зауэрвайн сапог утопил…
В четвертом часу утра Стас причалил возле невысокого красноватого яра, разрубил вицы и оттолкнул бревна, и сделал это не думая, чтоб не оставлять следов. Отсюда напрямую до лагеря отряда было километра три сухим беломошным бором, а потом кедровником — тоже все знакомо, исхожено. По логу, где он засек первые следы бродней погорельцев, бежал ручей и густо росла молодая медвежья пучка вперемешку с черемшой, которыми он в Основном питался в последние дни. Не утерпел, сорвал несколько побегов, очистил и съел на ходу: неизвестно еще, удастся ли добыть продуктов, а сил уже нет, ноги подламываются, сердце выскакивает и от пота штормовка мокрая.
На стане в этот сезон поставили шесть палаток, и сразу видно — рядом богатые приискатели: под каждую соорудили дощатые помосты, сколотили новый строганый стол с лавками и тесовый навес. А обычно все убогое, из жердей, из бересты, из еловой коры. И ни одной собаки не взяли, что значит — расслабились от близости охраняемой караулом драги. Раньше перед заброской в поле прикармливали в поселке пару бродячих псов, которые потом верно служили весь сезон, проявляя невиданные сторожевые и охотничьи качества. Обратно собак не вывозили, поскольку в отряде всегда оказывалось два-три любителя собачатинки из поселковых бичей, нанятых шурфовщиками или маршрутниками. Но иногда попадались такие умницы, что за неделю до конца сезона откормленные и облюбованные псы внезапно пропадали и объявлялись в поселке уже по снегу.
Рассохин высмотрел складскую палатку, прежде чем приблизиться к лагерю, и даже вынюхал пищу: в ведре над погасшим костром, кажется, была картошка с мясом и луком. Он хорошо знал распорядок жизни лагеря, поэтому не скрываясь вышел из кедрача, взял чистую миску, ложку и снял крышку с ведра — голодный нюх не подвел. Картошки с мясом навалил с горкой, а она холодная еще вкуснее, сел за стол и преспокойно стал есть. Если кто и проснется, услышит бряканье посуды, подумает, что встал дежурный по костру, то есть по кухне. Предутренний сон самый сладкий, а ночь хоть и белая да прохладная, никому не захочется вылезать из нагретого спальника.
После плотного и сверхраннего завтрака Стас сунул в рюкзак три буханки свежего хлеба, завернутого в бересту, чтоб не черствел, после чего открыл складскую палатку и сразу же отметил про себя, что правильно прежде поесть и только потом идти на воровское дело. Иначе бы жадность сгубила, потому что от нынешнего обилия и разнообразия продуктов голодные глаза разбегаются. Он набрал из ящиков пятнадцать банок свиной «Китайской стены», десяток со сгущенкой, пачку соли, галет, чайной заварки и сигарет «Прима» — вполне скромно, но уже килограммов за двадцать тянет. Лагерь спал без задних ног, хоть бы кто ворохнулся, и храпели всего двое — Репа и Галя. Муха почему-то молчал, верно, спал на левом боку…
По-воровски уходить не хотелось, Стас взял уголек из кострища и написал на строганой столешнице строчку из буриме: «Не осталось попутно идущих со мной». Подписываться не стал, должны были помнить, кому принадлежит тема коллективного творчества об одиноком волке.
Обратно к залому он шел напрямую, без спешки и не осторожничал: очень хотел, чтоб кто-нибудь на стане, проснувшись и обнаружив пропажу продуктов и надпись, побежал бы его догонять. Дважды Рассохин останавливался, разводил костерок, кипятил чай, выкуривал трубку, набив ее табаком из ломаных сигарет — никто не преследовал, ни по воде, ни по суше. И дым табачный был отвратительным, вызывал кашель и обжигал горло…
На заломе он пообедал тушенкой и хлебом, поспал три часа на солнце и ветерке и все равно проснулся мокрый от пота. Тогда он разделся, вымылся с ног до головы, используя вместо мыла донную иловатую глину, после чего взвалил рюкзак на горб и двинул дальше. Возле «моста» через тыловой шов болота он хотел перевести дух, но вдруг узрел мокрые вершинки елей. Кто-то проходил, и совсем недавно, ибо на солнце с ветерком влага бы высохла через полчаса! Не снимая ноши, он перебрался на другую сторону и обнаружил на песчаном склоне увала свежие следы бродней — ночью их не было! Скорее всего, погорелец был один, и шел он точно по направлению к сосновым гривам!
Поднимаясь на увал, Стас впервые почувствовал одышку, сердце выпрыгивало, а от пота промокла даже стенка рюкзака на спине, однако подумал, это от истощения. На гребне он перевел дух, осмотрелся — и здесь, на жестком коротком мху, след потерялся. Бросаться в погоню с грузом было невозможно, поэтому Рассохин нашел место и подвесил рюкзак на сук дерева повыше от земли, чтоб зверь не достал. И дальше рванул бегом, выдерживая примерное и уже знакомое направление. Почему-то казалось, он настигнет погорельца где-нибудь близ кромки чистого болота, по крайней мере там и за километр легко увидеть идущего человека. Но когда выбежал на край мари, никого не обнаружил, и следов тоже. Пришлось возвращаться назад, за рюкзаком, и ночевать в густом пихтаче, на всякий случай без костра.
И уже утром, на заре, когда Стас шел через первую ленту болота к чахлому сосняку, он вдруг уловил запах дыма. Нанесло ветерком, и сколько после этого ни принюхивался, ничего больше не почуял. Однако когда миновал лесистую марь[33] и на горизонте обозначилась первая грива, вновь напахнуло дымком. А ведь за две предыдущие недели ничего подобного не было! Значит, погорелец где-то отлеживался, пока летали самолеты и бегали парашютисты, теперь вернулся и жжет костер или топит печь в землянке…
К сосновому бархану Стас шел крадучись и все время принюхиваясь, но поднявшееся солнце уже разогрело багульник, и в воздухе витал только этот одуряющий вездесущий запах. Но если кержак теперь здесь, то непременно себя выдаст, а о погоне он не подозревает, иначе бы не дымил и скорее всего сорвался бы отсюда в другую берлогу.
К своему лежбищу в дуплистой колодине Рассохин добирался до самого вечера, с частыми остановками — одышка теперь была, уже когда шел даже по ровному месту. И когда наконец освободился от ноши, взял топорик и осторожно побрел кромкой гривы с подветренной стороны, по-собачьи шевеля ноздрями.
В третий раз он почуял запах дыма или, вернее, острую горечь тлеющих углей, когда к сумеркам ветерок сменил направление. И опять только напахнуло разок, как показалось, откуда-то с южной оконечности гривы, которая загибалась серпом и рассыпалась островками мелких урманов. Там он бывал всего однажды, поскольку бархан возвышался всего до полутора метров над поверхностью болота, и с точки зрения Рассохина, для подземного жилья не годился. Не раздумывая, наудачу он направился в ту сторону и скоро опять уловил аромат огня, так знакомый тем, кто сиживал у костров. Сменившийся ветер быстро затягивал тучами вечернее небо, и когда Стас добрался до мыса гривы, пошел дождь, враз погасивший все запахи.
Он уже был двое суток на ногах, с одним коротким сном, и хотя теперь была пища, все равно наваливалась усталость, а еще першило в горле и ломало суставы — наверняка простыл под дождями и на ночевках без костра. Выбрав сухое место под выворотнем, Стас забрался в тесную берложку и только сейчас оценил жизнь на этом конце бархана: вид открывался на три стороны болота с редкой, угнетенной сосенкой. Отсюда можно было наблюдать все подходы к гриве и ближайшему урману даже ночью, ибо белый сфагновый мох напоминал снег, на котором выделялось всякое темное пятнышко. Пожалуй, еще лучше было жить на урмане, который напоминал покрытый лесом курган — вообще открываются все четыре стороны света! Он решил поспать несколько часов, пока льет и темно от туч, чтоб с рассветом пойти к урману, угнездился и опустил сетку накомарника. И пожалуй, уснул бы под убаюкивающий шорох и привычный звон комарья, но в последний миг ему почудились искры, стремительно сверкнувшие сквозь заштрихованное дождем и разлинованное в клетку пространство.
Дрема слетела мгновенно. Сдернув накомарник, около часа он таращился в темноту, напрягая зрение, пока эти искры не начали ему грезиться. Потом бесшумно прилетел филин, сел где-то близко на нижний сук дерева и ухнул так, что заставил вздрогнуть, сгоняя остатки сна. И все равно Рассохин остался в полной уверенности, что увиденные первые искры были реальными и взлетели от земли совсем близко от него, может, метрах в двадцати, хотя сумеречное, дождливое пространство искажало расстояние. Одна только мысль, что жилье погорельца или его костер где-то рядом, уже не давала уснуть до самого утра.
А на рассвете дождь кончился, стихли комары, наконец-то улетел филин и за выворотнем, на востоке, вызрела багровая заря. Стас выбрался из укрытия с топориком в руке и осторожно двинулся в сторону, где вчера увидел искры. Перелез через две свежих колодины, третью, замшелую, обошел и пересек неширокую гриву — ни тебе кострища, ни каких-либо примет, выдающих подземное жилье, трубы, например…
Но ведь отсюда нанесло гарью, и искры видел, а дыма без огня не бывает. Он еще раз пересек древнюю дюну, теперь обходя все валежины и исследуя землю — ни следа, ни сдернутого мха, однако едва уловимый запах близкого жилья есть! Необъяснимый запах, не конкретный, но характерный, не природный — какого-то влажного тепла с примесью знакомой гари. Так пахнет выстывшая и влажная изба, где недавно наконец-то протопили печь.
Или уже это причуды обострившегося нюха, галлюцинации?
Рассохин забрался на толстую свежую валежину, откуда просматривалась вся оконечность гривы, устроился возле выворотня и стал наблюдать. Если кержак здесь, то должен выйти или хотя бы высунуть голову из своей берлоги, как суслик. Не век же ему в норе сидеть, за водой пойдет, или приспичит до ветру: кстати сказать, где-нибудь и сортир должен быть! Кержаки народ чистоплотный, у них туалеты на таком отшибе от усадьбы, что зимой, в метель, так хоть лыжи надевай. Просидел так час и вдруг ушам своим не поверил — ласточка запела! Уселась на щепу, свесившуюся с высокого ветровального пня, и заливается: еще одно доказательство близости жилья! Не станет эта птица вить гнездо, где нет человека…
Этот белесый, без коры, метров четырех высотой пень Стас уже видел, но сейчас перевел взгляд на землю, а упавшего ствола с кроной нигде поблизости нет, верно, изрубили на дрова. Должно быть, сухостойную сосну на краю гривы сломало ветром по выгнившему толстому суку, и от ствола отщепило длинный, ершистый шмат древесины, под которым вроде бы и слеплено ласточкино гнездо. Он спустился с валежины и, прячась за ней, подошел поближе — точно! Гнездо и белые известковые росчерки птичьего помета.
В следующий миг он замер, ибо узрел на косом изломе пня черную сажу — гниль-то в дупле всегда ярко-красная или желтая. Да это же труба! Откуда и наносило дымком, откуда вчера ночью искры летели!.. Вот забраться бы и заглянуть, руками пощупать, однако пень в три обхвата, не меньше, и гладкий, как лысина у Гузя, а сил не хватает через колодину перелезть… Он зашел с подветренной стороны и уже через минуту, почуяв горьковатый запах гари, отмел все сомнения.
Но если это труба, то где-то под ней жилье! А как можно вырыть под корневищем землянку, если пень стоит на склоне гривы и всего на метр ниже уже поблескивает вода в тыловом шве болота? Да ее просто зальет, или тогда получится нора, где уж никак не поставить печки…
Здесь был какой-то фокус, но в тяжелую от бессонницы голову уже ничего не приходило, тем паче жаркое солнце начинало морить. Рассохин успокоил себя тем, что жилье погорельца найдено и теперь можно уйти, отдохнуть, обдумать все как следует и вернуться сюда со свежим нюхом, чувствами и мыслями. Даже если сейчас хозяин землянки выйдет, что с ним делать? Брать в плен с одним топориком? А он окажется с ружьем, с рогатиной и не один. Да и вообще, кто их, погорельцев, видел? Говорят, мужики они здоровые, жилистые, ловкие, голыми руками не возьмешь. Можно было бы, так давно переловили…
Стараясь не спугнуть ласточку, он осторожно удалился от трубы за крайние сосны и там уже пошел быстрее и без оглядки. Отсюда до дупла Рассохина было километра два с половиной, и все равно он не решился разводить костер, поел всухомятку, а покурить ушел в болото на подветренную сторону — у кержаков, поди, тоже нюх есть. Табачный дым опять показался едким и вызывал сильный кашель — верный признак простуды. Потом он забрался в свое убежище, заткнул вход рюкзаком, натянул накомарник, согрелся и больше уже ничего не помнил.
Проснулся он от того, что приснился Репа: будто трясет его за плечо и говорит:
— Вставай! Нашлась твоя отроковица! Вон сидит у костра, носки вяжет!
Стас так резко вскочил, что стукнулся лбом о низкий потолок — хорошо, гниль не всю выскреб, а то бы шишка вскочила.
Носки в отряде вязал геолог Галкин: сядет у костра, очки на нос и невозмутимо шевелит спицами…
Он выбрался из дупла, отряхнулся. Был вечер, парило заходящее солнце, и теперь с востока опять натягивало дождевые тучи. Было еще тепло, но Стас сильно зяб, иногда аж потряхивало от озноба, но в тот момент даже в голову не пришло, что это начинается тяжелая простуда. В начале лета погода на Карагаче всегда стояла неустойчивая, случалось, и снег шел или недели полторы мочило каждый день, и он решил, морозит от перепада температуры — такое бывало в начале каждого полевого сезона, организм адаптировался к среде.
Пока Рассохин ходил курить в болото, началась сухая гроза, над далекими урманами сверкали ветвистые молнии и вот-вот должен был обрушиться ливень. Несмотря на это, он надел под штормовку свитер, взял топорик и пошел кромкой к мысу, навестить соседа-погорельца. И всю дорогу на свежую голову думал, как отыскать его логово, однако ничего, кроме как забраться через трубу, не придумал. Ливень настиг его неподалеку от мыса, но Стас прятаться не стал, дабы под шумок дождя обследовать всю территорию вокруг пня.
И пока одолевал последнюю стометровку, промок насквозь, однако же приступов озноба не ощущал. Возможно оттого, что вдохновился изобретением способа, как вытравить кержака из землянки: заткнуть трубу, если он сейчас топит печь! А самому затаиться и смотреть, откуда выскочит…
Дым из пня не шел, однако вода, попадая в трубу, вымыла сажу, которая теперь вытекала из трещины возле корневища. Для пущей убедительности Стас мазнул ее на руку, понюхал — натуральная гарь! Он обошел трубу, щупая ногами пружинистую сырую землю, и вдруг обратил внимание, что поблизости от нее лежит всего одна свежая ветровальная сухостоина, павшая вершиной в болото, остальные все старые, замшелые. То есть погорелец все что можно порубил на дрова сажен на пятьдесят вокруг, а эту почему-то не тронул. Не успел или ходит по ней, как по тротуару, к своему жилищу, поэтому и мох нигде не выбит?..
На сыром болоте следы затягиваются, на гладкой древесине не остаются…
Рассохин забрался на эту валежину, ставшую скользкой от ливня, и осторожно приблизился к комлю, зависшему на вздыбленном корневище. Ничего особенного — кругом нетронутый глубокий мох, на дереве ни царапин, ни потертостей, хотя под дождем мелких деталей не разглядеть, и разве что под самим комлем сухо, хотя туда капает вода — вчера сидел точно в таком же месте. Только мох отчего-то здесь не зеленый, а мелкий и серый, словно засохший ягель.
Странно, вчера под таким же выворотнем был нормальный…
Более из любопытства он съехал на заднице с валежины, сунулся под комель и не ощутил, а скорее, угадал, что это вовсе не мох, а самая обыкновенная шерсть. На ощупь трубчатая, сохачья…
Не ливень, так рядом бы прошел и внимания не обратил.
Стас нашел край шкуры, отвернул — под ней самый обыкновенный люк, как в подпол, только сбитый из двух, горбами кверху, плах. Он тут же накрыл его и отступил за выворотень.
Что делать? Рвануть крышку и вломиться? А вдруг погорелец услышал уже и стоит с рогатиной?
Как назло, гроза свалилась за вторую гриву и теперь громыхает далеко. Нет, лучше выждать до утра, скараулить возле люка и дать по башке, когда станет вылезать. Рассохин огляделся в поисках подходящего дрына и только сейчас заметил, что нигде кругом нет павшего сучка толще пальца — все подобрано и использовано на дрова, значит, старое лежбище, давно живут. Рассохин спустился к болоту, отыскал сухой сосновый сук и, вернувшись, затаился возле шкуры. Дождь еще хлестал, и Стас давно промок, но от напряжения не ощущал ни сырости, ни холода. Немного привыкнув к мысли, что все-таки нашел логово погорельца, может даже похитителя Жени Семеновой, он осмелел и, бережно отвернув шкуру, стал слушать, что происходит за люком. Лежал на боку минут сорок, однако снизу не исходило ни звука. Время было одиннадцать, но если даже хозяин землянки лег спать, все равно чувствовалось бы присутствие человека. Все равно бы засопел, кашлянул, высморкался, скрипнул чем-нибудь, а всякий звук в подземелье усиливается…
Тут же могильная тишина.
Он дождался, когда закончится дождь, и слушал еще около часа, после чего подцепил топориком люк и открыл — снизу пахнуло влажным, затхловатым теплом: вероятно, вчера пришел, протопил печь, чтоб просушить жилище, а сам ушел ночевать в другое место, например к соседу на урман… Рассохин свесился в лаз, достал спички и осветил: колодезный сруб метра полтора, в одной стенке открытая дверь, видимо, оставленная для проветривания. Он спустился вниз, закрыл люк, так чтобы сверху на него опустилась шкура, и сунулся в дверь — низкое помещение, напоминающее гроб, бревенчатые стены, нары, покрытые шкурой…
И подумал: вот бы сейчас лечь, укрыться и полежать…
Рассмотреть больше ничего не успел, спичка погасла. Стас проник внутрь, зажег еще одну и увидел на столе обыкновенную керосиновую лампу со стеклом — погорельцы жили комфортно и не чурались современных предметов быта. Когда он подпалил фитиль и огляделся, жилище после дупла показалось вполне уютным и не таким и сырым: от топленного вчера камелька с дымоходом из обожженной глины еще исходило тепло. В открытом шкафчике стояла деревянная посуда, на хозяйственной лавке — горшки, котелок и три чугунка. Еще на стенах какие-то мешочки, берестяные короба, корытца, меховые шапки и две синие рубахи, висящие на деревянных гвоздях.
Но никаких женских вещей! Ни одежды, ни предметов типа прялки, веретена или вязальных спиц. Похоже, здесь вообще никогда не было женской руки, хотя от всего исходит вполне жилой, но суровый мужской дух, вон и посудой еще недавно пользовались: скорее всего, хозяин и впрямь уходил куда-то на пару недель и теперь вернулся…
Значит, этот погорелец только соучастник похищения, какому-нибудь дружку помогал добыть невесту.
В торцевой стене оказалась еще одна дверь, точнее, люк, разве что пошире, чем входной. Стас вынул его и посветил лампой: это был подземный дровяник, раскрепленный плахами и лишь отчасти заполненный поленьями — вероятно, основной запас спалили за зиму. И еще заметил под потолком, в песчаной нише, дымоход, собранный из самодельных керамических трубок и промазанный глиной, скорее всего, ведущий под основание ветровального пня-трубы. Похоже, это помещение использовалось еще и как баня, поскольку у дальней стенки оказалась каменка, присоединенная трубой к основному дымоходу. Рядом кадушка для воды, шайка и даже деревянный ковш висит на стене. Хотел уж закрыть люк, но вдруг опять зазнобило, и он ощутил движение воздуха, натуральный сквозняк и все-таки забрался в дровяник: это помещение имело еще одно назначение — запасной выход из подземелья, который заканчивался буквально в замшелой, дуплистой валежине возле трубы и был открыт. Хозяин через него проветривал помещение…
Рассохин несколько раз проходил мимо этой колодины и ничего не заметил…
Почему-то в самую последнюю очередь он обнаружил то, что мысленно ожидал найти — ружье. За нарами в углу стояла трехлинейка с примкнутым трехгранным штыком — вероятно, использовалась вместо рогатины, — двустволка и мелкокалиберка. Можно сказать, целый арсенал! Стас враз согрелся и руки затряслись, ибо, сдав револьвер, к которому привык за три года, постоянно ощущал некую ущербность и уязвимость. Погорелец жил безалаберно, что говорило о его уверенности: все оружие оказалось разряженным, а патронов нигде рядом не было. Рассохин проверил под нарами, пошуршал берестяными коробками на полке и неожиданно обнаружил шланг от лодочного мотора! С его «Вихря», приметный — основание насоса-груши закручено изолентой. Вот кто способствовал похищению и вывел из строя лодку! Удовлетворенный таким доказательством, он стал перещупывать мешочки, подвешенные к потолку, и наконец-то отыскал винтовочные патроны.
Оставаться внутри и ждать здесь погорельца Рассохин интуитивно опасался — мучил частый, сухой кашель, сдерживать который становилось все труднее, и возникало навязчивое, умиротворяющее желание лечь на нары, укрыться шкурой и если не поспать, то согреться. Кроме того, помещение было тесным, даже с винтовкой не развернуться, а еще Стас вспомнил пословицу, что дома хозяину и стены помогают. Он взял только трехлинейку, но из мелкокалиберки забрал затвор, а от двустволки — казенную часть. Тем же ходом выбрался наружу, аккуратно прикрыл шкурой люк и по валежине ушел на кромку болота, где было самое подходящее место для засады. Погорелец явился сюда от залома, но, протопив печь, наверняка ушел в этом направлении, а иначе бы встретился по дороге, когда Стас нес украденные продукты.
И лишь когда устроился с винтовкой в сухой кроне, Рассохин понял, что теперь отсюда даже на несколько минут не уйти, и сидеть придется, пока не заявится хозяин землянки. Это единственная возможность с ним познакомиться. Стоило вчера уйти на несколько часов, и погорелец незаметно исчез.
Рассохин забросил в воду затвор от мелкашки, казенную часть ружья вдавил, вколотил прикладом в раскисший торф прямо под кроной сушины и сел ждать.
Под утро ветер опять сменился, подуло с севера, и скоро промокшая спина заледенела, к восходу он уже зуб на зуб не попадал от непрекращающегося озноба. Солнце хоть и светило, но казалось холодным из-за рваных туч, чередой бегущих на запад. Потеплело лишь к девяти часам, и чуть схлынула знобящая одурь, когда кажется, что такое состояние природы теперь будет бесконечным. А уже к двенадцати его стало бросать то в жар, то в холод, но не от погоды — от высокой температуры. Ко всему прочему нещадно болели все суставы, щекотало в горле, дыхание забивал кашель и закладывало уши. Хуже всего было заболеть в самый ответственный момент, и после полудня Рассохин уже понимал: грядущую ночь он не высидит в засаде.
Но оставлять теперь без присмотра берлогу погорельца невозможно, сразу увидит следы посещения чужаком, сбежит, и потом уже будет не найти…
Сначала он увидел лосиху с двумя телятами, причем внезапно — возможно, на несколько минут прикрыл глаза и отключился. Они брели от урмана прямо на Рассохина и были уже метрах в двухстах. Матка иногда останавливалась, выслушивала пространство, и длинноногие, нескладные еще лосята замирали вместе с ней. Глаза слезились, и потому он не сразу разглядел еще один движущийся за лосихой неясный предмет, подумал — двоится. По крайней мере, уж никак не предполагал, что возле дикого, чуткого зверя может быть человек. Но потом услышал:
— Ступай, матушка, ступай!
Уши заложило, поэтому голос казался отдаленным, как в телефонной трубке, но слова вполне были понятны. Человек гнал лосиху с телятами, как гонят корову, и даже хворостина в руке была!
Стас сидел не шевелясь и вроде бы даже дышать перестал, взирая на невероятную картину, но когда осталось шагов сорок, матка почуяла его, резко порскнула в сторону и неторопко порысила вдоль болота, ко второй гриве, увлекая за собой телят. И на белом мху в тот час же отчетливо обозначился человек — вроде ружье за спиной!
— Ложись! — крикнул Рассохин, выстрелил у него над головой и передернул затвор.
Он опасался за винтовку выпуска времен русско-японской войны: нарезы подъело, затвор болтался, но это чудо Мосина работало как часы!
Лосинный пастух не ложился, стоял со своей хворостиной и пытался высмотреть, откуда стреляли.
— Ложись! — Стас выстрелил ему под ноги.
— Дак мокро ложиться-то! — невозмутимо отозвался тот. — Я уж постою!
И чем обескуражил Рассохина. Он сунулся было в болото, но воды там по колено…
— Руки подними и иди ко мне! — скомандовал. — Быстро!
— Как уж получится. — Погорелец рук не поднял, но все-таки пошел. — А чего стреляешь-то, паря?
На вид ему было лет под сорок, лицо красное, волосы до плеч — то ли белые, то ли седые, прихлопнуты суконной шапкой, рыжая борода спрятана под рубаху. А ростом метра полтора только! Если Рассохин в его землянке ходил сгорбившись, то этот головой и до потолка бы не доставал.
За спиной оказалось не ружье — медвежья рогатина, пика с кованым широким навершием.
— Корову мою напужал, варнак, — продолжал балагурить на ходу незнакомец. — Два дня искал, доить вел, а ты турнул… И где теперь искать?
Возле тылового шва погорелец склонился, распустил длинные голенища бродней, перебрел воду и сел на толстый сук кроны.
— Фу, притомился… А ты почто мою винтовку взял, паря?
— А зачем ты мне мотор испортил?
— Вон что… — протянул кержак. — Значит, твоя лодка была?
— Женщину на стане геологов ты похитил? — спросил Рассохин и наставил на него штык.
— Женщину? — Взгляд у него был подвижный, скользкий, хитрый. — Не, паря, не я. Я только подсоблял.
— Кому подсоблял?
— Да ты штыком-то не тычь. — Погорелец отодвинулся. — И так скажу. Прокошке четвертый десяток пошел, дак жениться пора. Ему и взяли жену. А что? Добрая отроковица, племяннику моему по нраву пришлась.
— Это была моя отроковица! — почти выкрикнул Стас, чувствуя навязчивое бессилие.
— Да будя врать, паря! — обезоруживающе засмеялся он. — Была бы твоя — возле себя держал, на шаг бы не отпустил, долю бы свою с нею делил. Она чужая тебе, я же сам видел! И ты ей чужой… А Прокошке теперь родная, ибо добычей взял. Ты ешшо молодой совсем, рано тебе жену. Ты ешшо, поди, с Богом-то не ратился, отрок комолый. Дак погуляй пока…
— Она была моя, она обещала…
— Чего обещала?
— Мы взяли палатку и ушли в лес, — почему-то как уже о произошедшем сказал Рассохин. — Нашли там место, тайное… И наперекор судьбе!
— Она что же, паря, блудила с тобой? — вдруг сурово спросил погорелец. — Ежели так, прямо и сказывай!
Жидкая вершина валежника играла под ногами, и чтобы не свалиться, Рассохин уперся в нее штыком и навалился на приклад винтовки.
Всю ночь Рассохин просидел на кедре, нависающим над бурной водой прижима, перебирая в памяти чувства и дела давно минувших лет и с рассветом, когда с реки потянуло холодом, начал зябнуть. Он хотел уже пойти к стану, чтоб запалить костер и подремать возле него, однако услышал за спиной стук деревянных подошв и вспомнил: в Древнем Риме рабы носили деревянные сандалии, чтобы было слышно, чтобы не могли подойти бесшумно и зарезать спящего господина, а кожаные полагались только вольным гражданам.
Блаженная остановилась у него за спиной, после чего села и затаилась.
— Ну и что не спишь? — спросил он, не оборачиваясь.
— Днем выспалась, — отозвалась голосом отрешенным. — Я ночами сплавлялась, а днем находила местечко и спала. И потом, я с детства боюсь спать одна.
— А что, за тобой гонятся?
— Они следят за мной, — не сразу призналась она. — С берегов смотрят. И сейчас за твоим островом стоит одна, русалка. Из воды вынырнула…
— Да, я тоже чую — глядят… А почему следят за тобой?
— Сами огнепальную пророчицу найти не могут, а я могу! Вот они и хотят, как найду, меня погубить и истину себе присвоить. Хитрые!
Кажется, у блаженной была мания преследования, замешанная на сексуальной озабоченности, потому что она положила руку Стасу на бедро и начала потихоньку гладить.
— Траур у меня! — напомнил он строго и, отодвинувшись, достал трубку, хотя курить не хотел.
— Вы не знаете, в поселке можно работу найти? — вдруг спросила блаженная совершенно разумным голосом.
— Пророчицу уже искать не хочешь?
— Хочу! Но они по пятам за мной. А я приеду в поселок, устроюсь на работу, люди Кедра отстанут. Подумают, я отказалась от замыслов…
— Ты кто по профессии?
— Учитель младших классов… Только у меня паспорта нет, и вообще никаких документов.
— Сорокин отнял, чтоб не убегали?
— Нет… Сама предала огню, в момент имянаречения. Так положено, чтоб навсегда порвать с прежним миром.
Она не отрицала власть Сорокина!
— Это одно и то же, — заключил Рассохин. — В прежнем мире ты где жила?
— В Нижнем Новгороде. Но туда не хочу. Я умерла…
— Ладно, ты умерла, а родственники-то остались?
— Папа…
Рассохин достал телефон.
— Папе позвонить хочешь?
— Это возможно? — слегка встрепенулась Зарница.
— Говори номер. Ну? Представляешь, как он обрадуется?
Она медлила, раздумывала — была не готова, но причину нашла другую: иногда она проявляла чудеса рассудочности!
— В Нижнем сейчас два часа ночи. В доме престарелых режим…
— Отец в доме престарелых? При живой дочери?
— Так получилось. Квартиру пришлось продать…
— Знакомая история!
— Ничего ты не понимаешь!
— Тебе все равно придется воскреснуть, — вздохнул Стас, подавляя желание прочитать ей мораль. — Если ушла из общины. Как ты жить будешь? Где? На работу без документов не возьмут, а сразу заберут в милицию. Сейчас строго…
— Ты мне поможешь, — уверенно заявила блаженная. — Я же тебе нравлюсь? Как женщина?
— Поезжай домой, по месту прописки, там выправишь паспорт, — нарочито строго сказал он, — Подруги хоть остались?
— Нет.
— Всех поменяла на Сорокина?
— Это не твое дело, — грубовато сказала она и опять положила ладонь ему на колено.
— Но управляет общиной Сорокин? — Рассохин осторожно снял ее руку.
— Он проповедник и хороший, добрый человек. Все происходит не по его воле!
Хотела еще что-то сказать, но умолкла, прикусила язык.
— По чьей?
Зарница справилась с замешательством и решилась на исповедь:
— Матерая руководит общиной. И от нее исходит ложь! Но огнепальная пророчица не желает открывать ей путь. Учение рода Кедра принадлежит проповеднику. Только он допущен к радости слышать истины из уст самой пророчицы.
— То есть у вас идет борьба за власть? Или за влияние на умы?
— Вам смешно, — обиделась блаженная и добавила с пафосом: — А на наших глазах гибнет прекрасная идея. Пророчица открыла будущее устройство жизни человечества!
— И каково же оно, будущее?
— Общинная жизнь в лоне природы. Хочешь, расскажу?
— Да я представляю. И это уже было. Колхозы, например…
— Извратить можно любую идею!
Рассохину спорить с ней не хотелось.
— Ну и чем же ваша община занимается на Карагаче? — спросил он.
— Мы живем… жили под сенью Кедра, — не сразу призналась блаженная. — Священное дерево. И питались его плодами.
— По кедрам лазали, шишки били?
— Грех попирать ногами Древо Жизни, — нравоучительно проговорила блаженная. — Ветер сбивал только зрелое семя, и мы собирали… Нет, подумай, жизнь была полноценной, в гармонии с природой. Это очень стройная, логическая система. Существовать под сенью… Зачинать, рожать и умирать под Кедром. Сеять его по всей земле, взращивать и питаться от него, как делают это священные птицы кедровки. Сначала все это трудно для восприятия. Но когда проникнешься, вберешь в себя скрытый смысл и весь круг жизни превратится в обряд. Тогда снисходит благодать единения с природой.
— А под сенью другого дерева жить нельзя? — спросил Рассохин, стряхивая прилипчивое оцепенение, исходящее от ее голоса.
— Кедр — особое дерево, философское. И у него есть язык. То есть голос, манящий в иные миры.
— Что же ушла, если было хорошо?
— Матерая скрывает от нас истины огнепальной пророчицы! — заговорила она с безумным жаром. — Извращает их! Окружила себя свитой из трех отроков! Никого к ним не подпускает. И еще привезла недавно четвертого, Яросвета! Симпатичный такой, веселый… И тоже хочет взять в свиту! А мы понравились друг другу. Он сам это на кругу сказал! Он сказал — Зарница, избери меня! А Матерая сразу натравила на меня свиту! Те и рады стараться, чтоб позволила с собой совокупляться…
Рассохин потряс головой:
— Ничего не пойму! Матерая живет с ними как с мужьями?
— Мы живем общиной! А она нарушает устав!
— Теперь ясно, — умиротворенно проговорил он. — Матерая в каких отношениях с Сорокиным?
— Сорокин — проповедник. Он избран самой пророчицей! Чтобы записывать истины!
— То есть он как апостол?
— Напрасно смеешься, — вдруг вполне разумно проговорила отроковица. — Пророчицу искали многие, чтобы получить от нее знания. А она избрала себе единственного проповедника.
— А у пророчицы откуда знания?
— Она последняя женщина огнепального толка. У них наследство передается по женской линии. В юные годы пророчице было откровение — собрать всех отверженных женщин под сенью священного Кедра.
— Так вы отверженные?
— Были отверженными, стали счастливыми.
Рассохина подмывало съязвить, мол, ты от счастья в бега и подалась, но, помня ее обидчивость, промолчал.
— А ваша пророчица живет на Карагаче? — серьезно спросил он.
— В священной кедровой роще. Говорят, уже больше двухсот лет…
— Как же ей это удалось?
— Секрет в пищевом рационе.
— Что же она всю жизнь ела?
— Ядра кедрового ореха и пила лосиное молоко, — с удовольствием сообщила она. — Ты пробовал когда-нибудь эликсир молодости?
— Однажды все лето на нем и жил.
— Зачем ты опять смеешься? Думаешь, я больная, сумасшедшая? Да у меня другое сознание!
— Я понимаю, Зарница, — пошел на сделку Рассохин. — И говорю серьезно. Однажды погорельцы целое лето поили меня лосиным молоком.
Она не поверила и отвернувшись, долго смотрела на воду, видимо, раздумывая, стоит ли вести с ним подобные доверительные беседы.
— Ты знаешь огнепальных людей? — наконец спросила.
— Не знаю.
— А кто поил молоком?
— Это давно было, — отмахнулся Стас. — Я тогда заболел сильно… А ты сама-то пророчицу видела?
— Чтобы увидеть, надо избавиться от пороков прежней жизни.
— Неужели ты веришь, что человек может прожить двести лет? На орехе и молоке?
Блаженная смутилась, и это ее чувство вселило надежду, что рассудок к ней возвращается.
— Виною всему наши пороки. Которые в прошлой жизни таковыми даже не считаются…
— Какие, например?
— Сладострастие, жажда совокупления без задачи деторождения… Ну, ты меня понимаешь.
— То есть как у животных, раз в год?
— За мгновенное удовольствие мы теряем ровно месяц жизни. На что мы растрачиваем энергию? Человек духовно умирает от постоянного полового влечения и поиска сладострастия. Отсюда появляются маньяки, педофилы, гомосексуалисты… Если готовиться целый год к брачным играм, жить в чистоте дел и помыслов… То единственное совокупление приносит космическую радость! И зачатые под кедром дети рождаются гениальными…
— Значит, ты избавилась от пороков, коль поехала искать пророчицу?
— Целый год воздерживалась! — с гордостью сказала Зарница и тут же озлилась: — А меня лишили права зачать и родить!
— Это несправедливо, — заключил Рассохин. — Куда же Сорокин смотрит? Проповедник?
— Он далеко, а Матерая этим пользуется. И хочет его опорочить, придумывает всякие мерзости. Распространяет сплетни! Найду пророчицу — все ей скажу! И если она со мной заговорит! Откроет будущее!.. Но боюсь, она будет молчать. Она всегда молчит…
— Почему?
— Потому что дала обет молчания. И нарушила его всего один раз…
В этот момент они оба враз услышали гул лодочного мотора — кто-то спускался сверху.
— Это она! — определила блаженная дрогнувшим голосом и вскочила. — Меня ищет…
— Ну и что станем делать? — спросил Рассохин.
— Спрячемся! Только нужно сидеть тихо и не думать о ней. Вообще ни о чем не думать!
— Как это — не думать? Почему?
— Она слышит чужие мысли! И может внушать свои!
— Даже так? Любопытно, интересная особа…
— Вот так все отроки! — чуть не заплакала она. — Как увидят, так сразу интересная. И Яросвет тоже…
— Успокойся, у меня траур, — заверил Стас. — Я на женщин не смотрю, на что они мне?
На всякий случай он стащил свою лодку со спальником вниз, к пойме, чтобы было незаметно с реки, а изрезанную душегубку Зарницы скомкал, скрутил вместе с насосом-лягушкой, веслами и швырнул в водоворот. Потом выбрал место среди завалов коряжника, велел блаженной забраться и лежать тихо.
— Оружие у них есть? — спросил шепотом.
— Есть. — Отроковицу начинало колотить по мере того, как вой мотора приближался. — Только я не разбираюсь, ружья какие-то…
— А подумала бы — зачем, если они хотят вписаться в природу? Представляешь сохатого с ружьем?
— Наверное, для самообороны, — слабо попыталась оправдать она. — От тех, кто оскверняет места силы…
— Да они бандиты! — оборвал он. — Только прикрываются общиной! Сама говоришь — лгут и обманывают!
— Не смей так говорить!
— У них в заложниках мой человек, полковник милиции, между прочим. И что с ним сейчас, я не знаю. Голову ему уже задурили, а может, и убили…
— Они не убьют, они только испытают! Он станет надзирающим братом.
— То есть по профессии надзирателем, ментом?
— Мы должны охранять кедровники от китайцев! Рыбу и сохатых от местных браконьеров. Лес от пожаров… Мы все должны здесь охранять!
— Почему ты их все время оправдываешь? Они же преступники. Мошенники так уж точно. От Галицына требуют продать дачу… Потом они совершают насилие. Человек может погибнуть!
— Это испытание.
— Что они сделают с Яросветом? На жерди распнут по сибирскому обычаю? Голого на комарах привяжут? Или как тебя, в мыльный пузырь — и вниз по реке?
— Иначе не заставить переоценить ценности, — горячим шепотом заговорила отроковица. — У мужчин такая природа, физиология. Надо хоть раз в жизни дать возможность человеку остаться наедине с собой и крайней опасностью. Чтобы мог заглянуть за край, а потом испытывать наслаждение и счастье от маленьких радостей. Люди сами об этом догадываются и занимаются экстримом — смотрят фильмы ужасов… Но все извращенно!
От страха к Зарнице вернулся рассудок. Или Рассохин уже начал сходить с ума, ибо со всем, что сейчас сказала блаженная, он был согласен.
Лодочный мотор уже выл где-то за ближайшим поворотом, и отроковицу вновь заколотило.
— Тихо, все хорошо, — попытался привести ее в чувство. — Они проедут мимо, не бойся.
И пожалел об этом: блаженная вцепилась в его запястье, вонзив кошачьи грязные ногти, в глазах стояло абсолютное безумие. Он попробовал отнять руку и понял, что оставит часть кожи в ее когтях, а возможно, и мяса.
Тяжелый, мятый «Прогресс» выскочил из-за пихтового мыса и потянул к противоположному берегу — моторист отлично знал реку и резал углы, минуя фарватер. Свободной рукой Рассохин поднял бинокль — трое мужчин и женщина, группа в старом составе. Мужики в армейском камуфляже, а предводительница в черной блестящей коже, чем-то напоминающей издалека змеиную. На носу лодки лежал перевернутый вверх дном короткий долбленый облас,[34] видимо, чтобы проходить соры. Лодка вписалась в поворот, потянула за собой пенный кильватерный след, и он ощутил, как блаженная пришла в себя, выпустила запястье и облегченно перевела дух.
— Ты зачем меня поцарапала? — миролюбиво спросил Рассохин. — От страха, что ли?
— Нет, — сдержанно обронила она.
— А от чего?
— Чтобы самой не думать. И отвлечь тебя. Видишь, Матерая не услышала и проехала мимо. Мужчин от мыслей можно отвлечь только болью.
Вой мотора облетел речную меандру и сбавил обороты — вошли в протоку, ведущую к Красной Прорве. Через минуту и вовсе стало тихо, густое чернолесье поглощало всякие звуки. Похоже, кончился срок испытаний Скуратенко, поехали снимать с креста.
— Она владеет чародейством, — доверительно сообщила отроковица. — И чары свои направляет во зло.
— Понятно… А что за мужики с ней?
— Свита.
— Так у вас в общине матриархат?
Это была запретная тема, вероятно, поэтому она уклонилась от ответа.
— Женщины ближе к природе и космосу. Матриархат — естественное устройство жизни людей.
Рассохин нашел уязвимое место:
— И у вас не хватает мужчин? То есть отроков. Верно? Дефицит, причем значительный, как и везде. Ты не ужилась в женском коллективе и бежала…
Проблески некоего разумного практицизма у Зарницы чередовались с полным безумием, причем возникали внезапно, и Стас впрямь начинал верить в существование иного сознания.
— Поэтому не волнуйся, с твоим Яросветом ничего не случится, — отчеканила блаженная. — Да и он сам уже никуда не уйдет. Так на кругу сказал, по своей воле. После испытаний станет надзирающим братом. Редко кто на первом году получает высокое посвящение. От добра добра не ищут.
— Значит, Галицын попал в малинник?
— Он Матерой нужен, — с завистью произнесла она. — Она его сразу прибрала к рукам, принцесса заморская.
— Почему заморская?
— С проповедником из Канады приехала. Потом вздумала от него избавиться.
— Нерусская, что ли?
— Русская, из духоборов. Тех самых, что Лев Толстой в Канаду отправил.
Рассохин к своему стыду не знал, кто такие духоборы, коих отправлял в Канаду сам граф Толстой.
— А Скуратенко, значит, Матерой не нужен?
— Кто это?
— Моторист из Усть-Карагача. Которого на жерди распяли!
— Он тоже понравился хозяйке, я слышала. Сама сказала на кругу.
— За это и казнила?
— Ты не понимаешь! Это не казнь! Он станет… Как бы это сказать? Продолжателем рода Кедра. Если смирит нрав, пройдет испытания…
— Какое испытание придумали Галицыну? То есть Яросвету?
— Самое почетное. Осенью на поединок выйдет с богом леса.
— Да он что, Геракл, что ли, с богами сражаться? Ты хоть знаешь, кого здесь называют богом леса?
— Я еще не прошла посвящения. На кругу говорили…
— Не посвятили, так я посвящу. Бог леса — это сохатый, бык! И осенью у них начинается гон. Ты понимаешь, что может случиться?
Она понимала, однако же упрямо вымолвила:
— В свите с Матерой состоят лишь сильные духом отроки.
Переубеждать ее не имело смысла, поэтому Рассохин сказал со вздохом:
— Разочарую тебя, Зарница: Скуратенко испытаний не прошел. В больницу отвезли.
— Если Матерая его на жердь поставила, — уверенно сказала отроковица, — значит, видит в нем силу. Слабых иначе испытывают. Кто ей в руки попал, тот не уйдет. Они даже выкрасть могут.
— Ну и дела! — восхитился Стас. — Помню времена, когда на Карагаче женщин крали, отроковиц. Теперь все поменялось!.. А что, мужики к вам в общину сами не идут? Не хочется с лосями драться?
Блаженная взглянула с вызовом, должно быть, хотела сказать что-то резкое в отношении мужчин, однако не решилась.
— Хочешь влепить ей пощечину?
— Кому?
— Матерой, своей командирше!
— Что ты! Это невозможно!
— А если случай представится? И ты врежешь ей от души. Все сразу пройдет, самая лучшая реабилитация. Ты же хочешь выйти из-под ее чародейской власти?
— Хочу…
— Вот в этом я тебе помогу. Но ты должна помочь мне выручить из плена Галицына.
Блаженная подумала, в глазах блеснула надежда — и в тот же миг исчез разум.
— Мы выручим вместе, и я возьму Яросвета себе! Он такой симпатичный отрок! Я видела его обнаженным. Всех отроков видела, но этот лучше… У него брюшко отвисает, но это поправимо. На вегетарианском рационе он станет мускулистым и сильным.
— Где ты его видела? В бане?
— Нет, на кругу. Когда была релаксация. Мы лежали рядом. Потом я втирала масло в его тело.
— Вы что, голые на круг выходите? Ничего себе релаксация!
— Нагота — естественное состояние человека. Ты ведь страдаешь от того, что приходится одеваться? Все мешает…
— Не страдаю.
— Давай обрядимся в белые одежды? Пока Матерая не приехала? И ты узнаешь, как это прекрасно. У меня есть немного масла…
— У тебя с собой есть белые одежды?
— Ты не понимаешь! Надеть белые одежды — значит обнажиться!
— Комары сожрут! Погляди сколько!
— Да… У нас под сенью нет комаров. — Зарница мечтательно вздохнула. — Если отнимем Яросвета, ты отдашь его мне?
— Возьмешь, если захочет.
— Он захочет! Мы понравились друг другу! Мы уже с ним занимались тантрой. Это восхитительно! Отдашь?
— Укажешь, где ваша база, — отдам, — серьезно пообещал он. — Как называется место, где вы обитаете? Сколько вас там? Отроков, отроковиц… В общем, все по порядку.
— Место? — Ему уже казалось, она прикидывается дурочкой. — Какое место?
— Где находится ваша страна Амазония, — теряя терпение, произнес Рассохин. — Где вы на круг выходите.
И получил ответ, достойный партизанки:
— Не толкай меня на предательство! — Голос аж зазвенел. — Подставлять человека… Если даже ты боишься его и презираешь… В любом случае отвратительно! Пытать станешь — не скажу!
Стас махнул рукой.
— Hv, пытать я тебя не буду. Сейчас вернется Матерая — позову ее. И сдам тебя с потрохами! Думаю, она даже спасибо скажет, что вернул блудную дочь.
— Ты не посмеешь этого сделать! — взъелась блаженная. — Я женщина! Какая подлость!
— Будешь дергаться — свяжу!
Она замерла на мгновение, гневно глянула и опустила голову.
— За это я и ненавижу вас, мужчин! — выдавила сквозь зубы. — И если бы не зов природы…
— Где? — Рассохин навис над ней, изображая злодея.
Отроковица заслонилась рукой.
— В урочище Гнилая Прорва.
— Там поселок сгорел! Там негде жить!
— Мы в лагере живем.
— В каком лагере?
— На женской зоне, в бараках. На другом берегу от Гнилой.
Стас сел на бревно.
— Колыбель будущего человечества — в бараках…
— Все религии мира вышли из пещер, — парировала Зарница, явно повторяя чужие слова. — Не в условиях суть.
— Религия? Вот как…
— Придет время, и завещание пророчицы сбудется. Мы построим город Кедра…
— Если Матерая с Сорокиным не украдут ваши деньги!
У блаженной был позыв подтвердить это, но она отвернулась и пробубнила:
— Внутренние дела общины можно обсуждать только с посвященными.
— Ну и сколько вас там, отроковиц первозванных?
— Нас уже сорок, — похвасталась. — Без меня тридцать девять… И двенадцать отроков. Вернее, сейчас тринадцать…
— Галицын — тринадцатый отрок?
— А что? Это счастливое число.
Отроковица перестала скалиться, гримасничать, и Рассохин как-то уже подзабыл о ее блаженном состоянии, но она подсела сбоку, прильнула плечом и мечтательно напомнила:
— Вот если бы ты согласился пойти со мной! И мы вместе отыскали пророчицу, получили ее благословение…
Закончить эту фантазию не позволил взревевший на реке лодочный мотор. Стас запомнил когти Зарницы, загодя отпрянул от блаженной и погрозил — сиди тихо!
На ее лице отразился ужас.
— Замри и не думай! — просипела она, втискиваясь между лесин.
Матерая не могла найти своего подопытного и, скорее всего, поняла, что кто-то приезжал на Красную Прорву и его освободил — жердь с разрезанными веревками бросили неподалеку от стана, да и склон истоптали, пока тащили Скуратенко в лодку. Предугадать дальнейшее поведение было трудно: если Матерая чувствует здесь себя владычицей реки, то и в самом деле попытается вернуть несчастного моториста. Однако Рассохину как-то мало верилось в ее беспредельную власть и чародейские способности. Но через три минуты пришлось убедиться в обратном…
Лодка шла с какими-то остановками, будто мотор барахлил. И только когда «Прогресс» выплыл из-за поворота, стало ясно — они кого-то искали, тщательно осматривая через бинокли залитые берега. Эдакая пиратская команда — головы мужчин в камуфляжных банданах…
Рассохин отвлекся на мгновение — показалось, где-то застучали деревянные подошвы, и тут узрел, как рулевой сбавил обороты, резко переложил румпель и повернул в заводь, к острову.
Матерая указывала на него своим перстом…
Погорелец мог бы встать сейчас и уйти — Рассохин понимал, что ничего с ним сделать не сможет. Хотя еще недавно в нем кипела такая злоба на похитителей Жени Семеновой, что готов убить был, растерзать, ибо представлялись кержаки этого толка страшными злодеями. Но в этом ничего злодейского не было, правда, глаза лукавые, вероломные, все видят и отмечают.
— Говори, блудила с тобой отроковица или нет? — напирал он.
— Что значит — блудила? — тупо спросил Стас.
— Спала с тобой?
— Спала…
— Ладно, испытаем ее на блуд! — пообещал погорелец. — А ты что, паря, шатаешься?
— Не знаю… — и неожиданно пожаловался: — У меня ноги трясутся.
— Да ты захворал ведь! — догадался тот. — Распаленный весь, глаза кровяные, жар у тебя. В сей час сковырнешься с лесины, что я делать-то с тобой стану? Мне же эдакого сохатого не поднять.
— Ты погорелец? — хрипло спросил Стас.
— Ну, хочешь, дак погорелец. Раз винтовка моя у тебя…
— Как зовут?
— В самом-то деле огнепальный я…
— Имя, что ли, такое?
— Не. Именем я Христя… То бишь Христофор. У нас толк огнепальный, мы люди старого обряда.
Говорил, а сам рыскал глазами, оценивал, прикидывал, прибрасывал.
— Почему так называется?
— А потому как огнем нас спалили, обездолили.
— Кто?
— Анчихристы! Налетели зимой и всех дотла…
— Ладно, Христя… — у Рассохина все плыло перед глазами. — Покажешь, где твой Прокошка живет.
— Что не показать? — мгновенно согласился тот. — Покажу. Да ведь далековато будет, добредешь ли?
— Не твое дело.
— На что тебе племянник-то? Что надо, дак у меня спроси.
— Я хочу вернуть отроковицу!
— Ты-то, паря, хочешь, да кто же вернет? — изумился Христя. — У нас ведь невест не возвращают, коль добычей взяли. Ежели высватал да худого воспитания, тогда можно. Или ежели блудницей оказалась… Но мы ей испытание учиним!
— Вы ее украли!
— По-вашему — украли. А по-нашему дак добыли. Прокошке срок подошел, он с богом подрался и одолел.
— С каким богом?
— Да с лесным, с быком. То бишь с сохатым.
— Мне плевать, кого одолел твой Прокошка! — от бессилия закричал Стас. — Я должен вернуть Женю!
— Как же тебе — плевать? — на сей раз возмутился огнепальный. — Коль с богом силой потягался, жениться можно. Я вот с быком ешшо не могу сладить, дак мне и отроковицы не добыть пока. А он подрался и замолчал.
— Как замолчал?
— По обету. Теперь до смерти слова не скажет.
— Пошел ты… со своими обычаями! — из Рассохина посыпался мат. — По советским законам вы преступники!
— Мы ваших анчихристовых законов не признаем, — ничуть не смутился Христя. — По своему уставу живем. Вот ругаться, паря, грешно! А чужое брать и вовсе!
— Людей воровать не грешно, святоша хренов?!
— Мы невест добычей берем. Ты же мою винтовку скрал! И ей мне грозишь!
Препираться с ним не имело смысла, хуже того от его балагурства и нравоучений Стас ощущал, как мысли в гудящей и горячей голове становятся тягучими, липкими, как густая смола. Этот огнепальный хитрец попросту забалтывал его и наверняка рассчитывал удрать, усыпив бдительность.
— Расстреливать буду, — тупо произнес Рассохин и наставил штык. — Вставай, иди к дереву.
И уступил ему дорогу.
Христя не струсил — поверил, балансируя, пробежался по вершине валежины, остановился и всплеснул руками:
— Кто же тебя к Прокошке сведет? Коль стрелишь меня? Годи-ка, паря, а давай я сведу к племяннику, ты с ним побарахтаешься. И чья возьмет. Потом разойдемся?
— Не буду ни с кем барахтаться, — как-то по-мальчишески отпарировал Стас. — Моя отроковица!
— Отчего твоя? Ты за нее поратился, поборолся? А Прокопий с богом сходился! Потому и жену себе добыл.
— Да мне хоть с чертом! Женя приехала со мной!
— Не, паря, это не по уставу! Даже сохатые за невесту бьются!
— В гробу я видел твои уставы! — Рассохин наставил винтовку. — Становись к дереву! И говори, где берлога твоего племянника?
— Ты от болезни дурной стал, паря. — Христя побрел по валежине. — Отлежаться бы тебе, чтоб морок с головы изошел… Ежели обману?
— Штыком припру — не обманешь!
— Как искать-то станешь? С чужих слов да не бывал никогда…
— Твое логово нашел и его найду. Я места знаю.
— Ежели не скажу? — Он соскочил с колодины и встал к сосне.
— Пытать буду!
— Ох, Стас, — горестно вздохнул огнепальный. — Да сможешь ли пытать-то? Да так, чтоб я признался? Стерпит ли душа?
Рассохин точно помнил, что не представлялся погорельцу, имени своего не называл и был уверен, что остается неузнанным. Христя воспользовался его замешательством и закрепил успех.
— Да я все про тебя знаю, Рассоха. Лета два уж присматриваю. Это ты ведь жирный песок-то нашел по Зорной речке?
— По какой Зорной?
— По той, где ныне прииск поставили.
— Я нашел! Ну и что?
— А то, Стас. Захотел бы, дак давно вас всех истребил, как рябков. И Репу, начальника твоего, и Галю, и Муху. Все ваши прозвища знаю. А тебя бы — дак в первую очередь стрелил. Хотел однажды, когда ты первый раз на Зорную речку залез. Уж и целил, да рука не поднялась на безрогого… Это ведь ты жир нашел. И ныне бочку откопал, с книгами деда моего. Думаю, сейчас-то подымется — стрелю. Но Прокошка не дал. Довольно, говорит, отроковицу отыму. Книги себе возьмешь, пускай ни с чем останется. И то верно, ему в сей час не до душеполезного чтения, а я холостой, так мне любо… Сколько ты у меня, паря, на мушке был — не сосчитать… А я к тебе первый раз попал, так стреляй. Оно, когда первый, легко, ежели сердце в ярости. А во другой раз дак совсем легко стрелишь. Много ты, Стас, горя нам принес. Дурной народ на Карагач привел, начальников жиром заманил. Теперь наши становища позорят, уходить надо, не дожидаясь. Мое вот ты уже нарушил, корову испугал…
Рассохин сел на колодину и, не в силах более сдерживаться, закашлялся до рвоты и слез. Когда же угомонил судорожное сотрясение организма и проморгался, Христя уже сидел под сосной и взирал с состраданием. Рогатина по-прежнему была у него за спиной, а ведь мог бы снять и запороть, пока Стас заходился от кашля.
Значит, не лукавил, говоря, что рука не поднялась…
— Ух, паря, худо дело, — проговорил он. — Грудь застудил, скоро легкими харкать станешь. Так и помереть недолго.
— Не пугай, — прохрипел Стас и встал, опираясь на винтовку. — Жить хочешь — показывай, где Прокошка.
Огнепальный привстал.
— Я бы и показал, да мне тебя не унести, паря…
— Сам пойду! Веди!
— А что вести? — вдруг воскликнул Христя и, сдернув Шапку, поклонился в сторону. — Вон племянник мой сам пожаловал, с молодой женой… Христос воскресе!
Рассохин оглянулся, и верно — по валежине от болота шел детина саженного роста, с рыжей бородой, за спиной у него рогатина, а с ним — Женя Семенова. За руки держатся, и отроковица улыбается счастливо, глядит на Прокошку снизу вверх, глаз не сводит. И одета в то же, в чем похитили — итэровская штормовка и брезентовые брюки с карманами-сумками, на голове же шляпка накомарника, и сетка от него приспущена, как вуаль…
Невеста!
— Женя?! — крикнул Стас. — Я здесь, Женя!
Должно быть, Христя все так подстроил, чтобы они встретились с Прокошкой и побарахтались! Потому что стоит и хитро улыбается, мерзавец…
— Я за тобой пришел! — Рассохин шагнул ей навстречу.
Но Прокошка молча сорвал с себя рогатину и наставил ему в грудь. Жало широкое, заточенное, блестит.
— Мы отроковицу добыли, — вместо него сказал Христя. — Теперь она Прокошке жена!
Лезвие уже в кожу впилось, грудь ожгло — кержаки это называли «вживить рогатину». Они так медведя брали: не кололи его, а лишь под шкуру всаживали наконечник, вживляли, упирая древко в землю, и зверь сам запарывался, пытаясь лапой достать охотника. Это чтобы на душу греха не брать…
Прокошка вживил рогатину, подпер ею и ждет. Если Стасу дернуться вперед, к отроковице, то как раз пика будет в солнечном сплетении.
— Не смей и шагу ступить! — еще и предупредил Христя. — Запорешься — на нас греха нет!
— Пусть сама скажет! — крикнул Рассохин. — Скажи, Женя, ты чья?
— Прости меня, Стас, — сказала отроковица и глаза опустила. — Я нашла своего мужчину. Ты ласковый, хороший, но слишком юный!
И ее вид кающейся Афродиты его обезоружил.
— Но ты же мне обещала!
— А ты бы смог подраться с богом и победить? Вот Прокопий одолел быка и взял меня. С ним хорошо, он любит и молчит.
— Думаешь, я не могу? — взъярился Стас. — Я тоже могу сразиться с быком! Сейчас пойду и найду сохатого!
— Знаю, ты смелый и отважный мужчина. Но это невозможно.
— Почему?
— Сейчас весна, и звери пугливые. — Женя говорила так, словно утешала дитя. — Ты же знаешь, к сохатому даже близко не подойти. Но придет осень, и тогда они превратятся во всесильных богов леса! И в каждом движущимся предмете станут видеть соперника. Если хочешь, подожди до осени!
— Ты же мне обещала, — вспомнил Рассохин. — Мы уйдем в лес, там поставим палатку…
Отроковица к нему приблизилась, прикрыла рот ладонью и заговорила шепотом, чтобы избранник ее, погорелец, не слышал:
— Обещала… И непременно исполню. Прямо сейчас, хочешь? — вдруг сдернула штормовку и оказалась голой до пояса.
— Но нас же видят! — сдавленно прошептал Стас. — Нельзя!
Она прильнула к его спине грудью, как тогда, и задышала в ухо:
— Возьми меня! Ну, не бойся… И никого не стесняйся…
— Я так не хочу! Я хочу, чтобы в тайном месте… Чтоб наперекор судьбе…
— Ты трус! — Женя встала перед ним и стала снимать брюки. — Ты погорельцев боишься? Они отвернутся…
— Так нельзя, — пьяно проговорил он. — Ты блудница! Ты мерзкая тварь!
И вскинул винтовку.
Женя отступила и засмеялась высокомерно, а Прокошка замычал, словно бык, затряс бородой.
— И верно, блудница! — определил Христя. — Каких свет не видывал! Ни стыда, ни совести! Вот мы и испытали, напустили морок, она и открыла нутро.
— Зачем ты живешь? — прохрипел Стас. — Чтоб мужиков с ума сводить? Ты самая настоящая стерва!
— Стреляй ее, коль блудница, — возле уха шепнул огнепальный. — Или штыком пырни!
— Да ты не сможешь, Стас! — надменно произнесла отроковица. — Чтобы драться с богом, требуется мужество! А ты еще…
Рассохин нажал спусковой крючок, и ее отбросило выстрелом к валежине, а иначе бы сразу рухнула на землю. Тут же зацепилась раскинутыми руками, обвисла и стала медленно подламываться.
— Сейчас упаду… Поддержи меня!
Он рванулся вперед, и рогатина с хрустом вошла ему в грудь.
— Совсем и не больно! — сказал с радостью. — Как под наркозом… А тебе больно?
В это время Женю заслонил широкой спиной Прокошка — подхватил на руки и куда-то понес. А рядом со Стасом крутился Христя.
— Ей тоже не больно, — бормотал. — Мертвым не больно, паря.
— Зачем же я ее убил?..
— За измену, паря, за измену. По нашему уставу с блудницами так и поступают… Айда со мной. Стас.
— Куда?
— Как куда? Тебя же схоронить надобно. Не зверям же бросать на съеденье…
И стал спускать в могилу, без гроба, без домовины и почему-то стоя.
— Ты зачем меня так хоронишь? — спросил Стас.
Христе отчего-то весело было, кривлялся, подмигивал.
— По уставу положено, ногами вперед…
— А где отроковицу схоронят?
— Блудниц у нас в болоте топят…
Огнепальный спустил его в яму и там уложил на спину, руки на груди сложил.
— Ну, паря, спи спокойно! Я пошел.
— Погоди, мне здесь холодно, — слабо воспротивился Рассохин. — Ты бы хоть накрыл меня чем-нибудь.
— Землей закопаю, — откликнулся тот откуда-то сверху. — Согреешься…
И правда, на Рассохина посыпалась мягкая, теплая от солнца и легкая, словно сухой мох, земля. Она падала на тело, на лицо и ничуть не давила; напротив, сквозь нее можно было даже дышать и слышать — где-то на поверхности бесконечно чирикала ласточка. Под ее пение он и провалился в небытие и ничего больше не видел, не слышал и не ощущал.
Когда же очнулся, то почуял на своей голове горячую руку и, еще не подымая слипшихся от гноя век, узнал ее…
— Женя? — позвал он. — Это ты?
— Вот и очнулся, — проговорила она. — И узнал…
Отроковица сидела возле него, земли почему-то не было, и за ее плечом что-то светилось.
— Мы с тобой на том свете? — спросил Рассохин.
— На том, — отозвалась Женя и сняла руку со лба. — Ты помолчи пока, новопреставленный.
— Прости меня…
— И поделом мне, отрок. Добро, что ты меня убил, а не кто другой. Закрой глаза и спи, покойник.
Он послушно опустил веки и снова будто растворился в темноте. Времени он не ощущал, да и оно было ни к чему, поскольку мрак этот казался вечностью, а вечность не имела ни начала, ни конца.
В следующий раз он пришел в сознание от того, что ему в горло что-то вставляли, раздвинув зубы деревяшкой. У Стаса возник слабый рвотный позыв, и тут же послышался удовлетворенный голос:
— Добро, жить будет! Эвон, рыгнуть хочет… Терпи!
Стас открыл глаза и сначала увидел торчащую изо рта трубку с берестяной воронкой, потом смутные, старческие руки, которые что-то вливали из туеса. И лишь проморгавшись, различил дрябловатое лицо пожилой женщины, обрамленное черным платком.
Над ее плечом что-то светилось…
Старуха опорожнила туес и вынула трубку из горла Стаса, а потом разжала пальцами его зубы и убрала деревяшку. В пространстве без очертаний рядом с ней был кто-то еще, пока незримый, но осязаемый, ибо жесткие невидимые руки массировали ему ступни, терли, мяли, крутили пальцы.
— Гляди-ка, — сказала старуха, заглядывая ему в глаза. — Душа возвратилась.
Неведомый ее напарник поднес какой-то расплывчатый источник света, сам оставаясь в тени, и посветил в лицо.
— Глаза-то живые, — отозвался мужской голос. — Давай окурим.
И унес свет.
Осознание реальности было еще пунктирное, прерывистое, собственно, как и понятие времени. Рассохин в какой-то момент почуял запах приятного, чуть терпкого дыма, и первое, что вспомнил из прошлого, — школьный урок географии. Учительница имела мужской, хорошо поставленный голос и говорила, словно диктор на радио:
— Из Индии вывозили чай и благовония…
Ему тогда слово «благовония» показалось смешным из-за неприемлемого сочетания слов — «благо» и «вония», ибо, по его разумению, то, что воняло, не могло быть благим.
Стас сейчас это вспомнил и засмеялся, но не в голос — про себя: лицо еще не слушалось, не отзывалось на чувства.
— Ишь, улыбается, — одобрительно проговорила старуха. — Дыши, дыши глубже, дым-от полезный.
Он подышал и, наверное, уснул или впал в забытье на какое-то время, поскольку обстановка изменилась: дыма не было, зато поблизости оказался стол, на нем керосиновая лампа со стеклом и напротив друг друга сидели старуха и сивобородый лысый старик. Они что-то ели деревянными ложками, хлебая из одной миски.
— Где я? — спросил Рассохин.
Его услышали. Старуха развернулась к нему, заглянула в лицо. И на миг показалось — где-то видел ее, что-то знакомое в очертании овала, тяжеловатой нижней челюсти и строгости взора…
— На что знать-то тебе, где, — неласково заговорила она. — Очнулся, дак лежи.
— А где Женя?
— Какая Женя?
— Отроковица? Она же приходила сюда.
— Нету никакой Жени, — отрезала старуха. — Открывай рот, кормить стану.
И достала откуда-то знакомую уже трубку с воронкой.
— Я убил ее, — вспомнил Стас. — Я же выстрелил…
— Кого убил?
— Женю Семенову, отроковицу…
— Туда блуднице и дорога, — сердито отозвался старик. — И нечего жалеть, поправляться надо.
— Рот открой! — скомандовала старуха и добавила, обращаясь к старику: — Вроде не в себе парень…
— Я сам, — сказал Рассохин и попробовал поднять вялую руку. — Не толкайте в горло…
— Ладно, с ложечки накормлю. — Старуха взяла туесок. — Глотать-то сможешь?
Он с трудом проглотил первую ложку чего-то теплого и безвкусного, больше пролил себе на бороду. И тогда его приподняли и на что-то оперли спиной. Рассохин оглядел пространство и наконец-то сам догадался, где он — в землянке Христи!
Старуха поднесла ему другую ложку, и Стас увидел — молоко.
— А где Христя? — проглотив, спросил он. — Христофор?
— Какой Христофор? — спросил старик.
— Хозяин…
— Не знаем, где твой Христя, — буркнула старуха. — Хлебай давай. А то дудку вставлю!
— Не в себе, — согласился наконец-то старик.
Рассохин наловчился глотать и выпил полтуеса молока. Потом опять окуривали дымом, и он вспоминал смешное слово — благовония. Должно быть, в них было намешано снотворное, поскольку он как ни сопротивлялся, а уснул. Когда же пришел в себя, то обнаружил перед собой старуху, которая сдирала с его груди кожу — так почудилось спросонья.
— Зачем? — спросил с любопытством и увидел широкий и длинный, в четверть,[35] багровый рубец, наискось перечеркивающий грудь от солнечного сплетения до бока. Боли уже не было, рана зарастала, и он сразу вспомнил медвежью рогатину, на которой запоролся.
Старуха ничего не ответила, содрала с груди восковой лист, скомкала его и бросила в печь. Сама же достала новый, обильно смазала его тягучей, смолянистой жидкостью и прилепила на рану.
— Скоро уж на ногах будешь! — оценила она состояние. — А то лежал колодой…
— Это я на рогатину напоролся, — объяснил Стас. — Прокошка вживил…
— На какую рогатину? — удивленно спросил старик, появляясь из сумрака.
— На медвежью…
Они со старухой переглянулись и промолчали, но Рассохин заметил — что-то таили от него. Старик принес рубаху и кальсоны.
— Сам обрядишься? Или подсобить?
Упираясь руками, Рассохин сел и кое-как, однако же сам, оделся. После каждого окуривания и пробуждения он чувствовал себя заметно лучше, возвращались ощущения, улучшалось зрение, слух и восприятие действительности. Ноги и руки уже шевелились, хотя тело еще казалось невесомым и чужеватым.
— Как вас зовут? — спросил он старуху.
— Тебе на что?
— Я благодарен… Хотел бы знать, кому.
— Господа благодари, — увернулась она. — Нас нечего…
— Пора корову доить, — сказал невидимый старик. — Пойду, пожалуй…
— Кадило изготовь да ступай…
Стас наконец-то рассмотрел, чем его окуривают — пчеловодческим дымарем, предварительно насовав туда какой-то трухи напополам с зерном и гнилой древесиной. Старик разжег дымарь, поставил его на печь и сам удалился, прихватив берестяное ведро. Старуха раздула дымарь и дала в руки Рассохина.
— Давай сам фукай.
Он покачал мехом, наслаждаясь благовониями, хотел спросить, что, какие вещества издают столь приятный аромат, и не успел: хмель ударил в голову такой, словно натощак хватил стакан водки. Перед глазами все поплыло, закачалось, и осталось одно световое пятно — лампа на столе…
Ему показалось — он скоро протрезвел и очнулся, но похоже, миновало много времени, потому что прямо перед лицом оказалась круглая паучья сеть, подсвеченная крохотным огоньком. И где-то совсем рядом скворчала ласточка…
Он долго смотрел на паутину, рисунком напоминающую авиационный прицел, слушал пение и старался понять — как это птица залетела в землянку? И если она здесь, то почему нет ощущения ее присутствия — крылышками не трепыхнет, не перескочит?.. Потом скосил глаза на источник света, увидел на столе догорающую толстую свечу и понял, откуда доносится звук — из печки. В тот миг ему было очень важно понять, почему так, ведь ласточка не может петь в топке, среди угля и пепла? Логическая задача показалась неразрешимой, разум еще будто не проснулся — так бывает в детстве, когда сталкиваешься с чем-то необъяснимым и входишь в ступор.
Рассохин смел паутину и сел, свесив ноги.
— Эй, — окликнул негромко. — Есть кто?
Кроме птичьего пения — ни звука.
И вдруг он разгадал природу столь необычного явления: ласточкино гнездо было под щепой на трубе! То есть она сейчас сидит на краю пня и напевает! А звук летит по керамическим трубкам, усиливается за счет акустики и проникает в землянку!
Он облегченно перевел дух и стал озираться. Подкопченная и оттого поблескивающая бревенчатая крепь землянки отражала световые блики, добавляющие ощущение пустоты. Держась за нары, Рассохин встал и, к удивлению своему, обнаружил, что ноги держат и нет более ощущения невесомости. Он заглянул в открытый люк дровяника, затем принес свечу и посветил: показалось, от банной каменки еще струится тепло, а деревянная шайка мокрая, словно кто-то недавно мылся, и на полу сыро.
Так же со свечой он открыл низкую входную дверь — колодец пуст, над головой закрытый люк. Значит, старики куда-то ушли и скоро явятся… Вернувшись к столу, он увидел туес с молоком и большую лепешку — все было мягким и свежим. Испытывая голод и чувство благодарности к старикам, он сначала отпил половину и лишь после этого стал есть молоко с лепешкой. Вкус у нее был странный, не хлебный, однако приятный и даже аппетитный. В то время он даже не хотел гадать, кто его спасители и лекари; он воспринимал их, как в детстве воспринимают родителей — какие есть, такими и быть должны. После еды он лег на нары, вытянул натруженные ноги и расслабился, поджидая стариков и прислушиваясь к звукам. Спать больше не хотелось, поэтому, продолжая решать сложные психологические задачи, он попытался угадать, сколько же дней он провел в землянке, и вообще, что там, на земле?
Если поет ласточка, значит, еще сидит на яйцах. Или вывела птенцов? В любом случае еще только начало лета…
И вдруг сознание пробило током.
— Я же застрелил Женю Семенову!
Он слез с нар, приблизился к свету и оттопырил белую исподнюю рубаху на груди — шрам еще розовый, но ни коросты, ни струпьев…
— Погоди, — вслух сказал он. — Все-таки я убил Женю. А Прокошка меня запорол. Иначе откуда рана?..
Если есть рана, значит, был и выстрел.
И против этой логики он тогда не мог найти никаких доказательств.
Рассохин стал вспоминать все от момента, когда встретил Христю с винтовкой наперевес, и до своих похорон, выстроил все события в цепочку, восстановил мелкие детали… И не смог отделить яви от бреда, что было и чего не было. Тогда он пошел обратным маршрутом — от похорон к захвату огнепального хозяина землянки и опять не нашел шва, рубца, соединяющего быль и небыль.
Потом он встрепенулся, встал с нар и принялся обшаривать углы — искал свою одежду, полагая, что в ней окажется нечто, указывающее на истину. Его брюки, штормовка и толстый «водолазный» свитер были аккуратно, по-женски, сложены на лавке за столом, тут же стояли и сапоги. Стас тщательно все осмотрел, особенно переднюю часть одежды — ни пятнышка крови, ни тем более прорехи, оставленной на свитере навершием рогатины! Ладно, кровь могли застирать, но куда делась дыра? Толстая вязка совершенно целая, ни одна петелька не распустилась…
Тогда откуда рана?! Как образовалась, когда?! Вскрывали грудную клетку? Где и зачем? И почему нет следов от ниток? После операции аппендицита шьют, а тут полгрудной клетки разрезано и ни единого шва?
Если не было Прокошки с рогатиной, значит, и он не стрелял в Женю!
Нет, надо дождаться лекарей и спросить.
В карманах штормовки он нашел все свои вещи, в том числе и часы, которые давно остановились. Завел и, хоть нары ему опостылели, из-за низких потолков, где не распрямиться, пролежал еще около четырех часов, стараясь ни о чем больше не думать. Ласточка давно умолкла, послышалось завывание ветра в трубе — похоже, там, на поверхности была ночь, но старики так и не возвращались. Рассохин доел молоко с лепешкой, обрядился в свою одежду, вышел в колодец и приподнял головой люк — дохнуло прохладой и свет показался вечерним, сумеречным. Голова закружилась от свежего воздуха, и Стас не сразу смог откинуть крышку со шкурой, показалась тяжелой. И когда наконец откинул, с трудом выбрался по пояс, отдышался и лишь потом встал на колени и выполз из-под комля колодины…
Ветреное утро, зарево на востоке, вроде все по-летнему зелено, но воздух знобкий, или уж после землянки так кажется. Вдруг что-то ворохнулось на кромке болота, почудилось — люди идут, но оказалось, лосиха с двумя уже рослыми, матереющими сеголетками. Вошла на гриву и встала между сосен, шагах в десяти. Глядит на Стаса, сторожит уши, и телята совершенно не боятся…
Только сейчас в голову пришло — им же месяца по три-четыре, а видел совсем маленьких… Отметил это, но как-то еще не ощутил времени, к тому же не увидел иных примет осени, кругом одни сосны да стланниковый вереск.
Вероятно, лосиха пришла с ночной кормежки дневать на сухой бархан или ждала, когда подоят, выбрала место повыше и легла. Сеголетки[36] же перевалили на другую сторону гривы и скрылись в сосновом подросте.
Рассохин не хотел уходить, не увидев своих лекарей, да и вообще не думал, что станет делать дальше, к тому же еще и ноги подрагивали от напряжения, от резких движений возникала одышка. Сначала он долго бродил вдоль того места, где стрелял в Женю, искал след от пули. Он точно помнил, что отроковицу откинуло после выстрела на колодину, то есть в любом случае пуля из трехлинейки, да еще с близкого расстояния должна пройти навылет. И застрять в дереве. Из кавалерийского карабина сохатого пробивает насквозь, если у пули не сточить головку и не разрезать слегка оболочку; из такой же винтовки можно влегкую прострелить лезвие топора, мерзлую березу в обхват — сколько раз на охоте испытывали…
Расковырял подозрительное пятнышко и нашел пулевую пробоину. Сломил веточку, засунул в канал — на четверть входит.
Значит, стрелял, но куда делась прореха на свитере? Так искусно заштопали, что незаметно?
Он прогулялся по бору, чувствуя, как крепнут мышцы и разворачиваются легкие, потом решил сходить до своего дупла, где оставался рюкзак с продуктами, и когда его не обнаружил, думал вернуться назад, но тут узрел на далеком материковом берегу за болотом огненные осины и желтые березы — осень! Сентябрь!
Мысль эта почему-то его ужаснула, в первый миг сделала беспомощным, но потом подстегнула — неужели пролежал в подземелье все лето?! А что если он не стрелял, и Женю Семенову давно нашли? Ведь искали же профессионалы из органов, на самолетах, с десантом…
Нашли, и она сейчас в лагере полевого отряда на Зоревой!
Он запомнил настоящее название речки, если только это было не в бреду…
Немедля тем же утром Рассохин пошел к залому и первые километры еще прислушивался к себе, задирал рубаху и смотрел рану, не кровоточит ли, но организм, должно быть, уже переборол все болезни и движение доставляло радость. Неторопким шагом, с передышками он добрался к вечеру до залома и там распалил огромный костер, благо что лес за лето просыхал до звона и дров было навалом. Еще теплилась надежда — зарево увидят со стана и приедут на лодке, но кроме далекого лязга ковшей драги и гула дизелей, до самого рассвета не донеслось более ни звука.
На восходе он вышел в сторону лагеря и сразу же ощутил последствия вчерашней нагрузки — болели все мышцы, особенно икроножные, так что с ходу валежины не перешагнуть. Только через час кое-как размялся и к полудню прибрел на стан, где не оказалось ни единого человека, даже дежурного. Рассохин вскипятил чай, открыл банку сгущенки и устроился возле костра. Отряд на месторождении работал в стационарном режиме, если и были маршруты, то однодневные, так что к вечеру должны были собраться, но оказалось, геологи нынче жили кучеряво, на обед ходили в лагерь. Первым пришел геолог Галкин, видимо, дежурный по кухне, на Стаса глянул мельком и крикнул:
— Кузя, сходи за водой! — и полез в свою палатку.
Обознался, принял за техника Кузнецова…
— Где Женя Семенова? — спросил Рассохин.
Галя сдал назад, обернулся и, оступившись, рухнул с палаточного основания. Вскочил, помотал головой.
— Рассоха?!
— Отроковица нашлась?
На полусогнутых ногах Галкин приблизился к костру. И, словно опасаясь его, сел поодаль.
— Точно, Рассоха! Но тебя же убили? И эту, отроковицу!..
— Кто сказал?
— Майор прилетал, кагэбэшный…
— А как Женю убили? — после паузы спросил Стас. — Кто?
— Погорельцы!.. — Галя придвинулся поближе и оказался напротив. — Будто ты ее нашел и вы убегали вместе. Вас догнали и захватили… в общем, голых и сонных.
— Ты откуда узнал?
— Одного погорельца же поймали! Облаву устроили…
— Как зовут? Христофор?
— Не знаю, не говорили… Он потом слинял! Повезли показывать, где вас в болоте утопил. То есть тела… Водил, водил между урманами, а потом как сквозь землю провалился! Месяц искали, нас привлекали… А как ты выжил-то?
— Выжил, — обронил Рассохин, вдруг ощутив старую обиду.
Потом пришел Репа, тоже вроде обрадовался, но сразу же побежал на радиостанцию, докладывать начальству.
— Сейчас пригонят борт, — сообщил, когда вернулся. — Ну, рассказывай, где носило? Мы же тебя искали!
— Плохо искали…
— Рюкзак с тушенкой в дупле нашли!
— Я в километре от этого дупла был, — неохотно признался Стас. — Все лето…
Ладно врать-то! Мы там все излазили! Вид у тебя, конечно… одни кости! Болел, что ли?
— Болел.
— А сказали, вас обоих грохнули…
Репе что-то хотелось спросить, но при собрании всего отряда он не посмел, и лишь когда прилетел вертолет, под шум винтов вдруг признался:
— Последняя надежда была — вы вместе с отроковицей. Думал, может, отыскал ее и сбежали на пару…
В Усть-Карагачской районной больнице, куда его вывезли вертолетом из лагеря отряда, долго допытывались, кто делал ему операцию, где и в каких условиях. Обследование показало, что он болел тяжелейшей формой воспаления легких, после которой если и выживают, то становятся инвалидами. У Рассохина оказалась отсечена нижняя доля легкого, в которой уже начался некроз, причем так чисто, что не последовало никаких осложнений, обычных в этих случаях. Он рассказал врачам все как было, и что это рубец на груди не от операции, а от ранения медвежьей рогатиной. Доктора его выслушали, записали и вроде бы даже поверили. Но потом пришли из прокуратуры и сначала поинтересовались, где был все это время, просили указать место, и наконец спросили о Жене Семеновой. И он опять рассказал, как стрелял в отроковицу и как потом напоролся на рогатину, вживленную погорельцем Прокопием. Его признания записали и ушли, а Рассохин ощутил облегчение.
Спустя неделю следователь опять явился к нему и теперь уже уточнял подробности, рисовал схему, где кто стоял во время трагического происшествия, и стало ясно, что кто-то из отряда указал гриву в болотах, где находилось жилище огнепального Христи, и прокуратура там побывала. У Стаса взяли подписку о невыезде, и когда он выписался из больницы, то в ожидании своей участи некоторое время жил на квартире у старушки, которая и посоветовала ему помалкивать, говорить, что плохо помнит, в голове все перепуталось, в бреду был, а потом вовсе без сознания. Дескать, посадят в тюрьму ни за что, девица-то, может, и жива осталась, а тебе срок грозит по тяжелой статье. Народ в Усть-Карагаче жил бывалый, каторжный с давних времен, всему научат…
В то время Рассохин ничуть не сомневался, что стрелял в отроковицу, и самое главное, в душе до сих пор еще тлела обида и ревность, которые и подогревали убеждение. И еще заметил, чем чаще и подробнее он рассказывает об убийстве, тем более в него верит. Между тем следователь свозил его на место преступления — даже вертолет нашелся для этого, и Стас уже на месте показал, как все произошло, и землянку Христи указал, и дупло в колодине, где ночевал. Его бы, наверное, сразу посадили, но никак не могли найти трупа и поэтому держали под подпиской до середины ноября, пока не приехала Аня. Рассохин поведал ей о своих злоключениях, но однокурсница ни единому слову не поверила и уговорила его съездить в областной психоневрологический центр. Там Стаса выслушали, еще раз обследовали рентгеном грудную клетку и дали заключение, что вся история с убийством женщины и ранением рогатиной — больная фантазия, типичные галлюцинации, бред на фоне высокой температуры и сильных душевных переживаний. Посоветовали сменить обстановку, уехать куда-нибудь подальше и еще попробовать редкое тогда лечение гипнозом.
Рассохин бы еще тогда поверил врачам и самому себе и не жил бы с этой раной, но когда все обошлось, Аня призналась, что заплатила за экспертизу пять тысяч рублей — все, что заработала за три года на Вилюе, а тогда машина стоила четыре. А тогда она принесла справку в прокуратуру, дело прекратили за отсутствием события преступления и отпустили на все четыре стороны. Будущая жена обладала даром убеждения и вполне заменяла гипнотизера; они уехали на Вилюй, но еще около года ему снилась Женя Семенова, и он откровенно потом пересказывал свои сны Анне, которая была уверена, что на Стаса навели порчу. Наконец она договорилась с якутским шаманом, который поставил его вверх ногами и часа полтора прыгал вокруг, бил в бубен, изгонял злого духа, пока Рассохин не начал чихать, поскольку в нос заполз муравей…
Пока «Прогресс» чалился, борясь с водоворотом и тыкаясь между несомого рекой плавника, Рассохин успел сделать три звонка. Телефон в милиции ответил сразу, но дежурный не знал, где Гохман, всякие заявления по звонку принимать отказался, мол, приходите, подавайте в письменном виде, а с начальником отделения связать не захотел. И вообще страдал дефектом речи, и Стас из всего сказанного понял лишь половину. К домашнему телефону участкового подошла жена и сказала, что Фридрих собирался ехать с уголовным розыском и Кошкиным на Карагач, но сообщили, что к обеду должен приехать профессор Дворецкий из Ленинграда, поэтому сейчас где-то на берегу, готовит лодку большей грузоподъемности.
— Передайте, ко мне на остров пожаловали гости от Сорокина, — наказал Рассохин. — Трое вооруженных мужчин и женщина. Если что, ищите в женской зоне на Гнилой Прорве.
Подробнее объяснять не хватало времени, лодка уже стукалась о деревянный берег. Потом он набрал номер Бурнашева, который в это время ехал по родной земле блаженной — по Нижегородской области.
— Кажется, сейчас и я попаду в плен, — успел сказать он. — Запоминай: община на Гнилой Прорве. Сорок женщин и дюжина мужиков. Галицын среди них. Сами не суйтесь…
Кирилл, похоже, сразу не врубился в ситуацию, стал сыпать бестолковыми вопросами, но Рассохин сбросил звонок, стал набирать телефон Лизы — и не успел…
Пираты с карабинами уже поднимались на остров, за их спинами поблескивала змеиная кожа Матерой. Рассохин спрятал телефон в бейсболку, засунул между лесин, присыпал песком и пошел навстречу.
Оружия не наставляли, но держали в руках, и было заметно — свита у Матерой и впрямь из отроков бывалых и ловких.
— Чем обязан? — сухо спросил Стас.
Хозяйка Карагача выступила из-за спин, подбоченилась, слегка изогнувшись, и стало понятно, отчего скуповатый, расчетливый полковник потерял голову, Как и у всех красавиц, возраст растворялся в привлекательности: чуть раскосые по-восточному, однако голубые глаза, волнистые пепельные волосы наотлет, манящая улыбка в уголках губ, и еще что-то незримое, что так притягивает мужские взгляды. К тому же она знала себе цену и умела производить впечатление, не произнеся еще ни слова — вероятно, в этом и заключалось ее чародейство…
— У нас потерялась женщина, — проронила она обволакивающим, гипнотическим голосом. — По имени Зарница, лет сорока.
По-русски говорила с легким, даже приятным акцентом.
— Странное совпадение, — проговорил Стас. — А у нас мужчина, и тоже потерялся. Что бы это значило?
— Она здесь! — доложил один из свиты и достал оброненный за лесину накомарник.
Матерая взглянула мельком и вновь воззрилась на Рассохина.
— Отроковица не совсем здорова. Неадекватное поведение… Мы очень переживали… С ней все в порядке?
Говорила, а сама просвечивала взглядом, изучала и чего-то ждала — то ли признания, то ли хотела, чтоб он разговорился, дабы поймать его голос, как ловят причальный конец и потом подтягивают судно к берегу. Еще так делают цыганки: стоит с ними заговорить — и ты попал.
Рассохин это почувствовал и бросил односложно:
— С вашей пропажей все в порядке.
— Где она? Мы знаем, Зарница очень пуглива. У нее мания преследования, параноидальные идеи… Да, это шизофрения. Хотя в последние полгода ей стало лучше. Но временами на нее находит. Надеюсь, вы заметили отклонения? Например, сексуального характера?
Матерая точно хотела разговорить его, причем, слушая, Рассохин ловил себя на мысли, что эта обольстительная красавица, в общем-то, говорит правильные вещи и не так коварна и страшна, как ее намалевала блаженная.
— Да, заметил, — обронил он.
— Простите, она не предлагала вам… секс?
— Нет.
— Но наверное, говорила о пророчице? О том, что отправилась ее искать, чтобы получить некие истины?
— Да.
Свита расслабилась и по шажочку как-то незаметно рассредоточилась по островку — наверняка высматривали, где прячется блаженная. Матерая выбрала местечко и села на бревно, слегка вытянувшись.
— У нее навязчивый бред, — продолжала она плести липкую, как в бабье лето, паутину. — К сожалению, половина сестер общины приходят к нам в подобном состоянии. А бывает, еще и в худшем. Общество не желает с ними возиться. Отверженных прежде всего нужно выслушать, узнать, что они хотят. И тогда становится понятна природа их душевной неуравновешенности. Многие приходят в себя через пару месяцев. Зарница — случай сложный… Кстати, вас не удивило ее редкое имя?
Рассохин встал в глухую защиту, представляя, как насаживался на крючок словоохотливый и многоопытный опер Галицын — вряд ли выдержал минуту…
— Не удивило, — бросил он.
Его ответы будто бы не интересовали Матерую, либо она к ним была готова и без всякой реакции продолжала прясть словесную нить:
— Дважды была замужем. Детей нет, подруг нет, потому что они и увели обоих мужей… Человек остался один на белом свете, с комплексом нереализованной личности. И прежде всего — творческого и материнского начала. А это у женщин главная причина душевных расстройств… Потом начались увлечения мистикой, эзотерикой, всевозможными практиками… В общем-то, для нас известная история. Но природа лечит и эти недуги…
— Где Галицын? — негромко спросил Рассохин. — Или, по-вашему, Яросвет.
И в тот же миг узрел, как раскосые глаза женщины остановились. Но она настолько владела собой, что более ничем не выдала своей настороженности.
— На Гнилой Прорве, — не задумываясь, выдала Матерая то, чего он добивался от блаженной всю ночь. — У нас в общине. А вы Бурнашев?
Почему-то на Карагаче его все принимали за Бурнашева.
— Рассохин.
— Рассохин? Да-да, слышала. Вам должно быть сейчас больше пятидесяти? Ну, не скромничайте, вы мужчина, незачем скрывать возраст.
Полковник сдал его с потрохами, рассказал все, что знал о Стасе, и хорошо, что общались на чисто служебные темы…
— Нужно вернуть Галицына.
Она не услышала.
— Как вам удается сохранять молодость? Вы употребляете эликсир?
— Я спросил вас о Галицине, сударыня.
— Его никто насильно не удерживает. Но захочет ли он возвращаться?
— Я должен с ним поговорить.
Она отвечала мгновенно, не задумываясь, словно по заученной роли:
— Пожалуйста, можете поехать на Гнилую и встретиться.
— Зачем вы отняли телефон?
— Полковник бросил его в воду, чтобы порвать связь с миром. У нас никто не пользуется телефонами.
Надо было разрушать ее логику поведения, ломать домашние заготовки, а их у Матерой было полно — на все случаи жизни.
— За что распяли на жерди Скуратенко? — без всяких эмоций спросил Рассохин.
— Это мужчина, что был с Яросветом? — усмехнулась Матерая и поскрипела кожей, меняя положение. — Он пытался меня изнасиловать. Я неосмотрительно осталась с ним вдвоем… У меня есть свидетели, в том числе и наш Яросвет, который меня и спас от этого подонка. Как вы полагаете, насильник заслужил наказание? Или это слишком жестоко, и надо было отпустить с миром и в мир, с которым мы практически не контактируем? Он сам выбрал себе кару, согласился лучше на жердь, нежели в тюрьму. Потому, что уже бывал там и знает, что сотворяют с насильником. А у него сильное мужское начало. Сегодня мы заехали на Красную Прорву, чтобы освободить, но кто-то поспел раньше нас…
И многозначительно на него посмотрела, подчеркивая, что ей все известно.
Стас не сомневался, что жлобоватый моторист вполне мог покуситься на честь манящей красавицы, и одновременно не сомневался, что попытку насилия она спровоцировала сама, чтобы увезти с собой полковника.
— Чем же провинился Галицын? — спросил он, теряя наступательный пыл. — Коль готовите ему испытания?
Матерая неспешно поднялась, прогулялась по лесине, на которой сидела, словно по подиуму, и Рассохин узрел школу модельного мастерства.
— Кажется, я догадываюсь, что кроется за вашими вопросами. Зарница нафантазировала? Рассказала о предстоящем поединке с богом леса? Любопытная легенда, на Карагаче о ней вспоминают, впрочем, как и о толке огнепальных. Битва с быком во время гона! Должно быть, потрясающая картина. Вспоминают и пытаются убедить, что это было когда-то. Мне кажется, подобный бой невозможен в принципе. Как можно противостоять рассвирепевшему могучему и рогатому зверю? Поистине богу леса? Красивые сказки!
— Я слышу в вашем говоре акцент. — Стас попытался перевести разговор на ее жизнь. — Английский… Вы случайно не из Канады?
— Случайно да.
— А кто такие духоборы? Которых Толстой вывез из России?
— Русские люди, живут в англоязычной среде. Своеобразная культура, религия… Что еще интересует?
— Вы принадлежали к духоборам?
— Родилась и выросла в поселке голышей.
— Это кто же такие?
— Вы не слышали? Духоборческая община, не признающая одежд.
— Любопытно…
Договорить ему не дали, поскольку в это время свита отыскала блаженную, все трое сгрудились возле норы в завале коряжника и пробовали ее вытащить. Вероятно, отроковица отбивалась своими когтями, поскольку первый, сунувшийся к ней в убежище, выскочил с поцарапанным лицом.
— Братья, — заботливо предупредила Матерая, — только без грубостей, не делайте ей больно!.. Мы отвлеклись. Что еще вам поведала Зарница? Наверное, сказала, после такого гладиаторского боя я возьму Яросвета в свиту? Так? Если уцелеет? — Она задумчиво улыбнулась. — Зарница написала роман, но не женский, что сейчас пишут пенсионерки и домохозяйки. Это жесткая, мужская проза, драматический сюжет, суровые характеры, сильные, красивые люди… Видимо, она изложила вам кусочек ненаписанного текста. К сожалению, и с литературой у нее не получилось. Издатели печатать не захотели. И тогда она отправила отца в дом престарелых, продала квартиру и выпустила роман большим тиражом. А ее творчество оказалось невостребованным, общество жаждет мелодрамы со счастливым концом. Такие уж времена и нравы…
Рассохин слушал ее и испытывал предательские чувства — начинал верить всему, что она говорит. Хотя по опыту знал: правда — она всегда какая-то нескладная, нелогичная, иногда даже неказистая на вид, а правда Матерой была выверенная, обстоятельная, слишком убедительная, чтоб быть таковой.
Между тем хозяйка Карагача уже заплетала его в словесный кокон:
— Должно быть, и о Сорокине вам говорила? Какой он умный и добрый человек, называла проповедником, которому доверилась пророчица. Думаю, вы разумный человек и отделяете зерна от плевел. Сорокин нас оставил, можно сказать — поматросил и бросил… Да, Кедры Рода — это изначально его идея. Мы вместе с ним приехали из Канады и создали компанию по сбору дикорастущих продуктов леса. Орех, грибы, ягоды, мед… Поверьте, первоначальные замыслы были исключительно предпринимательского характера. Бизнес! Затраты минимальные, а прибыль более, чем от торговли нефтью. Особенно если наладить экспорт в Европу… Арендовали угодья, поставили оборудование для лущения кедрового ореха, маслобойку, купили пасеку и завели лосиную ферму. А работать некому. Ну кого и чем заманишь на Карагач? Тем более дешевую рабочую силу?.. Сорокин — человек изобретательный и талантливый. Он и сочинил легенду о пророчице, придумал все ее пророчества. Будто бы записал со слов и издал книгу. И сам не ожидал, что так получится. Просто хотел сделать рекламу кедровому ореху и маслу. Наладить сбор и производство, и главное, привлечь сезонных рабочих для сбора шишек, грибов и ягод… Немного пофантазировал на тему Древа Жизни, принципов общинности и прочее… И народ хлынул! Готов жить по заветам пророчицы и работать бесплатно. В основном это женщины, несчастные, отринутые миром, неустроенные. Зарница — типичный представитель. А Сорокин потом испугался, что обман раскроется и, по сути, бежал. Сидит где-то в Москве, но все, что есть, принадлежит ему. Мы отсылаем орех, масло, лосиное молоко, лишь немного оставляем для внутренних нужд. До сих пор не можем построить достойное жилье, купить технику… Так продолжаться не может. Яросвет оказался человеком благородным и вызвался помочь.
Рассохин сделал последнюю попытку переломить ситуацию, найти уязвимое место и прижучить Матерую.
— Взамен вы решили его ограбить? — спросил он.
И вновь глаза ее выдали.
— Что вы хотите сказать, Станислав Иванович?
— Галицын позвонил и распорядился продать имущество, а деньги перевести на ваш счет.
— Это ложь! — воскликнула Матерая. — Мы ничего не берем у своих братьев и сестер. Если он дал такие распоряжения, то по доброй воле, без всякого принуждения.
— Сюда едет его сын. — Стас попытался закрепить успех. — С ним обсудите этот вопрос. А еще скоро здесь будет милиция, уголовный розыск и ОМОН.
Матерая не зря носила свое имя и умела держать удар. Она грациозно спрыгнула с лесины, хотя сапожки ее были с каблуками, и приблизилась вплотную к Рассохину. Заговорила тихо, чтоб никто не слышал, и от этого страстно:
— Под сень Кедра приходят несчастные, убогие люди, выброшенные вашим миром. И это в основном ранимые, неприспособленные к жизни женщины. Потому что самое уязвимое в обществе, где довлеет мужчина, — женское начало. Они такие же гонимые, как кержаки, потому что ваш жестокий мир не терпит неудачниц, бессребрениц и романтиков. Вам требуются сексапильные, ухоженные красавицы, которых вы превращаете в рабынь. Бросаете их и ищете новых! Это вы творите из нас существ, торгующих своими прелестями. И вы же возмущаетесь при виде проституток на бордюре. Обездоленные вами рабыни потом приходят к нам. Да, мы играем в общину и живем по заповедям несуществующей пророчицы! Женщины верят, и я не позволю пошатнуть их веру. Они блаженны, но у них никогда не было бога. В монастыри, как прежде, им путь заказан. А на Карагаче они обретают покой, счастье и вновь учатся радоваться маленьким радостям. Они становятся матерями, рожают и воспитывают детей… Да, у нас нет вашего понятия семьи, чтобы исключить довлеющую роль мужчины! У нас выбирает женщина! И что теперь, господин Рассохин? Вы поведете на них ОМОН? Карателей?
Он уже не знал, что ей ответить, но положение спасла свита, все-таки извлекшая отроковицу из убежища. Блаженная почему-то закрывала лицо руками, будто плакала или не желала, чтобы ее видели. Матерая подбежала к ней, приобняла, словно ребенка, что-то зашептала. Та выслушала, согласно покивала головой и в сопровождении отроков пошла к лодке.
— К сожалению, мы не можем взять вас с собой, — сказала хозяйка Карагача. — Тем более с вещами. У нас лодка перегружена, а идти вверх. Но у вас же скоро будет транспорт? И надеюсь, вы посетите нас, чтобы увидеть все своими глазами. Только прошу — никакого насилия. Кстати, что передать Яросвету?
— Что хотите, — увернулся он от манящих глаз. — А приглашением я воспользуюсь.
Она легко сбежала на каблучках по нагромождению леса, свита помогла сесть в лодку. Через минуту воющий мотор унес Матерую за поворот, но в ушах Рассохина остался навязчивый, шепчущий голос. И он опять чувствовал измену своего сознания, ибо не мог не согласиться с тем, что она говорила. И как-то сразу определился с решением, что поедет на Гнилую Прорву один, без милиции, ну, или на пару с Бурнашевым, коли тот успеет добраться до Усть-Карагача. В самом деле, надо было разобраться, что это за такое явление — женская община отверженных: сборище умалишенных, реабилитационный центр, монастырь с неизвестной религией или лагерь рабынь сорокинского предприятия.
Оставшись в одиночестве на островке, он не испытал облегчения, потому как уже сложившееся мнение о том, что происходит на Карагаче, перевернулось с ног на голову. Соглашаясь с доводами Матерой, он чуял одновременно некий подвох: не могло быть все так гладко, все равно есть запашок мошенничества, надувательства, причем с использованием женских чар самой этой красавицы. Чего ради Галицын вздумает расстаться со своим многострадальным имуществом? Влюбился, жениться вздумал на Матерой и остаться на Карагаче? Немыслимо! Романтика и полковник — понятия несовместимые. Даже родной сын не поверил и помчался спасать сошедшего с ума папашу. Если бы Галицын воспылал чувствами, тогда скорее не его, а он бы выкрал Матерую и умчал в Москву. Для этого есть все — оперативный опыт, умение заболтать, расторопность и трезвый расчет. Похоже, полковник что-то на Карагаче нащупал — ох, не случайно он скрыл архивные материалы и поперся с ними в тайгу, не случайно спрятал их в тайнике лодки, чтобы не попали в чужие руки, и имитировал нападение, и лодку прострелил тоже с каким-то расчетом. Во всем чувствуется многоходовая комбинация, а полковник хвастал, что он специалист в этом деле, и жаловался, мол, его опыт стал никому не нужен…
А что если Галицын таким образом вызвал сына на Карагач? Позвонил, наплел три короба, зная, что отрок ни за что не позволит транжирить непосильным трудом нажитое и примчится вразумлять родителя. Возможно, разговор состоялся в присутствии Матерой. Вызвал же сына, чтобы совместно провернуть некую операцию, для чего внедрился в общину и скоро войдет в круг приближенных хозяйки. Может, они сговорились на пару освободиться от экономической власти Сорокина? Произвести что-то вроде рейдерского захвата, овладеть предприятием, что тоже весьма прибыльно, и, пожалуй, принесет больше дохода, чем призрачная авантюра с поиском кержацких кладов. Ведь Матерая сказала об этом практически открытым текстом…
Он откопал телефон и на сей раз сначала позвонил Бурнашеву.
— Отбой воздушной тревоги, — весело произнес Рассохин. — Все обернулось пока что благополучно. Я свободен, но женщина меня пленила!
— Слушай, ты сейчас говоришь, как Галицын в последний раз! — закричал Кирилл. — Вы что там, сразу становитесь восторженными идиотами? Может, и твою квартиру надо продавать?
— Погоди пока, — перебил его Рассохин. — Галицын-младший сейчас тебя слышит?
— Нет, мы на заправке. Тебе привет от Сашеньки!
— Ей тоже. Попробуй разговорить Ромку, выяснить, поддерживает ли он связь с отцом? Понимаешь, мне надо поймать одну даму на вранье. Она утверждает, наш полкан телефон утопил в реке.
— Поймать бабу на вранье — влегкую! Сейчас научу!
— Это не баба, это дама родом из Канады! И я тебе скажу — психолог суперкласса.
— Таких не бывает. Ты хоть там голову не теряй!
— Едва отбился от нее! Оказывается, тут такой клубничный малинник на Карагаче образовался… Галицын в него и угодил!
— Завидую!
— А ты знаешь, что такое тантрический секс? Пробовал?
— Да сколько угодно! Скажу тебе — это потрясающе… Ну, мы потом эту тему обсудим, Сашенька идет.
— И еще, Кирюх, позвони Колюжному. — Эмоции Бурнашева приходилось сдерживать. — Я экономлю батарею. Но чтоб Ромка не слышал. Пусть соберет всю информацию про бизнесмена Сорокина, бывшего канадца. Он торгует с Европой и, наверное, в их кругах известен. Кроме того, он книжку написал, откровения пророчицы, названия не знаю. Пусть прочитает, подвалит к нему, вроде как поклонник таланта. И выяснит, на самом деле существует такая пророчица на Карагаче или нет. Все запомнил?
— Ну тебя и занесло в сферы!..
— Приедешь — и тебя занесет.
— Я понял, экспедиция отменяется? На кой ляд я тогда оборудование тащу? Колюжного деньги потратили…
— Ты напрасно тащишь с собой жену.
— Ну, тут мне никак!
— Пока ничего не отменяется, — заверил Рассохин. — Архивные бумаги покажу, которые Галицын от нас скрыл. У меня подозрение — он ведет аж тройную игру.
— Ну я тебе подсуропил товарища…
— Теперь уже поздно раскаиваться. Мне не звони! Я сам тебя наберу.
Рассохин отключил связь и посмотрел уровень питания — осталась четверть зарядки. И все равно он набрал номер Лизы, однако домашний не отвечал, а мобильный оказался вне зоны. Еще раз звонить Гохману не имело смысла: скорее всего, участковый дождался Дворецкого и сейчас уже был на Карагаче.
Теперь можно было не прятаться, поэтому он распалил костер, согрел тушенки, первый раз за день поел и сразу ощутил, как поклонило в сон. Стас прилег на спальник — во второй половине дня солнце пригревало уже хорошо, долго слушал тишину, нарушаемую лишь звоном редкого гнуса, и показалось, только задремал на несколько минут. Но когда вскинул голову, уже вечерело и выдохся противомоскитный спрей: комары жрали нещадно лицо, руки и голову, прокусывая джинсовую бейсболку. Слух, ориентированный на звук лодочного мотора, улавливал лишь привычный шумовой фон, и то, что Гохмана до сих пор не было, встревожило Рассохина. Знает ведь, что на остров пожаловали люди, причастные к похищению полковника, жена наверняка сказала о звонке…
Рассохин вздул угли в кострище, набросал щепок и пошел было в пойменную часть островка, чтобы нарвать сухой травы и устроить дымокур от гнуса, и тут увидел облас, наполовину вытащенный из воды. Весло, котомка, сети, кержацкая рогатина с навершием, как у копья, а человека не видать…
Он сел поодаль на бревно, стал набивать трубку и вдруг услышал за спиной знакомый голос:
— Не меня ли поджидаешь, паря?
Стас медленно обернулся — точно, Христя! И вроде не постаревший: белесые патлы из-под шапки, рыжая борода веником, синяя рубаха-косоворотка, черная от смолы, брезентовая куртешка сверху. И трехлинейка в руках, поди, та самая…
— Христофор?!
— Признал, ну добро! — тот приставил винтовку к лесине и сел. — Хлебаю веслом, глядь, с соры-то дымок курится. Кого, думаю, занесло? Завернул на огонек…
И хитреца в голосе была до боли знакомая: Рассохин сразу же подумал — не случайно погорелец здесь оказался, кто-то ему сообщил. А кто еще, если не Матерая красавица!
Неужели у общины есть связь с огнепальными?..
— Да вот захотелось проехать по старым местам, — осторожно проговорил он. — Вспомнить молодость…
А сам так разволновался, что руки затряслись, и в голове один вопрос — зачем пожаловал?
— Здоровье-то как? — с намеком спросил Христя. — Не хвораешь?
— Благодарю.
— Вид у тебя здоровый, моложавый…
В первый же день, когда в Усть-Карагач приехала Аня, они пошли бродить по поселку и случайно оказались на улице имени Раи Березовской. Рассохин сто раз видел ее изваяние, но тут взглянул и на минуту остолбенел.
Вот на кого походила старуха, что более трех месяцев лечила его в землянке Христофора! Точная копия!
Долго разглядывал гипсовую крашенную скульптуру комсомольской вожачки в анфас, в профиль, слушал недоуменные и ревнивые вопросы Ани и лишь более убеждался в мысли, кто спас его от смерти.
Сейчас, увидев Христофора, Рассохин вспомнил это и спросил, как зовут ту старуху, что выхаживала его в землянке. Огнепальный изобразил недоумение:
— Откуда знать-то, паря? Проходили мимо какие-то странники, позвал. Ты уж и не дышал тогда…
— Раиса Березовская? — подсказал он.
— Может, и Раиса, не знаю, паря.
Стас понял — спрашивать сейчас о Жене Семеновой вот так сразу, в лоб, бессмысленно. Впрочем, как и обо всем остальном — например, о Сорокине, о женской общине на Гнилой, о пророчице. Разве что сам разговорится и упомянет, поэтому лучше молчать — пусть проявляет инициативу, коль сам заявился. Что-то ведь выпытать хочет. К тому же, если его послала сюда Матерая, что маловероятно, но возможно, то он такого наплетет — распутывать замучаешься.
Рассохин неспеша набил трубку, достал спички.
— Табак куришь, значит, и впрямь здоровый, — кряхтя, заметил Христя. — А я по весне голову застудил, до сей поры маюсь.
— И полечить некому?
— Дак знающих людей не осталось. Старые поумирали, молодые беса тешат приговорками. Сказывают, есть ешшо бабка, в горах живет, но огнепальных не принимает, отступники, мол, душу анчихристу продали. Не жалует…
— Много ли ваших по Карагачу осталось? — как бы невзначай спросил Стас.
— Маленько есть. А что, тянет тебя на Карагач?
— Тянет, — сдержанно признался Рассохин.
— Оно всегда так…
— Нынче у вас тут благодать наступила. Даже невест красть не надо. Вон их сколько на Гнилой.
— Это верно, паря. Нынче отроков добычей берут. Все навыворот пошло…
— Ты-то добыл себе жену?
— А то как же! — Христофор стриганул лукавым глазом и говорить на эту тему не захотел. — Ты по какой надобности-то приехал ныне? Заделье какое на Карагаче нашел? Может, снова жиру пошукать? Или от душевной истомы?
— От истомы, Христофор…
— А я слыхал, клады копать собрался?
Такого вопроса Рассохин не ожидал и сразу не нашелся что ответить.
— Откуда слыхал-то? — спросил будто бы нехотя.
— Дак по реке-то далеко разносится… Ежели тебе места указать надобно, так я возьмусь. Знаю, где станы стояли, скиты, обители…
Столь внезапное предложение, прозвучавшее из уст огнепального, повергло Рассохина в немой шок. Действительно — все навыворот! Или он — добрый ангел Карагача, приходящий на помощь в самых трудных ситуациях, и одновременно дьявол, ибо участвовал в похищении Жени Семеновой…
— Ладно, Христофор, я подумаю, — не сразу и уклончиво сказал он. — Где тебя найти, если что?
— Будешь на Гнилой, так привяжи, — и оторвал от подола рубахи ленту. — На куст где-нито. Я тебя сам сыщу.
— С чего ты взял, что буду на Гнилой?
— Как не быть, раз карася икряного туда увезли?
— Какого еще карася?
— Мужика с пузом. Веселый такой…
— Ты его видел?
— Не, люди сказали. — Христя взял винтовку и направился к обласу.
— Где Женя Семенова? — в спину ему спросил Рассохин.
— Кто?
— Отроковица, которую вы с племянником похитили?
Он обернулся, пощупал свою голову и болезненно поморщился.
— Вон что ты вспомнил, паря… Разве не знаешь, где? Не ведаешь, отчего тебя на Карагач тянет?
— Нет…
— Дак застрелил же ты блудницу, паря. Или позабыл?
Огнепальный столкнул долбленку на воду, сел в корму, скрестив по-турецки ноги. Рассохин машинально подошел к кромке берега.
— Не может быть! Ты врешь!
— На моих глазах и кончил. — Христя оттолкнулся от берега. — И свидетелей не надо… Мы с Прокошкой в болоте ее утопили. Да и поделом ей!
Развернул облас на месте и погреб в темнеющий редкий кустарник…
ОМОН Гохману не дали, впрочем, как и вертолет. Техническое оснащение составлял еще один мотор, взятый в МЧС вместе с мотористом, а живую силу — оперуполномоченный капитан Рябыш, следователь прокуратуры Кошкин и при них милицейский сержант. Сотрудники приехали на казенной лодке и причалились первыми, причем довольно ловко десантировались с автоматами наперевес, верно, рассчитывали захватить Матерую со свитой, и сразу посыпались вопросы — где, кто, когда? Рассохин их угомонил, вкратце объяснив, что гости отбыли еще вчера и никакого вреда ему не нанесли.
Тем часом участковый с двумя пассажирами барражировал по заводи и причалил, когда ему помахали. В лодке оказался профессор Дворецкий, грузный, короткорукий человек с седыми космами, и еще один, поменьше, с головой завернутый от холодного утреннего ветра в офицерскую плащ-накидку. Когда все уже были на берегу и разминали ноги, этот в плаще остался в лодке, а Дворецкий чинно представился и пошел в атаку.
— На каком основании вы здесь находитесь? — сразу же наехал он неожиданно высоким, женским голосом. — Я уполномочен Академией наук и лично губернатором области контролировать этот район.
— На основании конституции, — отпарировал Рассохин, — статьи о свободе передвижения.
— Вы проводите здесь поисковые работы и раскопки!
— Я сижу на острове, как Робинзон. И у меня нет даже лопаты.
— Прошу предъявить Открытый лист! — потребовал профессор. — В присутствии работника прокуратуры!
Сотрудники отчего-то переглядывались и улыбались, не проявляя никакого рвения в службе.
— Ему проще дать, чем отказать, — шепотом, на ухо, посоветовал Гохман. — Он нас по дороге примучил…
Рассохин вынул из рюкзака папку с документами, отыскал среди бумаг заблаговременно изготовленную копию письма Минкульта и торжественно вручил Дворецкому. Тот полез по карманам искать очки, и показалось, сейчас достанет пенсне, однако он вынул толстенные окуляры на резинке, повесил их на породистый нос и принялся читать. Комары садились на лицо и руки — он машинально отмахивался и тщательно изучал текст. Гохман тем временем развел костер, сотрудники сели к огню, и тут Кошкин спохватился:
— Что же мы барышню в лодке оставили?
Стас вмиг забыл о Дворецком и бумагах — неужели?! На правах хозяина острова он сбежал к лодкам и увидел Лизу. Она показывала знак — молчи, и когда подал ей руку, помогая ступить на землю, прошептала:
— Мы не знакомы! Иначе вся конспирация к черту…
— Тогда давайте знакомиться, — громко сказал он. — Стас Рассохин.
— Елизавета!
Не выпуская ее руки, Рассохин привел Лизу к костру и усадил на лесину.
— Сейчас будем пить чай, — произнес ворчливо. — Чья идея взять сюда женщину?
— Профессор привез из Питера, — отозвался Кошкин так, словно Лизы тут не было. — Журналистка…
Дворецкий все еще читал бумагу. Рассохин незаметно переглянулся с Лизой.
— Он что, без сопровождения не может?
— Распоряжение губернатора, — вздохнул следователь. — Место здесь неуютное, переехать бы куда-нибудь в бор, на высокий бережок…
— Сейчас там клещей туча, — заметил опер Рябыш. — И змей. А здесь нет, и гнус сдувает.
С заговорщицким видом Кошкин знаком отозвал Рассохина к прижиму, хотел чем-то удивить, но в последний миг смешался.
— Вот что, Станислав Иванович… Я перед отъездом сюда в наш архив заглянул. Слухи были разные… Что это за история была у вас лет тридцать назад? Здесь, на Карагаче, когда геологом работали? Будто вы сами на себя донесли…
— Я писал явку с повинной, — сухо отозвался он.
— До конца дела не читал, это ж вот такой кирпич… Прекратили за отсутствием события преступления… Простите, очень любопытный факт. Не установлено ни одного свидетеля, доказательства, а вы настаивали… Неужели и сейчас думаете?..
— Думаю, — перебил он. — И уверен.
— Юридический казус!
— Жить с этим казусом становится тошно, — признался Рассохин.
— Я не хотел вас расстраивать, — торопливо зачастил Кошкин, — из чистого профессионального интереса спросил. Никогда не думал, что с вами судьба сведет… Ну, добро, рассказывайте, что тут приключилось. Да определимся, как будем действовать.
Рассохин не успел рта раскрыть, как вмешался профессор.
— Насколько мне известно, — тоном начальника начал он, бесцеремонно втиснувшись между ними, — вы, господин Рассохин, доктор геологических наук?
— Геолого-минералогических, — поправил он.
— Что станет, если я, профессор языкознания, начну заниматься вашей наукой? Вы знакомы с творчеством Крылова и его сентенцией по поводу сапожника и пирожника?
Сотрудники взирали на ученых мужей с неприкрытыми ухмылками, но не перебивали, должно быть, из уважения к распоряжению самого губернатора, но скорее, напротив, полного пренебрежения к нему, мол, делайте что хотите.
— Кто вам раньше запрещал заниматься этой темой? — спросил Стас. — Почему вы спохватились, когда я написал записку в министерство? Ни раньше, ни позже…
— Этой темой я занимаюсь всю жизнь! — воскликнул Дворецкий. — У меня десяток научных работ, между прочим!
— Читал, читал. Да надо было не писать, а копать. Еще лет тридцать назад…
— Власти не позволяли! Вся информация о сселении старообрядцев Карагача была закрыта. Коммунисты прятали свои преступления!
— Вы же знаете, — поддержала его Лиза, — в тридцатом году по Карагачу прошел карательный отряд. Под видом борьбы с остатками колчаковских банд.
— Ну а когда информацию раскрыли? — Рассохин старался говорить мирно, и это оказывало обратное действие — профессор распалялся. — Что вам мешало?
— При демократах не стало денег! У них ни на что нет денег! Все воруют!.. А потом в академию пришли случайные, непрофессиональные люди. Нувориши!
— Версии Михаила Михайловича никто не верил, — вставила опять Лиза тоном адвоката. — Было убеждение, староверы не закапывают книги и иконы. Считалось страшным грехом…
— А мне поверили, — сказал ей Рассохин. — Я нашел деньги, снарядил экспедицию, получил разрешение в министерстве…
— Это не разрешение! — Дворецкий потряс бумагой. — Простите, это филькина грамота! Прошу вас, товарищ Кошкин! Прочитайте и оцените как правовед!
Следователь взял письмо, пробежал профессиональным взглядом текст, на чем-то сосредоточился и наконец пожал плечами.
— Имеет все основания считаться юридическим документом, — хитромудро проговорил он, — то есть разрешением на производство исследовательских и поисковых работ.
— Откуда вы взяли? — вскипел профессор. — На производство раскопок необходимо совсем другое разрешение!
— Почему? — возразил Кошкин. — Пожалуйста, зачитываю: «разрешается обследование и изучение бывших поселений старообрядцев по бассейну реки Карагач, а также поиск и сбор археографического материала, предметов старины, памятников истории и культуры»… Ну, и так далее.
— А где слово — раскопки?!
— Достаточно слов «поиск и сбор», — отпарировал следователь, явно издеваясь. — А искать можно в земле, в воде и даже в воздухе!
— Я запрещаю любые работы на Карагаче! — рубанул Дворецкий. — Сегодня же доложу губернатору и в Академию наук. И пока не получу подтверждения ваших полномочий, господин Рассохин, копать не позволю! Заявляю в присутствии представителей власти!
Он бы еще кричал и топал ногами, но положение спасла Лиза. Она подхватила профессора под руку, отвела в сторону и что-то ему зашептала. На удивление тот послушно покивал головой, затем так же беспрекословно пошел за ней к кедру, на котором всю ночь просидел Рассохин.
— Дорогой уговаривал арестовать вас, — поделился секретами Кошкин. — Хорошо, что журналистка при нем. Сейчас обломает… Ну давайте по порядку: кто на вас тут напал?
Пока Стас рассказывал о блаженной и последующем нашествии Матерой со свитой, Дворецкий с Лизой сидели над бурным прижимом и о чем-то разговаривали. О том, что остров посетил еще один человек — огнепальный Христофор, — он промолчал. Сотрудники хоть и слушали с интересом, но закончилось все полным скепсисом.
— Они второй год в оперативной разработке, — без энтузиазма сказал опер Рябыш. — Информация нам поступает. И канадскую красавицу эту знаем, Сысоева Евдокия, а проще говоря — Матерая Дуся. Ничего криминального там не происходит. Ну, живут, работают, чудачат люди. Приезжают, уезжают… Это же не гастарбайтеры, все граждане России.
— Ты что, паспорта проверял? — ухмыльнулся следователь.
— Паспортов у них, возможно, и нет, — вставил Рассохин. — Сжигают при имянаречении. Возможно, Галицын даже свой спалил. Его теперь зовут Яросвет.
— Что не дурно, то потешно, — хмыкнул Рябыш. — Дети, честное слово, в индейцев играют.
— И правда, на что в тайге паспорт? — сам у себя спросил Кошкин. — Медведю показывать?
— У налоговой претензии были к Сорокину, — вспомнил опер. — Так пусть сами разбираются… В общем, зря вы тревогу подняли.
— А как же полковник? — спросил Рассохин. — Странный звонок по поводу имущества?
— Он дееспособный гражданин, — начал было опер, но Кошкин перебил:
— Все надо проверять! Почему лодка прострелена? Кто Скуратенко на жердь поставил? И мошенничество не исключено. Кстати, отсутствие паспортов — формальная причина для задержания до выяснения личности.
— Ну, задержишь, и что? Представляешь — сорок баб? И все с гонором. Тут столько визгу будет! Цыганский табор, рота ОМОНа не справится… Ты как хочешь, а я пас.
— Сорок бывших проституток — это серьезно…
— Кстати, Скуратенко писать заяву отказался, — напомнил Рябыш. — Что еще раз доказывает — у него рыло в пуху. Попытка изнасилования — тяжкое преступление…
— И красавица эта вряд ли напишет, — заметил следователь. — Но мы должны реагировать… Кстати, Гохман, Карагач — это твоя земля?
— Формально моя, — откликнулся тот. — Только на чем обслуживать? Пешком?
— Да, люди живут, бесплатно работают, семей нет, а детей рожают, — продолжал Кошкин. — Явное многоженство, и как будто государства не существует, сами по себе. Ребятишки у них хоть зарегистрированы в ЗАГСе?
— Откуда? — терял надежду на успех опер. — Самосев… Ну, выпишешь ты родителям предписание, и что? И еще их сыскать надо, этих родителей. Там коммуна… В общем, дохлое это дело, господа присяжные. Считаю, надо с полковником этим потолковать и сваливать. Ну, кто желающий на Гнилую Прорву? В гости к отроковицам?
— Поеду я, — заявил Рассохин. — Тем более Матерая приглашала. И потом, мне легче говорить с Галицыным.
Следователь поморщился.
— Не думаю. Менты хорошо разговаривают с прокуратурой. Полковник же московский, тоже с гонором…
— Напугаете женщин…
Рябыш натуженно рассмеялся.
— Этих не напугаешь! Там треть — проститутки на пенсии, еще треть — бывшие наркоманки… Информация к нам доходит.
— А еще треть?
— Чокнутые, повернутые… В общем, сброд.
— Все-таки ехать должен я, — надавил Стас. — Можно вдвоем, но с нейтральным человеком. Например, с журналисткой, раз уж взяли на корабль…
— Это разумно, — одобрил Кошкин. — Однако двоих отправлять опасно. Может, они вас заманивают? Поедут еще Рябыш и Гохман. Неподалеку от Гнилой ссадите, пусть топают берегом.
Рассохин отрицательно помотал головой:
— Берегом они не пройдут. А потом, на Карагаче всюду глаза и уши. Отъехать не успеем, скажут: Рассохин везет ОМОН, карателей. И уведут нашего полковника в какой-нибудь тайный схорон, и ищи-свищи.
— Я могу спрятаться, — предложил участковый. — В носовом отсеке. А что? Хода часов семь, всяко пролежу. Заодно и высплюсь.
Опер со следователем переглянулись: замысел понравился, возможно, еще и потому, что у них в лодке лежали наплавные сети — ловушки для нельмы, пустая бочка и соль, а здесь, в местах глухих и необловленных, куда давно не ступала нога рыбнадзора и браконьеров, можно рыбачить в свое удовольствие.
— Поеду вдвоем с журналисткой, — заявил Рассохин. — Засадный полк мне не нужен.
— Я бы с такой попутчицей тоже прокатился вдвоем, — шутливо позавидовал Рябыш.
— А если с журналисткой увяжется дед? — предположил Кошкин. — Хрен знает, какие у них отношения…
Опер ухмыльнулся:
— Профессора я возьму на себя. Он специалист по литературе, так пусть книжки читает и в оперативные дела не влазит, дедушка Крылов. Уху будет варить, Демьянову… Ладно, мы все-таки поднимемся до Репнинской Соры. Оттуда до Гнилой доскочить — час хода. И речка там есть, нельма на икромет заходит… Но если встретитесь с Галицыным и он не захочет возвращаться, расписку с него возьмите. Что находится в сорокинских владениях по доброй воле и претензий не имеет.
Дворецкий был легок на помине, шагая по-утиному, вразвалку, он приблизился к Рассохину и неожиданно сменил тон:
— Станислав Иванович… Позвольте вас отвлечь на четверть часа. Простите, господа… Для уединенного, так сказать, разговора.
Лиза осталась над бурлящей водой прижима — похоже, ей удалось сломить упрямство профессора. Рассохин молча пошел на дальний конец островка, мысом уходящего в залитую пойму, хотя вести здесь тайные переговоры, пожалуй, было невозможно: даже шепот слышно во всех уголках пятачка, вода отражает звук.
Дворецкий поозирался назад — головы сотрудников торчали над деревянным хламом, — и заговорил полушепотом:
— Извините, Станислав Иванович, я погорячился относительно вас и ваших способностей. Подверг сомнению опыт… Как технический исполнитель проекта вы просто на высоте! Нашли деньги, организовали экспедицию, привлекли людей и даже получили… хоть и не установленной формы, но разрешение… Я хотел бы предложить вам, так сказать, консенсус и себя в качестве научного руководителя экспедиции. Если возможно… Я был бы вам весьма полезен!
— Это вам спутница подсказала? — напрямую спросил Рассохин.
— Да, Елизавета Максимовна. Скажу вам, женская рассудительность и интуиция иногда бывают приемлемыми и продуктивными. Признаюсь честно, она мне очень нравится. И как женщина тоже.
По природе он был типичный подкаблучник, о чем Лиза знала и умело использовала в своих целях.
— В чем суть консенсуса? Например, я вам уступаю и приглашаю к сотрудничеству. А вы что в свою очередь?
— Я не стану протестовать против раскопок!
— Этого слишком мало, профессор.
— Если это возможно, то научное руководство! — Его было слышно, пожалуй, уже на другом берегу. — Я обладаю ценнейшей информацией. Четверть века собирал ее по крупицам, выуживал из контекста архивных документов. У меня есть оригинальная разработанная концепция относительно… скажем так — некоторых аспектов существования мировых и древнерусских литературно-исторических памятников.
Он явно мудрил и под нагромождением слов скрывал что-то.
— То есть вы готовы поделиться аспектами?
— В определенной степени — да!
— Почему вашу концепцию не признают в Академии наук?
— А они там не признают ничего нового! Самая закостенелая организация в науке — многоуважаемая академия! Она сейчас самый мощный тормоз развития. — Профессор перешел на шепот. — Подозреваю, это творится с умыслом. Да! И чувствуются политические мотивы, но далеко не научные! Особенно в области исторического наследия.
После общения с блаженной Рассохин относился ко всяким суждением стоически.
— Ну что же, делитесь, — позволил он.
Дворецкий заволновался, не зная с чего начать, эмоции перед глобальностью проблем, перед тайной владения редчайшей информацией перехлестывали через край.
— Станислав Иванович! В двух словах всего не передать… Это годы и годы работы! Особенно в голодную пору начала девяностых! Мы с женой торговали на рынке, да… Но я отвлекаюсь. С вами можно говорить в открытую. Вы понимаете проблему, иначе бы не пустились в столь опасное путешествие по диким местам…
— Давайте ближе к теме, — подправил его курс Рассохин.
— Боюсь вас шокировать, — признался профессор, — но мы с вами стоим на пороге открытия… Величайшего открытия в мировой истории и культуре. И произойдет это здесь, на Карагаче! Эту загадку пытались разгадать государи, правители, коммунистические секретари. И еще десятки любопытных и неравнодушных людей. К которым относимся и мы с вами!.. Елизавета Максимовна — женщина редкого дара сближать непримиримые позиции, даже науки. Я раньше не задумывался над внутренней сутью профессии геолога. Камни, минералы, физика, химия… А вы ведь человек, способный вести профессиональный поиск руды, полезных ископаемых… То есть вы можете ставить перед собой задачу и находить пути разрешения! Подобный научный подход годится для всякого поиска…
У Рассохина после речей блаженной отроковицы еще звенело в голове, но Дворецкий превосходил ее по выражению чувств и страстей.
— В чем суть вашей концепции? — напомнил он. — Мы теряем много времени. Мне нужно выезжать на Гнилую Прорву.
— Я с вами! — тут же подхватился он. — По пути все расскажу!
— Со мной нельзя.
— Почему?
— Я еду в гости, по приглашению женщины. — Стас уже чувствовал раздражение. — Весьма щепетильный вопрос. А незваный гость, как говорят…
— Да-да, — интеллигентно опомнился профессор. — Вы готовы меня выслушать?
— Давно готов. Только пока ничего вразумительного не услышал.
Мысль профессора скакала и путалась, он говорил как блаженный, лишенный блаженства, то есть какой-либо радости от своего состояния. Напротив, им довлело вызывающее, обозленное отчаяние непризнанного гения.
— Вы ученый и должны меня понять… Как бы это ни парадоксально звучало… Несколько раз я принимался излагать концепцию, и мне не верили! Принимали за абсурд, бред… На сей раз я избираю другой способ изложения. Прошу вас, отнеситесь спокойно, я приведу вам систему фактов и доказательств. Не перебивайте меня! И тогда я подведу вас к определенному умозаключению.
— Ну подводите же!
— Вы слышали, на Карагаче есть некто Сорокин? Прибыл к нам из Канады семь лет назад.
— Есть такой.
— Приехал и ни с того ни с сего арендовал по Карагачу семнадцать участков земли. Конечно же, за взятки… Географическое расположение этих участков невероятным образом совпадает со старообрядческими поселениями и скитами. Как вы понимаете, это не случайно. Спрашивается, с какой целью? Добывать кедровый орех и масло? Но зрелые кедровники всего на двух участках! Арендовал, чтобы расставить пасеки? Но пасека у него всего одна, и та на Гнилой Прорве. Впрочем, как и лосиная ферма…
— На Красной Прорве Сорокин вел раскопки, — вставил Рассохин, чтобы ускорить повествование. — Возможно, и в других местах. Его интересуют кержацкие клады.
— Вот! — ухватился профессор. — Вот его истинные намерения! Все промыслы — фикция, прикрытие грязных, преступных дел! Он давно подбирался к Карагачу, еще лет двадцать назад приезжал в СССР с группой канадских тележурналистов. Еще совсем молодым человеком. А сам расспрашивал наших ученых о сибирском старообрядчестве… Он шпионил!
— Говорят, он сам из кержаков…
— Типичный поповец! Я установил его родословную — он из мелкопоместных дворян, из иммигрантов первой волны. Знаете, кто был его прадед?
— Знаю, — наугад, но твердо сказал Станислав Иванович. — Жандармский офицер.
Дворецкий аж присел.
— Откуда вы знаете? Кто сказал?
— Работал в архивах…
— Вы делаете успехи! — словно ученика похвалил он. — С вами легко разговаривать. В таком случае вам понятно, почему жандармское управление в течение пятнадцати лет изучало и наблюдало за старообрядческим населением Карагача. Причем работало в режиме строжайшей секретности. И руководил этим Сорокин! Как известно, жандармы в России занимались делами исключительно государственной важности. А что могло их привлечь в этой сибирской глухомани?
Вероятно, Дворецкий долгое время читал лекции и привык задавать наводящие вопросы, которые еще в студенчестве Рассохина раздражали, а сейчас и вовсе казались тягомотными, предназначенными чтобы подчеркнуть собственную значимость.
— Покороче можно, Михаил Михайлович? — язвительно попросил он. — Представители власти уже стучат копытами.
Профессор будто его не услышал, закатив глаза, продолжал плести кружева:
— А фигура жандармского штаб-ротмистра Сорокина! Это отдельная повесть. Между прочим, он из университетской среды, преподавал историю, имел дружеские отношения с Соловьевым! И заметьте, был приглашен на службу в жандармерию и дважды встречался с государем. Многих ли начинающих жандармов Николай облагодетельствовал аудиенцией?.. И о чем это говорит?
В другой бы раз Рассохин с удовольствием его послушал — на самом-то деле Дворецкий неплохо рассказывал, много чего знал, умел интриговать, но сейчас его голос казался нудным, а повествование неинтересным. Потому что Лиза стояла с сотрудниками возле костра, что-то говорила, а сама часто поглядывала в его сторону. И это подвигло Рассохина на неожиданный поворот.
— Слушайте, профессор, а вы все это рассказывали своей спутнице? — спросил он. — Журналистке?
— Разумеется! И кстати сказать, Елизавета Максимовна сразу же признала мою концепцию как единственно верную и доказанную. Теперь будет продвигать ее в академии… Впрочем, возможно, и не потребуется. Если экспедиция состоится и мы отыщем Стовест.
— А это что такое?
— Конечно же вы даже слышать о нем не могли! — по-ребячьи изумленно воскликнул профессор. — Стовест — это одно из названий, возникло в середине семнадцатого века, молчуны сократили для удобства. То есть он содержит ровно сто вестей о грядущем. Начиная с бытия человеческого и кончая вечностью божественной… Но я все по порядку! Итак, начало третьего века нашей эры, Канишка, император Кушана.[37] Представляете?
— Давайте так, Михаил Михайлович. Я сейчас поеду на Гнилую и возьму с собой Елизавету Максимовну. По дороге она мне все и популярно растолкует. Видите ли, я не историк и не филолог, трудно воспринимаю терминологию. А журналисты умеют подать материал доступным языком.
— Пожалуй, вы правы! — обрадовался тот. — Но захочет ли она поехать с вами?
— А вы объясните причину.
— Несмотря на свой ум, она достаточно строптивая особа, — шепотом поделился Дворецкий и пошел первым. — Будьте с ней осторожнее, главное, не злите, она сердится…
Не приближаясь к костру, он знаками отозвал Лизу и теперь уединился с ней.
— Ну что, проел вам печенку профессор? — спросил Кошкин. — Не пытался арестовать?
— Мы с ним мило побеседовали, — усмехнулся Рассохин. — Но я так и не понял, о чем.
Гохман с Рябышем уже готовили сети — привязывали дополнительные грузила. Стас собрал и отнес в лодку рюкзак, участковый загрузил канистры с бензином. Улучил момент, склонился и прошептал:
— Гляжу я на вас с этой журналисткой… А вы ведь давно знакомы, или я в людях ничего не понимаю.
— Кто еще так глядит?
— Пока никто.
— Тогда помалкивай.
Договорить Рассохин не успел, поскольку Дворецкий привел Лизу.
— Не давай полных оборотов! — громко взмолился участковый. — Пожалей мотор!
— Елизавета Максимовна любезно согласилась на ваше предложение, — отчего-то радостно сообщил профессор. — Она посвятит вас во все наши тайны. Но когда вы дадите ответ?
— Какой ответ?
— По поводу научного руководства экспедиции?
Стас подал руку Лизе и помог сесть в лодку.
— По возвращении, Михаил Михайлович!
И с силой вытолкнул лодку на стремнину.
Обкатанный и обласканный Гохманом мотор заводился с полоборота. Рассохин помахал рукой, включил скорость и сразу закрутил на румпеле полный газ. Старая «Казанка» выскочила на глиссер, и ветер привычно толкнул в грудь.
Когда сора осталась за поворотом, Лиза развернулась к нему лицом.
— Ну, здравствуй. Стас, — вскинула фотоаппарат и сделала снимок. — Как тебе удалось убедить профессора?
Точно так же однажды фотографировала ее мать, когда они ехали на месторождение…
Ему хотелось ответить, дескать, мечтал остаться с тобой наедине, а мечтающие люди изобретательны, но вместо этого склонился и спросил:
— Ты письмо от мамы захватила?
Лиза порылась в своей дорожной сумке и достала сложенный пополам пластиковый файл, в котором был листок из тетради в клеточку и конверт. Рассохин не знал почерка Жени Семеновой, однако на вид это был женский, неторопливый и аккуратный — так писали те, кто в младших классах школы проходил чистописание, и даже студенческая скоропись не могла испортить такого навыка. Текст оказался коротким и каким-то холодноватым, не материнским: «Здравствуй, Лиза. Долгое время не могла сообщить тебе, что я жива и здорова. Теперь появилась возможность встретиться, и я все расскажу, как жила все это время и где. Если сможешь, то приезжай в начале лета в Усть-Карагач. Поселишься в местной гостинице, а я пришлю своего знакомого, хорошего человека. Он проводит ко мне. Очень хочется увидеть тебя. Твоя мама».
На конверте почерк уже был совсем другой, и другим цветом ручки.
— А вот ее конспекты. — Лиза подала общую тетрадь. — Посмотри сам… Мне кажется, очень похоже.
Рассохин пожалел, что не взяли с собой Гохмана, бывшего криминалиста, который бы уж наверняка сказал что-либо определенное. Он заглушил мотор и стал сличать почерка, и вначале на самом деле показалось, есть схожесть, только некоторые буквы написаны по-разному.
— Ну и что? — не терпелось Лизе. — Это мама? Это она писала?
Стас полистал тетрадь и понял, что отроковица меняла почерк, видимо, в зависимости от настроения или ситуации — то спокойный, округлый, правильный, то скоропись, напоминающая распущенный моток проволоки, то резко измененный наклон букв. Никакого постоянства, стабильности, как и было у нее в жизни. Но при внимательном изучении даже невооруженным глазом стало ясно, что ни один вариант почерка Жени Семеновой не похож на тот, которым написано письмо. Безусловно можно было утверждать лишь то, что то и другое писали женщины, но разные.
— Надо в спокойной обстановке разобраться, — чтобы как-то пригасить любопытство и ожидание Лизы, сказал Рассохин. — На берегу и с лупой. А лучше показать Гохману. Он работал криминалистом.
А у самого защемило под ложечкой: все-таки была надежда на это письмо, особенно сильная после вчерашнего внезапного объявления Христофора. И если бы лодку стремительно не сносило вниз, он бы сейчас, не откладывая более, признался в убийстве ее матери.
— У меня такое чувство, эта мама писала! — заявила Лиза. — Чем больше читаю, тем сильнее верю.
— Ты себя убеждаешь.
— Значит, все-таки не она? Тогда кто? И зачем?
— Хотят заманить тебя на Карагач.
— Но кто?! Кто здесь вообще мог знать о моем существовании, кроме мамы?! Нет, это все так интересно! Я просто сгораю от любопытства!
— Тогда надо было поселиться в гостинице и ждать, — проворчал он, запуская мотор. — Этого рекомендованного мамой хорошего человека…
— Я так и хотела. — Она напрягала голос и от этого говорила как-то надорванно. — Но как бы я объяснила Дворецкому?.. А потом, милиционеры сказали, ты попал в плен к каким-то женщинам. И еще пошутили…
— Ринулась выручать?
— А как ты думал? Кстати, поселиться в гостинице еще не поздно. Вернемся, сбагрим куда-нибудь профессора и поселимся. Все равно нужно ждать Бурнашева, ты же говорил…
— Сбагришь профессора, как же…
Конечно, надо было признаться, с чем он жил и живет десятки лет и что буквально вчера ему было подтверждение от огнепального Христофора, а письмо Жени поставило точку. Но Рассохин, как утопающий, хватался за любую соломину, брошенную ему изворотливым сознанием — сказать сейчас, в лодке, среди полноводного Карагача, реакция Лизы может быть непредсказуемой. Например, не захочет ехать с убийцей матери, потребует высадить, или еще хуже — начнется истерика, бросится вплавь…
— О чем вы говорили с Дворецким?
— Обещал посвятишь во все ваши тайны, — после долгой паузы проговорил Стас. — Отпустил, чтоб ты меня обработала. А я бы потом взял его научным руководителем.
— Прости, это моя идея, — повинилась Лиза. — Иначе его было не усмирить.
— Может и возьму, если он удивит своей гипотезой. А то полчаса уши мне притирал…
— Удивлять буду я! — беззаботно засмеялась она. — Только и мне получаса не хватит. Знаешь, когда он открыл мне суть, я подумала — клиника сплошная. Но потом Дворецкий доказал, с фактами в руках.
— Общение с профессором на тебя дурно влияет!
— Почему?
— Так же начинаешь темнить и ходить кругами. Если концепция не укладывается в одно короткое предложение, значит, она еще не созрела. Все на уровне догадки, но зато какая интрига!..
— Почему ты сейчас такой гневный? — вдруг спросила она и глянула с прищуром. — Я тебя раздражаю? Или ты обижаешься?.. А может, ревнуешь?
— У меня всегда голос такой, — соврал он, — когда кричать приходится.
Лиза вроде бы поверила и тоже прокричала сквозь гул мотора:
— Эта концепция не укладывается даже в три предложения!
— Ладно, излагай!
— Держись за лодку. Крепче! Стовест находится на Карагаче. Зарыт или потоплен в бочке или колоде!
— Сначала бы кто-нибудь объяснил, что это такое!
— Разве профессор не сказал?
— Твой профессор как молодой влюбленный, вокруг да около…
— Стовест — Книга Пророчеств! На три тысячи лет вперед.
— Первый раз слышу… А от какого срока считать? Три тысячи?
— Примерно со времени процветания Кушанского царства.
— Когда же оно процветало?
— В начале третьего века нашей эры, при царе Канишке.
— То есть еще действует?
— Дворецкий говорит, да! — Она, глупая, отчего-то еще и радовалась и голоса не жалела. — Раньше Стовест назывался Книгой Ветхих Царей. К нам попал из Кушанского царства, через Индию. Вроде был преподнесен в дар неким путешественником Владимиру Мономаху. То ли раджой, то ли каким-то их священником, точно не установлено.
— Где такое царство?
— Кушанское?.. Да ты вообще не знаешь мировой истории! Это древнее царство в Азии! Огромная территория, могущество… А письменность правящей элиты была очень похожая на нашу кириллицу, впрочем, как и язык. Одна арийская корневая основа. То есть прочитать можно, имея минимальную подготовку!
— И что дальше?
— От Мономаха произошло еще одно название — Мономахова ересь! — Голос у нее садился и тоже будто становился раздраженным. — То есть, видимо, противоречит церковным догмам. В общем, черная книга, однако иерархи ее не чурались. И тут есть какая-то тайна, которую даже Дворецкий пока не открыл. Вероятно, она все-таки как-то связана с христианством. Возможно, там есть соответствующее предсказание. Читать ее позволялось только царям, и то один раз в жизни, сразу после возведения на престол. Нет, даже не читать, а слушать, что предскажет по этой книге монах-схимник. Последним известным хранителем был Сергий Радонежский. Поэтому Дмитрий Донской ездил к нему за благословением перед битвой. И преподобный позволил ему приложиться к тайным откровениям грядущего во второй раз. Остальные безымянные…
Она закашлялась, посадив голосовые связки.
— А как он оказался на Карагаче? Этот Стовест?
— Я не могу на ходу говорить, — пожаловалась Лиза. — Все время приходится напрягать голос. Давай причалимся к берегу, остановимся, и я тебе все расскажу. Можно я выберу место? Заветное, тайное, чтоб никто не мешал…
Жандармский штаб-ротмистр Алфей Сорокин и в самом деле был из старообрядцев, но московских, и по духовной ориентации его род принадлежал к белокриницкому согласию. И если все остальные кержаки не знали священников — некому было рукополагать в сан, назывались беспоповцами и молились кто где, в том числе в лесах и полях, то эти имели своих клириков, храмы и в общем-то почти никогда не испытывали гонений и без царского манифеста о веротерпимости. Хозяйствовали в своих поместьях, занимались промыслами, держали фабрики, крепостных, торговали, а с середины девятнадцатого века их стали брать не только на военную, но и на государственную службу.
Благодаря своему происхождению и образованию Сорокин и оказался в корпусе жандармов, причем, как самому показалось, волею случая. После очередных студенческих волнений его вместе с иными преподавателями пригласили для наставления, каким образом и средствами не допускать смуты в университете, то есть обучали, как проводить профилактику выступлений. С каждым лично беседовал генерал корпуса жандармов Муромцев, весьма образованный и благородный человек, и вот одной из причин волнений он назвал безделье студентов, их лень и нежелание получать образование, мол, большинство учатся из-под палки родителей или угрозы лишения наследства. Основная причина — некоторая усталость молодого общества от догматов, установленных правил и традиций. Юноши во все времена были устремлены к новому, неизведанному и, как следствие, по недоразумению, готовы сокрушить старое, пытаются рубить сук, на котором сидят. А во избежание этого надо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы овладение знаниями имело внутренний посыл, вызывало любопытство, желание разгадывать загадки — все то, что смутьяны и агитаторы с успехом несут в студенческую среду.
— Каким вы видите разрешение означенного вопроса в преподавании истории? — спросил генерал.
Сорокин к такому ответу не подготовился, вначале смутился, но потом вспомнил, чем занимается на досуге, и стал рассказывать о своих архивных изысканиях относительно утраченного Стовеста и что эта книга означает для России и престола Его Величества, и каковы перспективы ее розыска. И так увлек Муромцева, что тот не отпускал его два часа. Алфей посчитал это за обыкновенное любопытство уставшего от своих нелегких дел человека и даже не подумал о последствиях, ибо сам откровенно считал, что Книга Пророчеств давно обратилась в миф, оставивший призрачный след в исторических хрониках. Письменных свидетельств о себе Стовест в России практически не оставил, а те, что были, добывались из иностранных источников, ибо средневековая инквизиционная Европа в буквальном смысле и тайно охотилась за Книгой Ветхих Царей, относя ее к страшной, губительной ереси. В письмах друг к другу кардиналы обсуждали кандидатуры послов, которые были способны проникнуть в русский монастырь близ Москвы и выкрасть книгу. Но вовсе не для того, чтобы предать ее огню…
Последствия же не заставили себя ждать: генерал вскоре пригласил Сорокина вновь и попросил изложить все сказанное в прошлый раз на бумаге. Он изложил, подал Муромцеву, и тот через некоторое время явился к нему сам, уже для долгой задушевной беседы, в конце которой и сообщил, что розысками Книги Пророчеств заинтересовался сам государь-император, для которого и составлялась записка Алфея.
Вероятно, уже тогда генерал чувствовал приближение революционных перемен, хотя империя казалась еще незыблемой, докладывал царю, и шел лихорадочный поиск средства, способного вызвать центростремительные внутренние силы и объединить Россию вокруг престола и государя. Для обновления самодержавия, для свежести чувств самого императора и трехсотлетней истории царской династии требовалась некая новая, но с древними корнями идея. Только признанная святыня, вдруг открывшаяся миру, как чудо, была способна встряхнуть общество, ценности которого усиленно размывались молодым ярым капитализмом и, как следствие, массовым нигилизмом, а ставшая уже открытой, доступной и общеизвестной жизнь двора и собственно власть императора нуждались в неком сакральном таинстве, которое бы возвысило престол и вернуло подданных в лоно православной монархии. Никто из Романовых даже не прикасался к Стовесту, ибо он был изъят из Троице-Сергиева монастыря либо из иного места сразу после гибели царевича Дмитрия.
Книгу Ветхих Царей лихорадочно искал сначала Борис Годунов, поскольку считалось, если сразу же после помазания государь не приложился к истинам Книги Пророчеств, не познал грядущего, то его правление станет беспутным, слепым и ничего, кроме бед и смуты, не принесет. Вокруг Мономаховой ереси было много таинственного, и уже само название говорило о многом: вероятно, книга эта плохо сочеталась с христианским вероучением. Однако пророчества, в ней изложенные, имели весьма важное значение для управления государством: они возвышали царя над толпой, открывали ему взор в будущее, и поданные послушно за ним следовали, ибо никто и никогда не мог даже прикоснуться к той чаше откровений. О существовании Стовеста знали лишь митрополит и хранители — монастырские схимники, давшие обет молчания до смертного часа. Все иные, особо приближенные ко двору бояре, в том числе и наследники престола, могли лишь слышать, что при короновании совершается еще один обряд, о сути которого ничего не известно. Уже помазанного государя митрополит вводил в келью к схимнику-старцу и оставлял там на одну ночь, от зари и до зари. Никто не знал, что там происходило, какие главы, страницы или даже строчки читал нововозведенному царю схимник, какие истины ему открывались, однако говорили, что все наутро выходили оттуда со слезами.
В связи с особым таинством Стовеста на его розыски царь Борис назначил двух ближних бояр, хотя сам толком не мог объяснить, что и где следует искать, поскольку никто не знал, как эта книга выглядит и что в себе содержит. В общем, наверное, в сказке «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» речь шла как раз о Книге Ветхих Царей. Наделенные полномочиями бояре, однако же, вскоре установили, что Книга Пророчеств исчезла вместе с хранителями, бывшими не под волей настоятеля монастыря. Причем удалились они все сразу, а по слухам, стерегли Стовест сразу три инока, еще три готовились к сему труду и три состояли в запасе. Однако никто из сторонних, даже государь, не могли знать, которая из троек истинные хранители и которому из девяти иноков дозволялось прикасаться к святыне, знали только, что самому старшему по годам.
Митрополит ничего о их судьбе не знал да и знать не мог, ибо хранители поступали, повинуясь некому собственному уставу и еще тому, что могли вычитать из Стовеста. После долгих и старательных розысков бояре обнаружили некие свидетельства, указывающие, что Мономахова ересь вкупе со схимниками Троице-Сергиевой обители были похищены и сейчас находятся в Речи Посполитой, о чем и было донесено государю. Знали об этом сами поляки или нет, сказать было трудно, однако последующая смута и воинственные притязания их на русский престол говорили о многом.
Вторым, кто приложил руку к поискам Книги Пророчеств, был Филарет, правивший за малолетнего Михаила. Принимая митрополичий сан всея Руси, он прикоснулся не к содержанию, но к таинству ее существования и, разумеется, вздумал вернуть святыню новой династии и тем самым скрепить Романовых с Рюриковичами. Розыски, естественно, он доверил двум монахам, родным братьям, которые много лет ему прислуживали. Неизвестно, кем они были до пострижения, однако же эти иноки скоро сделали вывод, что Стовест никогда не был во владении поляков, и потому они осадили Троице-Сергиев монастырь, обыскивали Кремль, прочие обители, церкви и метались по центральным землям в поисках заветной книги, дабы Русь признала и присягнула королевичу Владиславу. Сообразительные братья пошли по следу поляков, который вывел их на Кострому, где, по их убеждению, и прятали святыню. Оба они были переведены в один из монастырей Костромы, где до самой смерти Филарета осторожно выведывали, где хранится Книга Пророчеств, однако было неизвестно, удалось ли им ее обнаружить.
Алфей занимался архивными розысками по своей воле и из любопытства, его страстно влекло проследить судьбу святыни и разгадать историческую загадку. В этом деле он продвинулся до Никонианского раскола, в период которого Стовест уже разыскивал Алексей Михайлович, под видом исправления богослужебных книг перетряхивая монастырские библиотеки. Князь Воротынский, лично занимавшийся розысками при Тишайшем, также установил, что последним пристанищем хранителя Мономаховой ереси была Кострома, и, судя по приверженности древлему благочестию, сии схимомонахи не собирались являть святыню антихристовым слугам. Говорили, будто один из них, нарушив обет молчания, открыто ругал царя, патриарха Никона, мол, один сдохнет в узилище на цепи, а другой родит наследника-сыноубийцу, который, воцарившись, исторгнет из Руси староотеческие нравы и обычаи. Сию хулу люди слушали и поддерживали, считали, будто блаженный схимник — истинный праведник, не догадываясь, кто он на самом деле.
И еще был слух — хранители имели сношения со старцем Григорием и Аввакумом.
Чтобы идти далее, требовались дозволения начальства на работу в недоступных архивах Синода, Троице-Сергиевой лавры и даже императорского двора, куда простому преподавателю ход был заказан. Он тогда еще совершенно не подозревал, в какие тайны он проникает и что за этим последует. С момента пропажи святыни миновало много времени, и теперь она уже казалась не более чем занимательной легендой и головоломкой для человека, пристрастного к истории отечества своего. Интерес императора, вызванный его запиской, говорил лишь о том, что Стовест до сей поры не найден и мог бы ныне сослужить государю спасительную службу в деле утверждения монархии.
Муромцев не произносил подобные вещи открыто, однако по косвенным примерам, по оговоркам или намекам Сорокин это прочитал, и когда из уст генерала прозвучало следующее:
— А хотите, Алфей Власьенич, заниматься поиском Книги Пророчеств не на досуге, а каждодневно, или как сейчас говорят — профессионально? Дело пойдет на благо Отечества. И если учесть наши неспокойные времена…
Уже через месяц Сорокин получил первое звание вахмистра — поступление на службу в жандармерию было обязательным условием, — и двух сообразительных, неплохо образованных младших чинов, происхождением из староверов, имеющих опыт игры в домашних театрах себе в помощь. И еще получил прямое подчинение генералу корпуса — в связи с особой секретностью поручения никаких иных начальников для него не существовало. В одночасье Алфею стали открываться все двери, включая придворный архив Его Величества, куда он ранее даже не мечтал попасть. Будучи же своим по вероисповеданию, его принимали в самых именитых домах старообрядцев как Петербурга, так и Москвы и, не ведая, где он служит, но зная, чем занимается, показывали личные архивы и с удовольствием вспоминали старые семейные предания.
Кроме собственно розысков, Сорокин начал изучать и обобщать опыт всех государственных мужей, кому так или иначе поручалось сыскать Книгу Ветхих Царей. Особенно прилежно и с великим терпением этим занимался сам Петр Алексеевич и некоторые его присные из Тайного приказа. Царю-реформатору также требовалось откровение о грядущем, и он в буквальном смысле рыл землю, разбирал каменные кладки костромских подземелий, ползал ветхими ходами, соединяющими монастырские подворья с церквами, боярскими и купеческими хоромами. А его друг и сподвижник Брюс более всего в жизни мечтал ее отыскать и умышленно распустил слух, будто наконец-то овладел черной книгой и хранит ее в Сухаревской башне. Якобы согласно Книги Пророчеств он составлял прогнозы и календарь, и что книга эта и есть суть всех мистических учений и обладает магическими свойствами.
Таким образом, Стовест одновременно превращался в легенду, поскольку воспринимался молодым Петром как любопытная и забавная диковина, нежели способ восстановить обряд коронования на Руси. И еще хотел он изменить прежние правила, владеть Книгой Пророчеств единолично и самостоятельно, приставив к ней только Брюса, не понимая, что, окажись Книга Ветхих Царей в руках царя-реформатора, он и строчки бы не смог прочесть. Стовест хоть и был переписан в Кушанском царстве с еще более древней индийской книги письмом, сходным с кириллицей, но это было непростое чтение; прежде всего он был учебным пособием, наставлением, как овладеть наукой зреть будущее и его предсказывать. А для того чтобы извлечь эти знания из Мономаховой ереси, требовалось в сорокалетнем возрасте отречься от мира, принять схиму, обет молчания и еще сорок лет постигать науку, открывающую тайны грядущего. Подобного ни один государь позволить себе не мог, поэтому вместе с книгой всегда были ее молчаливые толкователи-мудрецы, передающие саму книгу и секреты постижения знаний по наследству.
Без них Стовест стал бы немым, как его хранители.
Победив свою сестру Софью, Петр несколько успокоился и для возвеличивания престола и России поднял иной штандарт — могущество флота морской державы и заимствование военного опыта, культуры и обычаев Европы. К тому же он убедился, что Европа до сей поры считает, будто российские государи и поныне владеют Книгой Пророчеств, добывают оттуда истины о грядущих временах и только потому, подобно птице Фениксу, держава уже в который раз на глазах восстает из пепла и становится крылатой и могучей.
Одна из величайших тайн Петровского царствования была тайна вышеозначенного Стовеста, розыски которого были впоследствии запрещены, дабы не привлекать внимание иных царей и королей. Со временем в умах российских память о Книге Ветхих Царей настолько изветшала, что о нем долгое время почти не вспоминали. И только Екатерина Вторая, будучи немкой по крови и воспитанию, но обладающая великим любопытством к русской истории и культуре, разбирая старые дворцовые бумаги, наткнулась на документы, свидетельствующие, что Мономаховы ереси давно и безвозвратно утрачены, впрочем, как и древний обычай, во исполнение коего перед помазанником Божьим открывали заветную святыню. Она поручила установить, когда это случилось, и выяснилось, что никто толком не знал и не знает, в какое точно время и каким образом исчез Стовест — то ли сразу после убийства последнего из Рюриковичей, царевича Дмитрия, то ли при польском нашествии. Причем исчез так, что никто не увидел, не запомнил, по чьему приказу и куда его вывезли из Троице-Сергиевой обители. Ее Величество почему-то не поверила, будто Книгу Пророков по своему хотению увезли в Кострому схимники-старцы. Она считала, кто-то из иерархов приложил к сему руку, дабы лишить Романовых святыни. При Екатерине же обнаружились свидетельства пребывания Стовеста и его хранителей на реке Керженец, куда бежали раскольники. Императрица послала туда специальный отряд гвардейцев и распорядилась разворошить пристанище беглых и дознанием, пытками выведать, где и у кого находится святыня, по праву принадлежащая императорскому двору. Гвардейцы вкупе с казаками пришли на Керженец, но пока искали убежища раскольников, началась очередная война и розыски пришлось прекратить.
Еще раз на Керженец присылали государевых людей и самым тщательным образом пытали староверов уже при Александре Втором, точнее, вскоре после разгрома французов — вероятно, победа над Наполеоном подвигла государя вернуть Стовест. К тому времени беглое население Керженца убавилось втрое, раскольники бежали за Уральский камень, подальше от царей, однако в результате розыска среди оставшихся и пыток каленым железом стало известно, что на некой тайной заимке и до сей поры пребывают три схимника-молчуна. Ежели кто пожелает изведать свою судьбу или близких своих или захочет узнать, когда антихристова власть сгинет, то идет к ним, спрашивает, а они уже глядят в некую книгу и пишут записку, что в жизни у того или иного будет или что с Русью сотворится. Государевы люди выведали, где скрываются сии гадатели, нагрянули и захватили старцев врасплох. Они же молчат, не выдают Стовест даже после дыбы и кнутов, разве что мычат и глазами посверкивают. Казаки келейку их обыскали, сначала штыками землю прощупали, потом прутьями коваными поширяли, норовя тайник найти или полость подземную. В одном месте наткнулись на что-то деревянное, и сверху вроде бы земля потревожена. Принялись раскапывать, и на глубине в полторы сажени обнаружили прочный дубовый накатник. Когда же бревна подняли, обнажился сруб, а в нем — скелеты двух человек и рядом всяческая глиняная утварь, а в одной вроде бы что-то блестело. Офицер спустился в могилу, дабы внимательно рассмотреть содержимое, тронул горшок, и у него сразу зачесалась рука, а через четверть часа покрылась волдырями. Он велел немедленно зарыть яму, а пока солдаты орудовали лопатами, поручик уже чесался и горел весь с ног до головы. Прибежавший фельдшер установить болезнь не смог ввиду ее неизвестности и дал мази от лишая. Офицер натерся, чесотка прекратилась, но наутро его нашли мертвым.
После доклада император Александр приказал прекратить раскопки, схимников перепроводить в Нижний Новгород и всех, кто принимал участие в них, подвергнуть изоляции на некоторое время и всевозможной дезинфекции. Но все равно треть солдат команды умерла от скоротечного отека легких. И старцы тоже не стерпели пыток и долгой дороги, тоже прибрались.
За два с небольшим года кропотливого труда Алфею, как и всем предыдущим искателям, удалось установить, что все следы ведут на Керженец, однако он не уподобился сыскникам Александра Второго и не поверил, что хранителями Стовеста были три замученных схимника — слишком уж просто они раздавали свои гадания на кусочках бересты за неимением бумаги, один из которых попал в руки Сорокина. Истинные хранители Книги Пророчеств за восемьсот лет пребывания ее на Руси ни одному слову не позволили выпорхнуть из книжного гнезда, ни один чужой глаз не позрел на святыню, да и самих старцев мало кто видел, и вообще, их имена были неведомы. Кроме того, не в пример прежним искателям, только предполагавшим, каким образом Стовест исчез из Троице-Сергиева монастыря, Алфей добыл доказательства, что все девять схимников были перевезены на двух подводах с охраной в Галич, когда царевич Дмитрий еще был жив и здоров, и находился там до дня его убийства. И скорее всего, хранители Стовеста знали, что произойдет, возможно, предотвратить хотели, ибо в то время по Галичу гуляла подметная грамотка, призывающая восстать супротив царя Бориса, который готовится сгубить невинного отрока. Возможно, потому сразу же по смерти царевича в Галиче вспыхнул бунт против Годунова. Горожане напрямую обвиняли его в убийстве, а хранители, дабы лишить права царствовать, и зная, что царь Федор Иоаннович уже недееспособен, вывезли Книгу Ветхих Царей в неизвестном направлении.
Можно было представить ярость костромского боярина Годунова, уже мыслившего себя родоначальником новой династии. В отместку угличанам он уговорил слабоумного царя упразднить их удельное княжество и впоследствии, сам избравшись государем, их не миловал.
Между тем близился великий праздник — трехсотлетие дома Романовых, и государь очень уж хотел приурочить к нему возвращение утраченного Стовеста. С этой целью он и пригласил Сорокина вместе с генералом Муромцевым, дабы заслушать отчет. Алфей все подробно доложил, в том числе свою версию, основанную более на догадке — Книга Ветхих Царей в настоящее время находится за Уралом, и унесли ее в Сибирь раскольники, ибо во всей России не было и нет общин, связанных трехсотлетней круговой порукой, чем общины старообрядцев.
Генерал от таких крамольных мыслей голову в плечи втянул, однако государю открытость и честность Сорокина пришлись по душе. В результате он получил повышение в чине, личную благодарность императора и благословение на розыски в Сибири. И еще обещал отписать тамошним губернаторам, дабы оказывали ему содействие и всяческую помощь.
Однако Алфей сразу не поехал в Сибирь, а отправился на Керженец, где одно время был центр раскольников. Сюда бежало не только простолюдье, но и именитые, гонимые княжеские, боярские и купеческие роды, не приемлющие никонианства. Когда-то ярые сторонники древлего благочестия добровольно шли в огонь, дабы показать царю-антихристу силу своего духа и крепость истинной веры. Но со временем кержаков — отсюда и пошло название — выдавили с облюбованного Керженца, центр старообрядчества давно утратил свое значение, и отсюда начался долгий исход на Урал и в Сибирь.
Он прожил на Керженце около полугода под видом странствующего богатого старовера, большого любителя словесности и всяческих рукописных редкостей, заводил разговоры со стариками, ненавязчиво выведывая не судьбу Стовеста, название коего не имел права произносить вслух, а выяснял пребывание здесь схимо-монахов, давших обет молчания. Мол, интересуюсь, что за редкостный толк, как возник и почему.
Еще на Кержепце приверженцы древлего благочестия стали рассыпаться на несколько толков, иногда враждующих друг с другом, а при переселении в Сибирь, на огромные дикие просторы, и вовсе раскатились на десяток самых разных вероучений — от дырпиков, которые молились на солнце, до непишущихся странников, не признающих никакой власти и не имеющих ни кола ни двора. Будучи человеком мягким и гибким, Алфей весьма удачно лавировал между ними, стараясь никого не обидеть, а напротив, искал пути примирения или сближения толков, поэтому его одинаково по-доброму принимали везде и более всего жаловались друг на друга, иногда и вовсе просили выступить судьей в спорах.
Вскоре он выведал, что малочисленный скрытный толк молчунов не легенда, а в самом деле существует. О них известно лишь, что живут особняком и по своему уставу, к себе мало кого подпускают, ибо весьма горделивы характером, а называют их так за малопонятную причуду. Гонимые, рассеянные по свету раскольники говорливостью не отличались, ибо жили в замкнутых общинах, а эти и вовсе по достижении сорокалетнего возраста оставляли свои семьи, привычное житье в скитских поселениях и разбредались отшельниками по одному или вдвоем, принимая обет молчания. Те, кто молчунов недолюбливал за их скрытный нрав, говорили, будто они даже языки себе откусывают. Однако иные относились к ним с уважением, не осуждали и объясняли такое поведение устремлением благородным, дескать, к сорока годам человек созревает телесно и настает пора духовного созревания, требующего покоя и тишины.
И еще звучал весьма прозрачный, едва уловимый намек на их способность к пророчествам — мол, кому ведомо грядущее, тот хранит молчание.
На Керженце почти каждый собеседник рассказывал Сорокину про то, как царевы люди погубили трех отшельников-молчунов, совершенно беззлобных юродивых, мол, с тех пор которые еще оставались, так все ушли в Сибирь и здесь более не появлялись. А где они там обитают, никто не ведает.
Но как-то раз, будучи в гостях у кержацкого купца, торговавшего пушниной, Алфей был представлен довольно молодому человеку, принадлежащему к толку странников, который недавно прибыл от сибирских старообрядцев с посылкой. Он и прежде встречал непишущихся и знал, что они проворны, сметливы, обладают невероятным чутьем и точно угадывают, что за человек перед ним, владеют артистическим талантом и способны заболтать или отвести глаза самому занудливому вокзальному полицейскому, которые охотились за «неписахами» и сажали в тюрьму. И если молчуны жили уединенно, никого к себе не подпускали, то странники, напротив, были общительны со своими, их почитали как блаженных, ибо они до сей поры оставались тверды и непокорны власти. Поэтому принимали во всех толках, давали приют, кормили, поили, а они, в свою очередь, исполняли почтовые услуги, таская посылки из конца в конец Империи.
Так вот этот молодой странник уже через минуту точно определил, что Сорокин — поповец и что имеет не только праздный интерес, скитаясь по Керженцу. Это был первый случай, когда Алфей чуть не провалился, и добро, что предусмотрительный генерал Муромцев для такой ситуации придумал отговорку, которая и выручила. Штаб-ротмистр Сорокин признался, что кроме праздного любопытства имеет научный интерес, поскольку давно уже изучает жизнь и быт современного старообрядчества, чтобы донести российскому обществу правду о современных раскольниках в противовес никонианскому о них представлению. И собирается предпринять путешествие в Сибирь, но не железной дорогой, а тем путем, по коему ходят странники, поэтому ищет, кто бы сопроводил его с товарищами. Купец, у которого гостил Алфей, замолвил за него слово, и неписаха согласился взять их с собой, предупредив, что путь сей дальний, опасный и идти доведется с тяжелой ношей пороха, свинца и соли до реки Карагач.
Так Алфей впервые услышал это название, тогда еще никак не связанное со Стовестом. Путь и в самом деле был нелегок и занял два месяца, но зато на Карагаче он почти сразу же услышал о молчунах, обитающих в потаенном скиту в среднем течении реки. И здесь был еретический, богопротивный обычай — гадать у них судьбу, коим особенно пользовались молодые кержаки, желая узнать, каковы будут невеста или жених, и глубокие старики, испрашивая свой час кончины. Блюдущие устав строгие кержаки всячески препятствовали сношению с молчунами, наставники общин предавали отступников анафеме, накладывали епитимьи, однако всякий отрок или отроковица знали, где следует оставить берестяное письмецо, чтобы спустя месяц получить ответ. Напрямую отшельники никогда и никого не принимали, да и мало кто знал даже приблизительно месторасположение их скита и тем паче схоронов, где прятались принявшие обет молчания.
Сорокину указали один такой почтовый ящик, и он, не мудрствуя лукаво, как и положено, поуставным письмом начертал на бересте свое желание узнать, доколе же еще быть антихристовой власти и править царям на Руси и наступит ли послабление приверженцам древлего благочестия. Спрашивал для того, чтобы лишний раз доказать свою ретивую любовь к старой вере, если кто-то сторонний вздумает прочесть его послание — иных мыслей и в голове не держал.
Однако же полученный ответ ошеломил его: через год с малым, в первый день августа месяца молчуны пророчили начало великой войны, которая по истечении еще трех лет обратится великим же бунтом, свержением и последующим убийством царя, вкупе со всей его челядью, после чего разгорится междоусобица, и прежние грехи будут смыты кровью. А послабления последователям святоотеческой веры православной не бывать ни в коем веке, напротив, бесы дьявольским огнем пожгут страстотерпцев и след укреплять дух и сердце молитвами, дабы не склониться перед супостатом и достойно смерть принять.
Кержаки давно сулили погибель новым царям и их владычеству, но чтобы с такой пугающей простотой и неотвратимостью, с указанием точного времени — было отчего встрепенуться. Алфей чувствовал желание немедля выходить с Карагача на железную дорогу и мчаться в Петербург, но столь поспешный отъезд насторожил бы раскольников, вызвал подозрения, не государев ли он человек, — ведь кто-то мог заглянуть в почтовый ящик и прочитать пророчества молчунов. Он припрятал грамотку и стал ждать зимы, дабы уйти вместе со странниками, которые в это время выносят пушнину в Усть-Карагач. А пока ждал, черкнул еще одну загадку, дабы проверить правдивость предсказаний, причем умышленно простую — когда нынче снег ляжет и каково будет начало зимы. И в сентябре, в теплую пору бабьего лета, молчуны прислали грамотку, где говорилось, что морозы начнутся до снега, в последнюю седмицу октября месяца, земля потрескается, малые озера до дна промерзнут. А снег ляжет лишь к концу второй седмицы ноября, и зима будет лютой до Рождества Христова, потом же ослабнут холода и быть метелям и оттепелям.
И случилось все так, как предсказывалось: и стужа в назначенный срок, и земля потрескалась, и снег упал — как писано было.
Сорокин оставил младших чинов на Карагаче, наказав покуда не предпринимать никаких действий, и ушел со странниками в Усть-Карагач и уже оттуда, с обозом, на станцию. Покуда ехал железной дорогой, наступил канун празднеств трехсотлетия Царствующего Дома, а вез он вести худые, и потому весь долгий путь думал, как поступить, надо ли являться ко двору, да в торжество со столь тяжкими предсказаниями. И решил положиться на волю Муромцева да заступничество Богородицы.
Бороды и волос Алфей не стриг, одежд не менял и потому часто в дороге подвергался полицейскому спросу, кто таков и куда направляется, однажды чуть с поезда не ссадили, пришлось просить, чтоб позвали жандармского офицера. Шепнул ему несколько слов, и отстали уж до самого Петербурга — тайные агенты жандармерии сопровождали его до столицы, где волосатого, в мужицком тулупе пассажира встречал генерал корпуса на крытым возке. Сорокина переполняли чувства, и он едва сдерживался, чтобы не начать свою повесть еще по дороге — опасался кучера и младших чинов на запятках, дело-то государственной важности.
Муромцев выслушал его, грамотки берестяные прочитал, и не сказать чтобы ошеломился, как Алфей, а только задумался и грустный сделался.
— Государь о тебе спрашивал, — проговорил наконец после долгой паузы. — И в честь праздника и заслуг пожаловал орден Святого Владимира четвертой степени. Сам, без какой-либо подсказки…
— Отечество наше на пороге войны, ваше превосходительство, — едва совладая со своими страстями, проговорил штаб-ротмистр, — великой войны и событий трагических! Я уверен, предсказания молчунов извлечены из Стовеста!
— Вероятно так и есть, Алфей Власьевич, — хмуро согласился генерал. — И без откровений молчунов твоих чувствуется — грядут грозные годы…
— Еще не поздно что-либо предпринять!
— Пройдут торжества, я доложу Его Величеству. — Он что-то не договаривал. — Сейчас при дворе суматоха, помпезность великая. Не услышат глас вопиющего…
Долго ходил, раздумывал, глубоко вздыхал и наконец решил:
— Впрочем, испыток не убыток, поедем!
Государь все же принял жандармов, однако слушал доклад как-то рассеянно и озабоченно, то и дело отвлекаясь некими бумагами, разложенными на столе. И чуть оживился, когда рассматривал берестяные грамотки.
— Неужто они и доныне пишут по-старому? — спросил он. — Как забавно!
Если по пути в Петербург Алфей еще оставлял лазейку для взбудораженного ума своего в виде отблеска сомнения — вдруг да ошиблись молчуны в своих предсказаниях? — то в этот момент она захлопнулась. И он почти физически ощутил погибельное дыхание, исходящее от всего, что в тот миг его окружало.
Когда государь прикреплял ему орден, от рук его уже исходил даже сквозь одежду ощущаемый холод.
— Сдается, ваше превосходительство, государь не поверил нам, — поделился потом Сорокин, — и будто бы в Стовесте более не нуждается.
Генерал корпуса жандармов был мрачен.
— Ныне при дворе свой пророк появился, — сказал он. — Кстати, тоже из Сибири. Григорий Распутин — не слыхали про такого?
— Нет…
— Зато теперь о нем весь Петербург говорит… И пророк сей предвещает благополучие! Не поспел ты разыскать Стовест к сроку. Государь, а более государыня иным утешились…
Лиза долго выбирала место: промчались две соры, обошли поймой ежеподобный Столбовой залом и только выскочили на реку, как увидели человека в обласе, поспешно гребущего в залитый кустарник. Стас сбавил обороты, чтоб не опрокинуть кильватерной волной, и все равно долбленку хорошо покачало, прежде чем она пропала в таловых зарослях.
— Кто это? — почему-то испуганно спросила Лиза.
Рассохин лишь пожал плечами.
Место она выбрала лишь к исходу дня неподалеку от Зажирной Прорвы — видимо, сосредотачивалась и давала Стасу возможность переварить услышанное.
Причалили к кедровому мыску, выдающемуся из материка в пойменное болото, затопленное до вершин высокого тальника, и в самом деле уединенное, недоступное и благодатное — с реки даже костра не увидишь. Под ногами мягкий подстил, расшелушенные бурундуками и белками в прошлом году шишки, легкий, томительный шорох ветерка в кронах и знакомый, завораживающий дух кедра. Однако ностальгические воспоминания были краткими, поскольку Лиза сразу же начала рассказывать о Книге Ветхих Царей и похождениях штаб-ротмистра Сорокина.
Надо сказать, кержацкая закваска в нем все-таки взяла верх. Искушенный знаниями будущего и в них убежденный, он не стал ждать революции, краха династии Романовых и последующих репрессий. Война захватила его в Омске, и тамошний начальник жандармского управления, к коему он поступил в подчинение из-за удаленности от столицы, назначил его надзирать за мобилизацией, приказал сбрить раскольничью бороду, подстричься и надеть мундир. Жалоба генералу Муромцеву действия особого не возымела, хуже того, начальник хоть и отпустил Алфея на Карагач, однако начал строить ему козни — не выплачивал суммы, отпущенные на выполнение задания, задерживал или не отсылал в Петербург донесения, а впоследствии и вовсе оборвал связь с генералом Муромцевым. Скорее всего, прочитывая донесения строптивого штаб-ротмистра, этот сибирский вотчинник узрел свою выгоду и выслужиться вздумал. Поэтому в омских архивах и скопилось столько материалов по работе Сорокина. А генералу корпуса жандармов, видимо, было уже не до Стовеста, впрочем, как и самому государю.
И когда Алфей это понял, попросту можно сказать, дезертировал и остался на Карагаче вплоть до начала семнадцатого года. Верно, точно зная срок, он дождался февраля и в период демократии Керенского, в перерыве между революциями, преспокойно вернулся в переименованную уже столицу, собрал вещички и отбыл в Швецию. Это уже потом судьба занесла его в Канаду.
Дворецкому не удалось установить, с какими результатами Сорокин закончил свои розыски Книги Пророчеств на Карагаче, да пожалуй, об этом, кроме него самого, никто не знал и знать не мог. Однако судя по тому, что его правнук, дождавшись перемен в России, немедля явился, принял гражданство и взял в аренду бывшие поселения старообрядцев, Стовест до сей поры находился где-то здесь.
По крайней мере, сам профессор, а с ним и Лиза были в этом уверены.
Выговорившись лишь на рассвете, она после пяти кружек черного кофе забралась в спальник и уснула.
Рассохин еще долго бродил по мысу, прислушиваясь к ночным шорохам и звукам; этот древний берег реки был островом, отрезанным разливом и с тыла, однако его не покидало чувство тревоги. Как и на стане золотоносной речки в былые времена: то казалось, кто-то крадется, то вдруг отчетливо доносился плеск весла и шорох кустарника о борт лодки.
Он доверял своему предчувствию, и как оказалось, не зря: в половине пятого утра, когда костер угас и восход залил воду розовым, Стас увидел, как с реки по разливу беззвучно скользит облас. По-разбойничьи сунув топорик за пояс, он затаился за кедром и стал поджидать. Долбленка шла точно к мысу, и когда оставалось сажен пять, Рассохин наконец признал гребца — Христофор!
— Завернул на огонек, — проговорил тот негромко, словно зная, что его слушают. — Ну выходи из-за кедры-то…
У Рассохина затылок ознобило мистическим холодком — сквозь дерево огнепальный узрел, потухший костер увидел.
— А я тряпицу на куст не привязывал, — сказал он. — Знака тебе не давал.
— Коль надобно, так и без тряпицы найду. — Христя причалил к берегу бортом и не по-стариковски ловко, с винтовкой в руке выскочил на сушу, размял ноги. Рогатина оставалась в обласе.
— Что-то случилось?
— Да не, паря, не случилось. — Достал котомку из обласа. — Посижу у тебя, чайку попью…
— Ради бога, — обронил Рассохин. — Пошли к костру. Только тихо.
Было достаточно тепло, поэтому палатку не ставили, а раскинули ее прямо на подстиле. Лиза спала на боку, прикрыв лицо накомарником, и пытливый глаз огнепального сразу же определил, кто в спальнике.
— Жена твоя, что ли? — прошептал он и, приставив винтовку к дереву, сел. — В мешке-то спит?
По убеждениям кержаков, мужчина не мог путешествовать вдвоем с чужой женщиной; это должна была быть или мать, или сестра, или супруга.
— Жена, — подтвердил Рассохин мимоходом, распаливая костер.
— Откуда взялась? — с лукавой простотой спросил Христя. — На соре не было…
Его пытливость сразу же насторожила.
— Приехала, — бросил Стас.
— То-то мне и сказали, мол, Рассоха по Карагачу вверх пошел, с женой. А я думаю, откуда жена, коль ранее не видал?
— Проверить захотелось?
Огнепальный достал из котомки котелок, не спеша сходил за водой, повесил над костром. И как будто бы забыл, что у него спросили.
— И куда чалите? — поинтересовался он.
— Ты же знаешь — на Гнилую.
— Чего здесь встали ночевать? Худое место…
— Почему худое?
— Дак сыровато в кедрачах, паря, а жену на землю спать положил. Сам-то помнишь, каково бывает, коль на сыром поспишь? Тепло ешшо обманчиво…
— Спальник пуховый, а снизу клеенка, — объяснил Рассохин, гадая, чего ему надо. — Не промокает.
— Первая-то жена у тебя померла? — вдруг как-то утвердительно спросил огнепальный. — Та, что из больницы тебя забирала? Вроде Анна именем?
Можно было подумать, он примеряет к нему свои кержацкие обычаи, где с женой живут до самой смерти и не имеют понятия разводов, но в тоне его была уверенность знающего человека, — ему было известно даже имя!
— Ты что же, следишь за мной? — усмехнулся Стас. — По пятам ходишь?
— Разве за тобой уследишь? — тихо засмеялся Христя. — Люди говорят. Только надо уметь слушать… А эту-то давно ли взял? Вроде молодая…
— Слушай, Христофор, тебе что нужно? Что ты все выпытываешь?
— Будет тебе, паря, выпытываю… — Он вынул из котомки мешочек с травяной заваркой и насыпал в закипающую воду. — Я чтоб разговор составить, беседу. Не молча же сидеть? Уж больно ты тёркий стал…
— Какой?
— Тёркий! Пугливый, значит, подозрительный. Тёрка — рыбка такая, ни за что не поймаешь. Да зато сладкая! Любопытно мне порасспрашивать, как живешь. Поди, не чужой ты на Карагаче, и мы эвон уж сколь знаемся…
— Мне тоже любопытно, что за люди на Карагаче живут. — Рассохин перехватил инициативу. — Расскажи-ка мне, что это за община на Гнилой поселилась? Раз ты все тут знаешь. Что за отроковицы такие?
Огнепальный помешал деревянной ложкой кипящий чай и добавил туда горсть мелких сухарей.
— Дак скажу… По нашему — беглые женки.
— Что они здесь делают?
— Прячутся, паря. Тоже тёркие, боязливые.
— От кого прячутся?
— Как тебе сказать?.. Они ведь от власти анчихристовой бесноватыми сделались. А ныне ей конец близится, власти-то, светопреставление грядет. А женки — они наперед чуют, вот и бегут, чтоб спастись.
Христофор достал черную от копоти алюминиевую кружку, налил туда чаю с сухарями и поставил студить.
— Ты откуда узнал о светопреставлении? — спросил Рассохин.
— Люди говорят… Бесноватые женки, они как птицы, чуткие. Думают, под кедрой пересидеть геенну огненну. А когда земля очистится, выйти и, Еве уподобившись, вновь людей наплодить.
— Кто же ими управляет? — спросил Рассохин.
— А ведьма, — просто определил огнепальный. — Змея подколодная.
— Слышал, они называют себя последователями твоего толка?
— Называться-то никто не претит…
— Сорокин у них бывает?
— Раньше часто бывал. Теперь глаз не кажет…
— Кто он такой?
Огнепальный поднял с земли кружку, подул на чай и отхлебнул.
— Ой, добро, паря… — ушел от ответа. — Силы дает! Посудинку дай, дак налью? Не побрезгуй… Выпьешь, и сразу хвост эдак распушается, ровно у глухаря на току…
А сам все косился в сторону спящей Лизы, причем как-то настороженно — Рассохин делал вид, будто не замечает его интереса.
— Нет, я уже пил чай…
— Это же не чай, паря, это взвар. Как раз для молодой жены! — и хохотнул с намеком. — Может, она будет?
Сказал нарочито громко, чтобы разбудить, и Лиза услышала — или не спала, поскольку скинула накомарник с лица, села и сказала:
— Здравствуйте.
Христофор глядел на нее секунды три, после чего вскочил, выплеснул свой взвар.
— Ой, беда! Чего сижу у вас? Меня ведь жена кличет!
Подхватил котомку, винтовку и, ни слова более не говоря, потрусил к обласу.
Котелок остался над костром.
— Эй, ты что? — вслед крикнул Стас. — Ты куда?
— Пора мне! — откликнулся хрипло и без оглядки. — Жена уж голосит!
На берегу брякнул прикладом о борт обласа, затем забурлила вода под веслом — как ошпаренный помчался.
— Что это с ним? — изумленно спросила Лиза.
Она сидела в спальнике, как в пакете, одна голова на воле.
— Кажется, тебя увидел и сбежал, — отозвался Рассохин.
Он вышел на берег — огнепальный гнал облас через залитую пойму к Карагачу, и греб так, что только весло сверкало.
— Кто он такой? — с интересом спросила Лиза, когда Рассохин вернулся к костру.
— Христофор, из огнепальных…
— Тот самый?! Который помогал выкрасть маму?
— Тот самый.
— Проснулась, вы разговариваете. — Она выпросталась из мешка. — Про бесноватых жен слышала, про антихристову власть… Это какую власть он имел в виду?
— Всякую…
— Зачем приезжал? Странно…
— Думаю, на тебя взглянуть хотел.
— На меня? Не может быть. Как он узнал, что я приехала?
— На Карагаче слухи летят быстрее мысли. Он хотел убедиться, ты ли это. И убедился.
— Смысл? Тоже украсть? Но это смешно!
— Думаю, письмо от мамы как-то с этим связано. Тебя зачем-то заманили сюда. Может случиться все что угодно.
— Это ты меня пугаешь, да?
Рассохин огляделся — вроде тихо. И все равно неспокойно.
— От меня ни на шаг.
— Ты серьезно? — Лиза рассмеялась. — Я не пойму. Неужели ты и впрямь считаешь, меня могут похитить?
— Могут.
— Сам говорил, сейчас мужчин воруют. Это тебя надо охранять! Подъезжаем к стране Амазонии…
— Твоя мама была такой же беспечной, — нахмурился Рассохин. — Почему Христя так поспешно бежал? Этому же есть причина!
— Да, кстати, а как он нас нашел? — опомнилась и удивилась она. — Я же выбрала место. С реки нас не видать, даже огня…
— Вот поэтому буду сопровождать тебя всюду!
Ей все еще было весело.
— И когда я пойду, пардон, по острой необходимости?
— По острой и тупой.
Лиза погрустнела.
— Ты у него не спросил, где теперь мама?
— Не успел…
Они собрали вещи, сложили в лодку и отчалили — на воде, в лодке с мотором, казалось надежнее, хотя не покидало чувство, будто с берегов кто-то наблюдает. Солнце поднялось уже высоко, когда проскочили далекий сосновый бор кержацкой златокузнечной мастерской на Зажирной Прорве. Это место было ключевым во всей экспедиции, поскольку кроме собственно поселения было еще несколько скитов, и все вокруг одного озера. Рассохин считал, что здесь бочки с книгами не закапывали, а топили в прорубях, поэтому Бурнашев вез вместе с прочим оборудованием два акваланга. Правда, дайвингом занимался только продвинутый бизнесмен Колюжный, и без него подходить к ним даже нельзя — таков был наказ.
Кривой залом еще был на плаву, в верховьях воды заметно прибавилось, и Рассохин сразу же узрел пробитый в прибрежном тальнике обход по пойме, которым пользовалась Матерая со свитой — больше тут никто не ездил. Пока огибали преграду по разливам, дважды намотали на винт прошлогодней травы и уже на выходе из поймы сорвали шпонку, наскочив на топляк. Каждый раз, когда Стас глушил мотор и устранял неполадки, вдруг наступившая тишина казалась напряженной, обманчивой. К тому же вспомнилось, что такое же чувство он испытывал и раньше, когда сплавлялся с Юркой Зауэрвайном на обласах. И были случаи, за ними и в самом деле кто-то наблюдал с берега: мелькнет что-то в кустах, похожее на одежду, или остановишься ночевать — кажется, будто зверь ходил ночью вокруг палатки, посмотришь, а на грязи не медвежьи лапы — след от бродней…
Может, штаб-ротмистр Сорокин и впрямь вплотную подобрался к Стовесту, однако взять не смог или не захотел, зная, что здесь ему самое надежное место, чем где-либо, особенно в эпоху революций — отлаженная и веками проверенная система хранения. И пробыла Книга Пророчеств на Карагаче вплоть до тридцатого года, пока не началось сселение.
А что, если в НКВД знали об этом и шли не сгонять старообрядцев в колхоз, а конкретно за Книгой Ветхих Царей? Пророческие предсказания могли вполне понадобиться и советской власти, партии большевиков, мировой революции. Они, как всякая молодая идеология, изучали всякий опыт человечества, дабы впоследствии вычленить удобные для себя моменты и применить на деле. На самом-то деле нет на земле ничего нового. Тогда выходит, толк погорельцев возник из молчунов, которые хранили Стовест. Вероятно, с расколом образ жизни их изменился, стали заводить семьи, грубо говоря, размножаться — и в результате сотворился целый толк, однако же сохранивший старую традицию — после сорока принимать обет молчания и уединяться в потаенных скитах. Скорее всего, они повязаны некой клятвой перед своими предками — во что бы то ни стало спасти книгу, и самое главное — умение по ней предсказывать. Почему они не оказали сопротивления, когда карательный отряд шел по Карагачу? Почему в сети НКВД попали старики, женщины и дети? Где в это время были мужики? На промысле? Но ведь не в соседней же области, где-то неподалеку от своих поселений, а проверено: молодой кержак на лыжах за сутки может пробежать сто семьдесят километров. Молва же у них неким чудесным образом распространяется еще скорее…
Толк огнепальных — это боевая команда людей, связанных присягой, поэтому ее члены незримые, неуловимые и вездесущие, возникают ниоткуда и исчезают в никуда. Опыт конспирации у них несколько столетий! Потому и обычаи не похожи на обычаи иных староверов, например красть невест, жить скрытно, не сообщаться с внешним миром. Даже молятся они как-то иначе: в землянке Христофора, помнится, не было ни икон, ни книг. А то какого бы рожна, не принадлежи он к этой закрытой команде, и доныне бы рыскал по Карагачу, при этом еще, лукавый, предлагая услуги проводника!
Завел бы, как Иван Сусанин…
В таком случае Книги Пророчеств нет ни в ямах, ни на дне озер. Огнепальные мужики вынесли ее из поселений и скитов в тайгу, как только отряд пошел по Карагачу. Они точно знали, зачем идут энкавэдэшники и, видимо, поэтому надеялись — стариков, детей и женщин не тронут. Все население кинулось спасать домашние библиотеки, рыть ямы в подполах, рубить проруби и засмаливать бочки с книгами, к коим у них отношение трепетное…
И карательным-то отряд стал лишь потому, что Стовест вместе с хранителями исчез; чекисты мстили за свою неудачу, срывали зло. А мужики тем временем попрятались в укромных местах, возможно, заранее приготовленных, и впоследствии из молчунов превратились в огнепальных…
С такими мыслями Рассохин и ехал в Гнилую Прорву, и дорога показалась короткой, а Лиза, наговорившись ночью, охрипла и всю дорогу молчала.
Поселка не существовало. На месте пожарища выросли высокие березы, над которыми кружил сокол-сапсан, и узнать место можно было только по уцелевшей стальной опоре на берегу: когда-то свет с паровой электростанции подавали в женский лагерь, расположенный на противоположной стороне реки. И все равно Рассохин причалил сначала к месту, где стоял дом геологоразведочной партии и где однажды ночевала Женя Семенова.
Весь обрыв был испещрен норками береговых ласточек, которые сейчас беззвучно кружили над водой, и сокол, видимо, охотился за ними.
— И где же здесь живут амазонки? — с интересом спросила Лиза.
— Там, — указал он на другой, полузатопленный берег с чистой горловиной протоки старого русла.
— Почему мы остановились тут?
— Чтобы нас увидели. И вышли встречать.
— Мы разве к ним не пойдем?
— Сначала побеседуем с Галицыным. Там сориентируемся.
Звук двигателя уже наверняка услышали и в любом случае должны посмотреть, кто посмел явиться во владения хозяйки Карагача. И на самом деле, через несколько минут взревел лодочный мотор, и из протоки вылетела дюралька с мужской фигурой в камуфляже и бандане — похоже, один из свиты. Он выписал круг, словно осматриваясь, сбавил обороты и приткнул лодку рядом, не выключая двигателя.
— Узнал? — спросил его Рассохин.
— Узнал…
— Вези сюда Галицына.
Тот даже не кивнул, включил заднюю передачу, отплыл на середину и оттуда уже умчался в протоку.
— И этот странный какой-то, — напряженно проговорила Лиза. — На бандита похож…
Ждали сидя в лодке около получаса, но со стороны женской зоны не доносилось ни звука — вероятно, совещались. Елизавета принялась было рассказывать о послереволюционных похождениях штаб-ротмистра Сорокина, как он из Швеции перебрался в Канаду и тут нашел своих раскольников — духоборов, тех самых, что Лев Толстой отправил за океан. И уже снова увлеклась историей Стовеста, но вдруг примолкла и предложила не ждать, а самим поехать к амазонкам — Рассохин этого и слышать не хотел.
— А если ночевать придется? — спросила Лиза. — Здесь как-то неуютно…
— Там будет уютно? Среди сорока отроковиц?
— Зато интересно!
— Найдем другое место, — пообещал он. — Сейчас разведем костерок и сварим чайку из смородины.
Он прихватил рюкзак, поднялся на берег и помог взобраться Лизе. Дом, в котором так и не удалось пожить, сгорел до каменного фундамента, и внутри сквозь ржавые железные кровати и прочий металлический хлам уже выросли березы. От поселка на двести домов остались развалины каменной пекарни, на другом конце — электростанции да обугленные столбы с проводами. И ни золы, ни головней, как на пожарище, сам береговой взлобок вообще чистый, первозданный, и только стрижи реют над водой. Скорее всего однажды уровень воды поднялся такой, что Гнилую затопило и смыло все следы пепелища. Даже дров найти — и то оказалось проблемой, кое-как набрали мелкого хвороста, разожгли между двух камней и поставили котелок. В самом деле, сразу стало уютно, спокойно, однако идиллию вдруг нарушил сокол: куда-то исчезнувший из виду, он вдруг стремительно вылетел из-за берез, ударил стрижа на лету, подхватил у самой воды и молниеносно скрылся в кронах.
— Экологически чистое место, — заключила Лиза. — Где-то здесь гнездо сокола… А мама здесь была?
— Даже ночевала, — отозвался Стас. — Вот здесь дом стоял, новый, брусовой. Мне там квартиру дали…
— С тобой в квартире?
— Одна, я в бараке жил.
— Ты ее на постой пустил? — язвительно спросила Лиза.
— Вроде того. Она сначала к Репе заселилась, а он приставать стал. И в глаз получил…
— Какое целомудренное время было! — мечтательно произнесла она. — Люди здесь страдали, влюблялись, рождались и умирали. Теперь и не подумаешь…
— Все одичало. Будто никогда и не жили. Напоминает сгоревший корабль…
— Нет, есть примета!
Лиза указывала на провода, где, словно ноты на нотной линейке, сидели ласточки — городские, с раздвоенными длинными хвостами, правда, почему-то молча.
Прошло еще более часа. Успели сварить чай, разогреть тушенку и первый раз за весь день стали есть, однако никакого движения на реке не наблюдалось. В женской зоне стучали топоры, молотки и скрипели выдираемые ржавые гвозди — разбирали старые постройки. Рассохин, как и в былые времена на Карагаче, часто вертел головой, озирался, однако приближения этих двоих не заметил и не услышал, а увидел, когда они уже стояли в пятнадцати шагах от костра: безбородый, однако с косичкой, мужчина лет сорока и с ним женщина такого же возраста, завязанная до глаз платком. Оба одеты по-таежному, в выцветших и черненных кедровой смолой брезентовых куртках, в кержацких броднях, за спинами — берестяные пестери, с которыми ходят по грибы и ягоды.
Глядели вроде бы по-кержацки, без всяких ярко выраженных чувств.
— Доброго здоровья, — по-мирскому поздоровалась женщина. — Хлеб да соль.
Мужик только смотрел и молчал.
— Благодарствую, — напряженно отозвался Рассохин. — Давайте с нами?
Они приблизились к костру, сняли пестери и сели на землю, подвернув ноги, как в обласе. И оба уставились на Елизавету.
— Нас твоя матушка послала, — негромко проговорила женщина. — Велела к себе привести.
Лиза вскочила, глянула на Рассохина и спросила у него же:
— Какая… матушка?
— Твоя родная матушка, — ответила та. — Ты ведь Елизавета?
— Елизавета…
— Письмо тебе писала, наказывала в гостинице ждать. А ты сама на Карагач пришла.
Рассохин взял ее за руку, усадил рядом с собой.
— Сначала скажите-ка, посланцы, — набираясь ярости, словно электричества, напряженно вымолвил он, — вы кто будете?
Гости переглянулись.
— Он именем Демиан, — представила женщина. — А я жена его.
— И все?
— Так спрашивай, ответим.
— А какое отношение имеете к ее матери? Кто вы ей?
Ее сухопарый Демиан стоически молчал, не отводя пристального взора с Лизы.
— Да живем мы вместе, — объяснила его жена. — В одном скиту.
— Значит, мама жива?! — словно очнувшись, встрепенулась Лиза.
— Жива. Ты собирайся-ка, Елизавета, и пойдем.
— Она никуда с вами не пойдет! — жестко заявил Стас. — По крайней мере, без меня.
Демиан наконец-то отвел взгляд, пощурился на солнце и вытянул натруженные ноги.
— Ты, должно, Рассохин? — утвердительно спросила женщина.
— Рассохин.
— Мы так и думали… Тебя она не звала. Велела лишь Елизавету привести. Воля матери.
— Почему сама не пришла?
— Болеет…
— Я пойду! — Лиза засуетилась. — Сейчас соберусь и… Я везучая! У меня есть талисман!
Он грубовато схватил ее за руку и вновь усадил.
— Тебя обманывают! Не пойдешь.
— Что ты — обманывают? — слегка возмутилась женщина. — Грех эдак говорить… Поди знаешь, она письмо писала, когда занедужила. Демиан отсылал.
— А ты почему молчишь… посланец?
— Он глухой у меня, от простуды, — смиренно глянув на мужа, проговорила она. — Немтырь, но понимать понимает… Ты же, Елизавета, помнишь материну руку?
— Это писала не она! — заявил Рассохин.
— Как — не она? — чего-то испугалась Лиза. — Ты же говорил, похоже…
— Не хотел тебя разочаровывать…
— Нет, Стас… Но вот же люди, они знают!..
— Я не знаю, кто эти люди! Только прошу, не верь им. Твоей мамы давно нет в живых.
Она ослабла.
— Почему… нет?..
— Потому что она убита, — сквозь зубы выдавил он. — И все! Разговор окончен. Ступайте отсюда.
— Убита?!
Немтырь будто бы услышал, выкатил сухие, чуть кровяные глаза.
— Что это он такое говорит-то? — обескураженно проговорила его жена. — Как же — убита? Обезножила только, суставы ломит…
— Откуда ты знаешь, Стас?
— Я это видел сам, и Христофор подтвердил. Не нужно больше обманывать. Не буду спрашивать, кто вас послал и зачем вы заманили сюда Елизавету. Не хочу… Идите!
Лиза вдруг заплакала, уткнувшись ему в плечо.
Пришедшие опять переглянулись, молча встали и подняли свои пестери.
— Ты не плачь, Елизавета, — сказала женщина. — Матушка твоя жива. Должно, Рассохин ошибается или пускать тебя не желает. Сама-то подумай, с чего бы мы за тобой пришли, коль не посланы были?
Немтырь согласно покивал и помог жене просунуть руки в лямки.
— Никуда не пойдешь! — насупившись, приказал Рассохин. — Уговор помнишь?
— Как надумаешь, вон туда приходи. — Женщина невозмутимо указала на другой конец сгоревшего поселка, где торчал остов электростанции. — Мы тамо-то будем. Отдохнем с дороги…
Посланцы закинули пестери за спины и побрели по свободному от прошлогодней травы краю берега.
Лиза проводила их взглядом, достала платочек и вытерла лицо.
— Ничего не понимаю, — проговорила, сдерживая всхлипы. — Почему тогда они говорят — жива? Зачем?
— Увести тебя хотят.
— Но зачем я им? Совершенно незнакомые люди! И на вид добрые…
— Они все здесь на вид добрые…
— Это кержаки?
— Поди разбери. Нынче тут народ всякий. Вроде похожи, но говор не такой, и мужик без бороды. Молчун, что ли?
— Мне почему-то страшно. — Она прижалась к плечу. — И почерк не похож?
— Нет.
— А ты знаешь, кто маму убил?
— Знаю.
Лиза посмотрела ему в лицо.
— Кто?
— Я.
Она даже не вздрогнула, не отстранилась, только потупилась.
— Так я и подумала…
— Был больной, в бреду…
— Зачем ты оправдываешься? Сказал бы раньше, и все…
— Просто сказать — и все?!
— Я догадывалась. Ты все время прятал глаза, когда вспоминал маму. Еще когда я приезжала к тебе в Москву. Сначала подумала, у вас с ней что-то было. Потом поняла.
Ему стало холодно.
— Тогда хотел признаться, но сам еще не верил. Тридцать лет сомневался… Христофор позавчера подтвердил. Потом это письмо…
Лиза помолчала, прислушиваясь, затем отпустила его руку и отстранилась.
— Когда я думала о маме… О ее жизни, о смерти… Почему-то казалось, ее убили из ружья.
— Из винтовки.
— Ну, из винтовки… Я была маленькая, когда папа чуть в нее не выстрелил. У нас на даче, где жили ласточки. Он наставил ружье и держал на взводе…
— За что?
— К маме пришел дядя Валера, младший брат папы… — Она проглотила ком. — И они… послали меня смотреть, как ласточки вьют гнездо. А сами… в общем, понимаешь, что делали. Я в окошко подглядывала. И тут неожиданно приехал папа, откуда-то с международных соревнований. Хотел сделать сюрприз… Я так кричала… Дядя Валера на колени встал, а мама нисколько не испугалась. И папа выстрелил в пол. Хотел сначала обоих и себя. Я после этого стала заикаться.
— Она ничего не боялась…
— Папа звал ее — оторва… А меня возили к гипнотизерам.
— Меня тоже. И еще жена лечила, лучше всякого психотерапевта.
— Но мама же красивая была? Очаровательная?
— Очаровательная блудница… И походила на Афродиту.
— По таким мужики с ума сходят.
— И я сошел…
— Но ты же ее не любил?
— Всю жизнь думал… Это не любовь, это жажда обладать ею, страсть…
— Эгоистическое мужское чувство.
— У женщин это тоже бывает.
Рассохин померил шагами сыпучий яр, долго глядел на немое парение береговых ласточек над водой и наконец-то услышал звук взревевшего мотора возле женской зоны.
— Сейчас поговорю с Галицыным, и возвращаемся в Усть-Карагач, — заявил он. — Провожу тебя в аэропорт.
Лиза смерила его взглядом, сказала с вызовом:
— Я никуда не улетаю.
— Но тебе уже нечего больше искать на Карагаче.
— Позволь мне решать, где быть и что искать.
Стас услышал жесткую решительность в ее голосе и промолчал, думая про себя, что все равно никуда ее не отпустит. Разве домой, в Питер…
— А что теперь станешь делать ты? — чуть смягчилась она.
— Останусь здесь.
— И станешь искать книги?
— Нет.
Ее что-то встревожило.
— Насовсем, что ли? Стас?
— Прости… Если можешь.
— Ты что придумал? Посмотри на меня!
— Как говорят, тут и разошлись их дороги. — Он отвернулся. — Ты же понимаешь…
— Понимаю…
— Мне нельзя возвращаться. Да и не хочу никуда больше.
Лиза подбросила в костер хвороста — просто чтобы занять руки.
— Ладно… Если ты убил, почему не сидел в тюрьме?
— Доказать не смогли. Нет трупа — нет преступления…
— Ты скрывал? Доказательства?
— Я пришел с повинной, долго искали… И ничего.
— Как же ты станешь жить? Где?
— На Карагаче. Мне тут самое место. А ты уезжай.
На другом берегу наконец-то затарахтел мотор. Лиза послушала, спросила:
— Ее где похоронили?
— Не знаю… Христофор сказал — утопили в болоте. По их обычаю…
— Это что за дикий обычай?
— Они так хоронят блудниц и воров.
Хворост сгорал почти мгновенно, а Лиза все бросала и бросала. И вдруг выпрямилась решительно:
— Мне надо встретиться с этим Христофором! Сама спрошу!
— Это можно, — обронил он. — Вот эту ленточку на куст привязать, сам пожалует…
Лиза взяла ленточку, поиграла ею и, выбрав березку на берегу, привязала.
В это время из истока старицы показалась лодка. Стас вскинул бинокль: Галицын стоял в позе Наполеона, завернувшись в офицерскую плащ-накидку — ветер трепал полы…
На сей раз моторка пилила на малых оборотах, чуть наискосок, борясь с течением, вероятно, чтобы дать возможность полковнику осмотреться. Едва лодка ткнулась носом в берег, как из протоки вырвались еще две дюральки — по трое человек в каждой. Одна пошла вниз, другая вверх: похоже, в лагере амазонок сыграли тревогу и теперь или отрезали Рассохину пути к отступлению, или проверяли, не привел ли с собой ОМОН…
Галицын за прошедшее время заметно похудел, однако же спортивной формы не набрал и запыхался, пока выбирался на берег.
Рассохин долго готовился к этой встрече, прикидывал варианты разговора, подбирал слова, аргументы, но все получилось как-то спонтанно, поскольку перед ним оказался совсем иной человек, и в первый момент было трудно определить, что изменилось. Полковник так же выпирал вперед волевой подбородок, глядел чуть свысока, надувал пухлые губы и даже говорил, как прежде, полушепотом.
И вдруг увидел — глаза были отстраненно-счастливыми, как у сумасшедшей отроковицы.
Ладно — прибившаяся к острову учительница младших классов, несчастная и отверженная женщина, от тоски и одиночества готовая поверить в спасительную сень Кедра, искать гармонии с природой, жить в умозрительном мире; но тут — искушенный, циничный полковник, хладнокровный комбинатор, пробыв в общине всего-то около месяца, превратился в блаженного…
Играть так невозможно, даже имея богатый оперативный опыт. Неужто и впрямь другое сознание?
И по тому, как моторка отчалила, высадив Галицына, можно было понять, что в контроле не нуждается: Матерая уверена — на уговоры не поддастся и никуда не уедет. Можно было сразу взять с него расписку и отправляться к Репнинской Соре, где рыбачила опергруппа…
По крайней мере, хоть здесь была бы совесть чиста…
Показалось, Рассохину полковник обрадовался, отпыхиваясь, как-то ритуально пожал запястье.
— Как хорошо, что приехал! — произнес восторженно. — Мы ждали. Но почему один?
— Я не один. — Рассохин глянул на Лизу.
— А, понимаю. — Заулыбался и благодушно закивал. — Какая очаровательная отроковица. Кто она?
— Моя спутница.
— Где Бурнашев? Где мой сын?
— Едут на машине, с оборудованием. Кстати, ты зачем его вызвал, даже не посоветовавшись со мной?
— Ромку же спасать надо! — чего-то испугался полковник. — Он погибает!
— Заболел, что ли?
— Да, заболел! И болезнь эта заразная, как чума, как оспа. Только обезображивает не лицо, а душу!
Еще месяц назад Рассохин в дурном сне не мог увидеть подобного: матерый опер заговорил, как священник, куда и мат делся, сопровождающий каждое предложение.
— Твой сын возмутился по поводу продажи дачи. Это же у вас единственное жилье, все-таки дом…
— Теперь наш дом здесь, на Карагаче, — оглядываясь на Лизу, признался он. — Я не отпущу его в мир.
— Ты все-таки решил остаться в общине? — словно с больным, заговорил Рассохин. — То есть теперь ты не с нами и зовут тебя — Яросвет?
Галицын вдруг приложил палец к губам.
— Тихо, ни слова больше… Отойдем в сторону.
— У меня от спутницы теперь секретов нет.
— Это разговор посвященных.
Лиза осталась сидеть у костра — одинокая и безучастная согбенная фигурка, сложенные на груди руки и взор себе под ноги. Возможно, от ее такого потерянного вида Рассохин ощутил подступающую ненависть к блаженному и счастливому Галицыну. И еще чувство разочарования: уже больше ничего не нужно — ни экспедиции, ни зарытых книг, ни даже Стовеста, по которому, наверное, можно предсказать и его судьбу…
— Сорокина на Карагаче больше не будет, — доверительно сообщил полковник. — Теперь мы единственные владельцы всех кержацких кладов!
И торжественно засмеялся, вызывая еще большую неприязнь.
— Поздравляю…
— Матерая примет вас с радостью и станет всем сестрой. Если бы ты знал, какая это женщина!
Лиза все еще ломала хворост и подбрасывала в огонь, уклоняясь от дыма…
Еще недавно Рассохин намеревался устроить жесткий спрос за все — за предательство команды, за то, что скрыл архивные материалы, потратил экспедиционные деньги по сути в своих интересах и, наконец, самовольно начал раскопки на Красной Прорве. Теперь же стоял, смотрел, и ничего не хотелось спрашивать.
— Ты сейчас поедешь со мной! — Полковник смотрел восхищенно. — Матерая прислала тебе личное приглашение на круг!
— Я не один.
— Бери с собой спутницу! Ей будет интересно. Нам всем будет интересно!
Прежде Рассохин общался с ним мало, и все равно сложился образ хваткого, практичного и оттого циничного человека, напрочь лишенного какой-либо лирики; этот напоминал бывшего милиционера лишь внешне, да и то с натяжкой, поскольку изменилась даже мимика.
— У вас что сегодня, праздник?
Он на минуту потерял Лизу из виду и забеспокоился, а Галицын заговорил взахлеб:
— Скоро будет круг! С заходом солнца… У нас каждый день праздник! Ты знаешь, что это такое? О!.. Мы собираемся под сенью кедров, на поляне. Сначала садимся на землю в позу лотоса. И каждый по очереди говорит все, о чем думал весь день. Все без утайки. Сперва конечно, трудно. Но потом возникает потребность высказать мысли вслух. Это потрясающая открытость! И единение! А потом мы снимаем одежды и ложимся в астру. И после душевной открытости телесная так естественна! Сначала начинается релаксация под шум хвои. Ты слышал, как шумят кедры?
Оказалось, Лиза что-то собирала в свежей, ярко-зеленой траве.
— А как же комары? — спросил Рассохин. — Не кусают?
— Мы втираем друг в друга кедровое масло, настоенное на маральем корне и лимоннике.
— Помогает?
— У тебя будет возможность это испытать. Просто улетаешь!
Рассохин достал блокнот и ручку.
— Пиши расписку.
— Какую?
— Добровольно остаешься в общине на Гнилой Прорве, претензий не имеешь. Только подписывайся не новым именем, а старым — Галицын.
— Кому это нужно? — изумился полковник. — Всем известно, я по доброй воле…
— Прокуратуре не известно. Тебя же разыскивают.
— Да, прокуратура, — что-то вспомнил он и чуть опечалился. — Я уже и забыл, что она существует на свете…
— Пиши.
— Разве ты… не поедешь со мной? Ты не хочешь пройти круг и испытать счастье?
— Хочу, да грехи не пускают. Я жду расписку.
— Под кедрами ты избавишься от грехов! Я тебя научу… А знаешь, что начинается на исходе релаксации? Такой медленный и плавный переход к тантрическому сексу. Уверен, ты ничего подобного не испытывал!
— Бурнашев приедет, — предложи ему, — хотел увернуться Рассохин. — Он любит всяческие опыты и согласится.
— Это естественно! Но ты нам нужен!
— Зачем? Не хватает мужиков?
— Скажу тебе по секрету, — зашептал полковник, — но это между нами. Матерая считает, только ты можешь выйти на пророчицу. Сорокин ее отыскал, и она ему открылась. Но с тех пор ни с кем больше не вступает в контакт… А ты сможешь, тебя знают огнепальные! Они же спасли тебя от смерти?
— Мне это дорого обошлось. Лучше бы и не спасали…
— Это была воля пророчицы! Велела воскресить тебя и прислала лекарей.
— Вот как? И кто же тебе такое сказал?
— Так ведь это всем известно! Сорокин даже в своей книге об этом написал. Ты не читал его откровений пророчицы?
— Разве она существует? Разве не Сорокин ее придумал?
Атавизмы прошлой жизни у полковника еще остались: он поозирался, склонился к уху и сказал гундосым шепотом:
— Это для непосвященных ее нет. Им и не нужно знать. На самом деле есть. Только пока никому… Ну, думай скорее. От тебя зависит очень много!
— Я найду пророчицу, а вы меня потом спишете на мыло. — Рассохин вспомнил исповедь блаженной Зарницы. — И все истины прикарманите.
— Ты что? Наоборот, ты возвысишься, станешь проповедником!
— Неплохая карьера… Если я не соглашусь, увезете насильно?
— Нет, у нас все по доброй воле, — явно чужими словами заговорил Галицын. — Человек делает выбор, и я его сделал. Теперь хочу помочь тебе. Всем вам! Это такая потребность.
— Спасибо за хлопоты…
— Погоди! Я же все о тебе знаю. Ты же неудачник. И бессребреник. Всю жизнь страдал комплексами, если не сказать больше. А здесь ты можешь реализоваться. Почувствовать себя вольным от обстоятельств, предрассудков и прочей суеты. Научишься радоваться! Мы живем так плохо оттого, что разучились чувствовать окружающий мир природы и человека. Мы не умеем искренне радоваться маленьким радостям. Надо сделать один шаг навстречу судьбе! Ты от нее всю жизнь бежишь. Ты все равно придешь к нам! Матерая обладает прозренческим даром! Видит потенциал всякого человека. И ты ее заинтересовал, она вернулась вдохновленная и на кругу поведала о тебе! Сказала, ты придешь под сень Кедра, рано или поздно.
— Лучше поздно. — Он вновь сунул ему блокнот. — Писать не разучился? С тебя расписка — и я отчаливаю.
Вероятно, Матерая отпустила его с наказом во что бы то ни стало вернуться с Рассохиным.
— Слушай, Станислав Иванович, может, ты на меня обижаешься? — опомнился полковник. — Я вел себя по-свински! Признаю, и все это теперь в прошлом, где я хитрил, ловчил, обманывал. Я ведь женой своей прикрылся, когда в тюрьму сажали. Знал, она деньги спрятала, закрутила целую трехлитровую банку баксов где-то на даче. Место примерно указала, просила достать и откупиться. Я их нашел, с помощью металлодетектора. И выкупать ее не стал. Побоялся, что меня заподозрят, мол, откуда деньги? Хуже того, на мне две смерти. Застрелил двух человек из табельного. Да! Они были преступниками, но какие законы они преступили?! Я рассказал о муках совести, о тайных мыслях и воспрял. Прошу тебя, выйди и ты на свой первый круг, освободись от мерзости мира!
Рассохину показалось, Галицын намекает на то, что знает об убийстве Жени Семеновой, и этот намек будто встряхнул его.
— Ну все! — отрезал он. — Яросвет, или как тебя… Пиши и вали на свой круг! Под сень кедра.
— Да, мир держит человека в когтях, — философски проговорил Галицын. — Тебя не влечет даже простое любопытство. Это нужно увидеть своими глазами, прочувствовать. Ну не понравится — уйдешь.
— Если не дашь расписки, прокуратура будет здесь. — Рассохин показал телефон. — Приедут злые: рыбалку им сорвешь. Звонить?
— Напрасно ты не послушал меня. — Он стал писать. — Матерая все равно тебя найдет. Перед ней не устоишь… Только предупреждаю, никаких поползновений. В смысле отношений, понял? Даже если она сама проявит инициативу.
Стас не удержался и подразнил Яросвета, в котором еще не был изжит частнособственнический дух.
— Это уж как получится, брат, — серьезно сказал он. — Мне нравятся инициативные отроковицы. А потом, у вас же там все общее…
Он выждал, когда полковник напишет, бегло прочитал и спрятал блокнот.
— Знаешь, как тебя местные кержаки называют? — мстительно спросил Стас. — Карась икряной. А ты говоришь — Яросвет… Ну иди икру метать!
Тот выкатил глаза, хотел что-то сказать, но с противоположной стороны неслась дюралька, а Рассохин уже был далеко. Галицын спустился под обрыв, подождал, когда лодка причалит, запрыгнул в нее и что-то прокричал вслед Стасу, но тот не расслышал.
В тот же час сняли и оцепление — обе лодки, ушедшие вверх и вниз, зашли в протоку. Все это Рассохин отмечал на ходу, потому что вновь потерял Лизу из виду и теперь скорым шагом возвращался к костру.
Никого! И в лодке нет!
— Лиза? — позвал он и сунулся к тому месту, где она что-то собирала в траве.
Там росла семейка распускающихся кукушкиных слезок. И кругом пусто, а с берегового вала просматривался весь сгоревший поселок…
Стас сразу же понял, куда она ушла, и побежал к руинам электростанции, красным останцем торчащей из березового подроста. Под ногами гремело изуродованное в огне еще крепкое кровельное железо, ловчими петлями тянулись упавшие со столбов провода, и поскольку он смотрел вперед, то все же упал, запнувшись о тяжелый фарфоровый изолятор. И когда вскочил, то увидел за кирпичными развалинами немого Демиана, стоящего по пояс среди прошлогодней травы. И сразу отлетела тревога…
Далее он шел уже шагом, аккуратно переступая через полузамытые детали от каких-то машин, гнутые рельсы и впечатанные в землю тракторные гусеницы. Немтырь оказался возле костерка один — стоял, оперевшись на палку, что-то жевал и глядел в огонь, над которым висел медный чайник. Его пестерь[38] стоял тут же открытым, а на полотенце лежало сушенное по-остяцки мясо, пучок свежей черемши и кусок калача. Он не слышал или не захотел услышать, как подошел Рассохин, ел нежадно и самозабвенно.
— Где? — спросил Стас, озираясь. — Жена твоя где?
Тот вскинул глаза, поморгал и указал палкой на старую гарь за поселком, заросшую густым осинником.
— Елизавета с ней? Ты меня слышишь? Елизавета?
Немтырь покивал головой, показал былинку черемши, ткнул ею в сторону осинника и засунул в рот.
— За черемшой ушли?
Он опять покивал и отщепил ножом волокнистое черное мясо.
Рассохин пошел в указанном направлении, выглядывая Лизу средь подроста, миновал заброшенные огороды с остатками кольев и впрямь увидел под ногами уже высокие заросли черемши. Машинально сорвал побег, съел, и показалось, между огарков елей мелькнул серый платок жены немтыря.
— Лиза? — крикнул он и прибавил шагу.
Среди черных пней колыхалась метелка прошлогоднего камыша.
Он метнулся влево, вправо, заметил торную тропку, наискось перечеркивающую гарь, — ничего подобного, лосиная тропа к реке! И пожалуй, после пожара здесь больше не ступала нога человека.
Обманул, сволочь!
Рассохин ринулся в поселок, к электростанции, наливаясь яростью: отвлек внимание, направил не в ту сторону, а сам смылся!
Ну ведь битый, стреляный волк, а провели, как пацана!
Демиан по-прежнему стоял у костерка и ужинал, и это его невозмутимое спокойствие как-то притушило гнев.
— Где Елизавета?! — Стас схватил его за куртку и резко встряхнул. — Куда ее увели? Ну?! Ты же, курва, слышишь меня!
Тот, как мешок, не делал попытки сопротивляться, чем обезоруживал и одновременно ввергал в тихое неистовство.
— Слушай, ты!.. Или скажешь, куда ушли, или я тебя кончу тут! Знаком покажи! Куда?!
Немтырь показал рукой, но теперь вверх по реке, однако по-прежнему стоически спокойно, разве что сухие глаза влажно заблестели. Рассохин вырвал у него из рук палку.
— Со мной пойдешь! Показывай! Иди вперед!
Демиан было потянулся за пестерем, но Рассохин отшвырнул его пинком.
— Налегке пойдем. Быстрей догоним.
Немтырь зашоркал броднями по траве, причем шел без оглядки, довольно уверенно, однако на краю поселка, где материковый берег понижался, стал забирать вправо и сбавил шаг.
— Быстрей! — приказал Стас и замахнулся палкой. — Бегом!
Немтырь почуял спиной, не глядя увернулся, но хода не прибавил. Возле старой, еще леспромхозовской смолокурни, невесть как уцелевшей от пожара, вдруг сел на землю и стащил бродень — время тянул, паскудник!
— Встать и бегом! — вытянул палкой по хребту. — Я кому сказал!
Было ощущение, что ударил по тяжелой боксерской груше — даже руки отсушило, а было в немтыре килограммов шестьдесят от силы, сухой, поджарый и разве что жилистый. Он как-то замедленно среагировал, чуть выгнул спину и потупился, будто от стыда.
— Ты что, не понял?! Быстро пошел!
В ответ он снял второй бродень и, размотав портянки, скрючил босые ступни.
Стас подцепил палкой за его подбородок, задрал голову.
— Ты же все слышишь? И понимаешь! Тебя оставили отвлекать меня? За нос водить? Ну?!
Немтырь неожиданно резко схватил Рассохина за ноги и рванул на себя с такой силой, что тот не удержался и рухнул на землю. В один прыжок Демиан оказался сверху, крутанулся и ловко зажал голову сгибом ноги, как клешней, из безобидного мешка вдруг превратившись в стремительную рысь. Стас был много выше ростом и весом, поэтому выгнулся, попытался сбросить его, но дыхание перехватило, перед глазами поплыли желтые пятна, и вывернуться сразу не получилось. Немтырь не душил, а лишь придавил и так удерживал, наверное, будучи уверенным в своих силах и борцовских способностях. Скинуть его, оторвать руками было невозможно, Стас лишь драл на нем куртку, а секунды бежали! Изловчившись, он сложился пополам, норовя кувыркнуться через голову, и случайно захватил ногами немтыря поперек туловища. Они опрокинулись набок, стиснутое горло на секунду высвободилось. Стас сделал вдох и одновременно поймал босую ногу противника. Опыт драк и потасовок у него был давний, мальчишеский, то есть почти никакой, но он интуитивно стал вертеть ступню вокруг оси, поскольку ничего другого уже не оставалось. И выворачивал сустав до тех пор, пока немтырь не обмяк и не обрел речь.
— Будя, ногу нарушишь…
Рассохин бросил его и вскочил. Тот же сел, опасливо ощупал ступню, пошевелил пальцами. Затем молча достал из кармана куртешки бумажку, не глядя протянул Стасу.
Это был листок из фирменной записной книжки Лизы, с логотипом глянцевого журнала.
И несколько коротких фраз скорописью: «Стас, пожалуйста, не ходи за нами. Не выслеживай и не ищи. Я тебя очень прошу. Иначе меня не приведут к маме».
Взмученная, поднятая из глубин ярость еще пузырилась в жилах вместе с пенистой кровью, толкала бежать следом, искать, действовать, но разум остывал быстрее. Рассохин пометался по сторонам и притулился к покосившемуся столбу разрушенной смолокурни, — Демиан привычно и аккуратно накручивал портянки и натягивал бродни. Встал, притопнул ногами, словно в дальнюю дорогу собрался, но не уходил.
Стас побрел назад, к Карагачу, и бывший немтырь поплелся следом.
— Тебе чего надо? — спросил Рассохин на ходу. — Пошел вон!
Тот не внял и, напротив, чуть ли не задышал в затылок.
— Ну что ты ходишь за мной? — Стас резко обернулся. — Тебя что, заложником оставили?
Но посланец уже вновь онемел…
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ
Урочище Красный Яр — д. Скрипино,
1999–2010 гг.
1
Залом — скопление сплавляемых россыпью бревен или дров, вызванное остановкой их движения; затор (здесь и далее — примеч. ред.).
2
Межень — ежегодно повторяющееся сезонное стояние низких (меженных) уровней воды в реках. В умеренных и высоких широтах различают летнюю и зимнюю межень.
3
Чернолесье — лиственный лес.
4
Карча — суковатый пень, ветвистый обломок, целое дерево с кореньями, подмытое и снесенное водою; замоина, замытое в песке под водою дерево, опасное для рыболовов и для судов.
5
Старица — полностью или частично отделившийся от реки участок ее прежнего русла.
6
Соры — мелководные, часто соленые озера с топким дном в Казахстане, на юге Западной Сибири, а также в поймах крупных рек; мелководные заливы озер.
7
Камералка — помещение для камеральной обработки материалов, собранных во время экспедиций и полевых изысканий.
8
Отшлиховать — от «шлих» — остаток частиц тяжелых минералов, получаемый при промывании рыхлых или измельченных горных пород и руд.
9
Блазнится — кажется, мерещится, морочит.
10
Заберег — лед, настывающий у берегов в заморозки.
11
Омшаник (зимовник) — утепленное помещение для зимовки пчел.
12
Меандры (от «Меандр» — греческого названия реки Большой Мендерес в Турции, отличающейся обилием извилин) — нарицательное название для обозначения речных излучин.
13
Аншлаг — щит с пояснительной надписью, установленный в лесу.
14
Паузок — речное плоскодонное парусное гребное судно, на которое перегружается груз из другого судна, не могущего перейти через перекат во время мелководья.
15
Баланы — бревна, приготовленные для сплава.
16
Молевой — вид лесосплава, при котором материалы транспортируются, не связанными между собой.
17
Подсанки — маленькие короткие санки, привязываемые на длинной веревке к большим саням при перевозке длинных предметов (бревен, досок).
18
Вскрыша — горные породы, пласты, удаляемые при открытой разработке полезного ископаемого.
19
Пазгануть (от сев. «пазгать») — разрывать.
20
Баланс (балансы, балансовая древесина) — круглые или колотые лесоматериалы небольшой длины и диаметра для производства целлюлозы и древесной массы.
21
Бутара — устройство для промывки песков россыпных месторождений золота, платины, алмазов и т. д.
22
Синклиналь — складка, образованная изгибом слоев горных пород, обращенная выпуклостью вниз.
23
Драга — плавучий комплексно-механизированный горно-обогатительный агрегат с многочерпаковым рабочим органом для подводной разработки преимущественно россыпей, извлечения из них ценных минералов и укладки пустых пород в отвал.
24
Шлих — золотоносный или платиноносный песок, подвергшийся просеиванию и промывке для удаления посторонних примесей.
25
Бьеф — часть водоема, реки, канала, расположенная по течению выше водонапорного сооружения (плотины, шлюза), т. н. верхний бьеф или ниже него — нижний бьеф.
26
Курья — продолговатый речной залив; заболоченный рукав рек; старое русло реки; залив, заводь.
27
Були — герметичные боковые наделки в кормовой части лодки, значительно увеличивающие как статическую, так и динамическую устойчивость судна.
28
Редан — уступ на днищах корпусов быстроходных судов и на поплавках гидросамолетов, уменьшающий площадь соприкосновения с водой при движении на высоких скоростях.
29
Гривы — невысокие, узкие, линейно вытянутые пологие возвышенности различного происхождения, отделенные ложбинами. Иногда гривы образуют скопления (гривистый рельеф). В пойме рек гривы возникают в результате миграции русла.
30
Урман — темнохвойный лес (пихта, сосна кедровая, ель) на приречных участках таежной зоны Западной и Средней Сибири.
31
Транец — плоский срез кормы шлюпки, яхты или другого судна.
32
Вица — прут, длинная ветка, лоза.
33
Марь — болотистая местность с большими кочками в тайге.
34
Облас — челн, легкая лодка-долбленка; речное грузовое судно.
35
Четверть — старорусская мера длины. Первоначально равнялась 1/4 сажени, затем — 1/4 аршина или 1 пяди (17,78 см).
36
Сеголетки — молодняк (рыбы, зверя) текущего года.
37
Канишка, император Кушана (78-123) — царь Кушанского царства, подчинивший почти всю Северную Индию. В буддийской мифологии — один из защитников и покровителей буддизма.
38
Пестерь — большая плетеная корзина, обычно носимая на спине.
