Книга: Мотылек
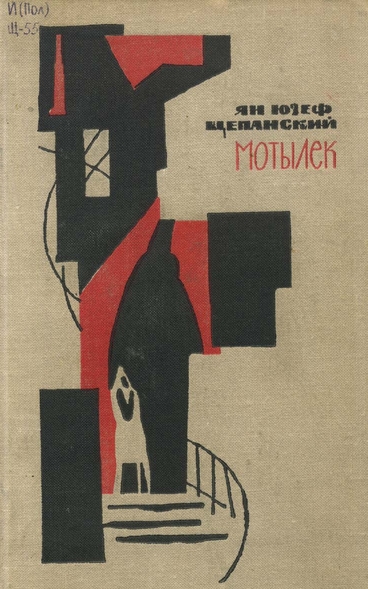
Мотылек
Он играл в дальнем углу сада, отгороженного от дороги живой изгородью из молодых елочек. Собственно, это был не сад, а часть луга с редко растущими деревьями, твердые корни которых извивались по земле, с ямками, вырытыми в песке курами, с множеством валявшихся в траве шишек и камешков. Все это было деревней, потому что над елочками виднелись покрытые темным лесом горы, а над ними — огромное небо и с дороги доносился запах конского навоза. Он любил деревню. В деревне много места и много животных, и все веселое и интересное. Вот и сейчас кто-то едет по дороге. Он подбежал к изгороди. Сквозь кривые ветви он увидел двух вспотевших, запыхавшихся лошаденок, тянущих в гору длинное-предлинное бревно с всаженным в толстый конец топором. Задние колеса под бревном так далеко находились от передних, что он не смог бы их нарисовать на одном листе бумаги. Ободья стучали по камням, спицы скрипели, а конец бревна забавно подпрыгивал. Рядом с лошадьми шел настоящий гураль [1] в выцветших суконных штанах, грязной рубахе и черной шляпе, украшенной красным ремешком с ракушками. В зубах у него была медная трубочка, а в руках длинный кнут, которым он только взмахивал, потому что настоящие гурали любят лошадей и никогда их не бьют. На мальчика пахнуло крепким конским потом и сырым, ободранным от коры деревом. Гураль подпер шкворень плечом и грубым, гортанным голосом закричал:
— Ло, гайт, гайт, — чисто по-гуральски.
Подпрыгивая, он вернулся в свой угол, где под черностволой сосной стал строить загон из палочек. В середине он поместил коров и овец. Коровы — это большие коричневые шишки, блестящие, как будто их кто-то почистил пастой. Волы — покороче и тверже, сероватые, с ощетинившимися жесткими чешуйками. Больше всего ему нравились овечки — маленькие, мягкие, влажные от смолы, со слипшимися зелеными лепестками, розовыми по краям. Он нежно гладил их кончиками пальцев и блеял: бэээ-ээ, бэээ-ээ. Вдруг он решил все изменить. Коровы будут простыми лошадьми, а те, колючие, — скакунами. Мягкие же зеленые шишечки — жеребятами. Жеребята останутся в загоне, потому что они еще маленькие и могут потеряться. А скакуны… Скакуны пусть себе скачут по лугу. Он взял одного и швырнул. Копавшаяся неподалеку курица с громким кудахтаньем шарахнулась в сторону. Это было так смешно, что он швырнул ей вслед вторую шишку. Скакун понесся как бешеный, тряся гривой, а курицы и след простыл. Исчезла за домом, и только издалека доносились ее крикливые жалобы.
Простые лошади будут возить бревна. Он положил на траву палку, а перед ней две коричневые шишки. Н-но, гнедые! Ло, гайт, гайт!
Тяжело лошадям тащиться в гору. Здесь пригодился бы кнут, чтобы щелканьем подбодрить их. Он огляделся вокруг в поисках прутика. И тут ему на лоб упала большая теплая капля. Откуда эта капля, если светит солнце? Но вот еще одна шлепнулась на руку чуть ниже локтя, и еще одна на колено. Дождь!
Он запрокинул голову. Раскаленное добела солнце по-прежнему полыхало вверху, слепя и обжигая зыбким сиянием, и от этого небо казалось темным, не голубым, а серым, и это серое небо поблескивало и даже слегка переливалось, как оцинкованное железо.
Капли косого дождя падали и падали ему на лицо, и он слышал, как они уже шелестят в кроне сосны. Если смотреть вверх, они совсем не видны, но стоит опустить голову — и они вспыхивают возле самых глаз, ярко сверкая на фоне деревьев и далеких гор, редкие и вовсе неторопливые. Стало как-то по-особенному приятно. Воздух пах свежестью воды и травы, все засверкало вокруг, стало чистым и отчетливым.
Он с беспокойством оглянулся в сторону дома. Конечно, бабушка прикажет ему, чтобы он сейчас же вернулся. Миха-ась! Миха-ась! Ему почти казалось, что он слышит этот зов, этот крик, смешно ломающийся в середине, начинающийся гулко из глубины груди и кончающийся пронзительным писком.
Нет, никто его не зовет. Из-за дикого винограда, оплетающего крыльцо, маячит светлое пятно. Белая летняя юбка в черный горошек прикрывает большой живот и бедра и неподвижно покоится на шезлонге. Он представил себе, как прекрасно спится бабушке под тихий шум дождя, шуршащего в листьях дикого винограда. У нее широко раскрыт рот, из-под несомкнутых век поблескивают белки, живот слегка поднимается и опускается, а из ноздрей вырывается равномерное нежное похрапывание. Ему совсем не нужно подходить близко, чтобы все это видеть.
Успокоившись, он вернулся к игре и стал выводить из загона жеребят одного за другим, весело бормоча:
Солнце светит, дождь идет,
Ведьма в ступе масло бьет.
Хоть бы было плохо сбито,
Чтоб пошло свинье в корыто! [2]
На травку, жеребятки, на травку. Не беда, что она мокрая. Хотите пить? Смотрите, какие прекрасные капельки!
А это что такое? Он отдернул руку и отпрянул назад. Ему показалось, будто сухой листок ожил и, став вертикально, медленно пополз по руке, щекоча ее. Только когда листок на минуту раскрылся и блеснули черно-коричневые крапинки на пушистом бархате, он увидел, что это мотылек. И вовсе он не прилетел, а пешком вышел из травы. Может быть, он болен? А может быть, у него где-то здесь домик и он только выглянул на минутку?
— Здравствуй! Где ты живешь, дорогой мотылек? Покажи, какие у тебя крылышки. Ну, покажи, покажи…
Он попробовал пальцем раскрыть его сухие сомкнутые крылышки. Мотылек присел на волосатых ножках, ухватился за руку, словно маленькими коготками.
— Ну покажи, не бойся. — И вдруг крылышки на мгновение опять раскрылись, как книга, и он увидел черно-коричневые или, пожалуй, черно-оранжевые крапинки на коричневом, кое-где вытертом бархате, обрамленном причудливой черной каемкой.
Он посмотрел на свой палец. На нем осталось немного серебристого порошка, как после убитой моли. Это была пыльца. Когда-то он слышал от кого-то, что она мотыльку очень нужна. А мотылек тем временем продолжал сидеть на запястье, и его плотно сомкнутые в прожилках крылышки слегка покачивались, точно парус над лодкой. Вдруг рядом с ним упала большая капля и разбилась на мелкие брызги.
— Намокнешь, — сказал он. — Не ходи под дождем. Простудишься, дорогой мотылек, и умрешь. Где твой домик?
Он внимательно осмотрелся вокруг, прикрыв мотылька от дождя, как навесом, другой рукой. Но долго держать так руку не смог. Она начала дрожать. К счастью, он заметил в траве, возле загона с жеребятами, круглое отверстие. Он видел не раз, как из таких отверстий вылетают толстые мохнатые шмели. Наверно, и мотыльки живут в таких же норках. Конечно, это и есть его квартира.
Все так же сидя на корточках, он придвинулся ближе к загородке и, согнув кисть, оперся ею о землю.
— Видишь, это твой домик. Иди спрячься. Как только дождь перестанет, ты выйдешь опять.
Но мотылек и не думал двигаться с места. Он сидел как приклеенный. Не помог даже легкий толчок пальцем.
— Какой же ты глупый. Ну, иди, иди, мотылек. Знаешь что? Я помогу тебе.
Он осторожно, двумя пальцами взял крылья у самого основания. Коснувшись этой беззащитной хрупкости, он почувствовал дрожь, похожую на отвращение. Мотылек отчаянно хватался ножками за его руку, нужно было немного дернуть, чтобы его оторвать.
— Отпусти, слышишь? Посмотри, глупышка: вот дверь в твой домик. Влезай! Нельзя ходить под дождем.
Отверстие было маленьким. Головка мотылька входила в него без труда, но крылышки не пролезали. Они качались из стороны в сторону, а ножки беспомощно перебирали воздух.
— Подожди.
Он обернулся и свободной рукой взял «бревно», которое тащили гнедые. Вот оно и пригодилось. Гнедые для того его и везли. Он стал палкой расковыривать дырку и очень был доволен собой. Если б не он, кто бы позаботился о бедном мотыльке? Довольный, он напевал:
Глянь на нас, Костюшко, с неба,
Трам-та-там-там, трам-та-там-там…
Еще немного, и все будет хорошо. Сейчас, сейчас, мотылек. Крылышки у него немного помялись, но он уже почти весь влезал внутрь. Мотылек, видимо, понял, в чем дело, и перестал перебирать ножками. Иногда одна из них слегка вздрагивала, но вообще он проявлял большое терпение.
— Ну вот и все, дорогой мотылек. Видишь, как хорошо?
Среди мокрых стеблей, на которых капли дрожали, как маленькие, полные солнца лампочки, из земли торчал кусочек перепончатой тонкой пленки в прожилках.
— Вползи чуть поглубже, — попросил мальчик, — там сухо. Знаешь что? Я тебе помогу.
Он осторожно подтолкнул мотылька палочкой. Когда он подтолкнул его во второй раз, словно ток прошел у него по руке — он уткнулся во что-то мягкое. Он отбросил палку, конец которой был выпачкан чем-то белым. У него, наверно, насморк, и это такой густой плевок, объяснил он себе. Но краешек крыла все еще высовывался из норки. Он взял плоский камень и прикрыл ее. Теперь на него не будет капать. Когда дождь пройдет, я его открою.
Он поднялся. Ноги от долгого сидения на корточках одеревенели. С волос на лоб и щеки стекали теплые струйки. Он задумчиво смотрел на лежащий в траве камень. Никто бы не догадался, что находится под ним. Но он уже не был доволен собой. Ему даже становилось как-то не по себе, и все сильнее, и тогда он повернулся и пустился бегом к дому. Остановился он у крыльца. Из-за дикого винограда раздавалось спокойное, шелестящее посапывание бабушки. Он постоял минуту в нерешительности, ему вдруг показалось, что он совсем один на свете. Что-то зашевелилось под ступеньками крыльца. Он заглянул туда. Во мраке, насыщенном затхлым запахом опилок и мокрого дерева, куры пережидали дождь. Нахохлившаяся наседка, склонив набок голову, подозрительно смотрела на него желтым глазом. Когда он вошел, они шарахнулись в разные стороны, наполнив шумом тесное помещение, и с кудахтаньем вылетели наружу, подняв облако пыли и пуха.
С бьющимся сердцем присел он на кучке опилок. Наверху заскрипел шезлонг, потом половицы. Он ждал того, что сейчас должно было произойти.
— Миха-ась! Миха-ась! Где ты?
Он позволил ей позвать себя еще раз и наконец ответил «здесь», выходя из укрытия.
Он стоял перед бабушкой на ступеньку ниже, стараясь не смотреть, как она заламывает толстые белые руки.
— Побойся бога, что ты выделываешь! Такой большой пятилетний мальчик, а ни на минуту нельзя тебя оставить без присмотра. На кого ты похож? Весь мокрый! Вот мама приедет, я ей расскажу, что ты не слушаешься и бегаешь под дождем. Иди сюда сейчас же.
Он видел, что дождь стихает, слышал из соседнего сада радостные крики детей. И знал, что не пойдет и не отодвинет плоский камень. Он покорно давал подталкивать себя к дверям. Но на пороге задержался.
— Бабушка, где живут мотыльки?
Она остановилась, застигнутая врасплох его вопросом.
— Нигде не живут, — начала она, но тут же потащила его за плечо в коридор. — Хитрости тебе не занимать, зубы мне не заговаривай. И не думай, что ты сразу же побежишь играть на «Эдельвейс». Сейчас я тебя вытру, переодену и дам выпить чего-нибудь горячего.
Он не ответил. Он покорно сносил строгие наскоки бабки. Ему совсем не хотелось идти на «Эдельвейс». С детьми из «Эдельвейса» у него уже не было ничего общего.
Когда, вытертый досуха и переодетый, он сидел за столом и ждал горячего молока, ему казалось, что он уже какой-то другой и что все приятные, смешные вещи, которые недавно так радовали его, перестали для него существовать.
Бабка быстро вошла в комнату, поставила перед ним молоко, видно было, что ей еще хочется поворчать, но, взглянув на него, она хмыкнула и только сказала: «Пей». Потом начала вертеться по комнате, поглядывая на него время от времени из-под нахмуренных бровей. Наконец остановилась у окна.
— Михась, — сказала она уже совсем спокойно. — Поди-ка посмотри, какая красивая радуга.
Он послушно подошел и молча посмотрел на радугу, которая была всего-навсего цветной полоской на небе.
Опавшие листья устилали аллеи парка. Они резко пахли чем-то горьким и кислым, особенно под вербами, у пруда. Много их плавало на воде. Они были похожи на маленькие золотистые лодочки. Холодный ветер неторопливо гнал их вместе с хлопьями осевшей сажи. Бесконечные флотилии проплывали мимо опор горбатого мостика из гнилых березовых бревен. Деревья стояли почти голые. На черных ветках судачили галки, поминутно взлетая в серое небо крикливыми стаями. Только дубы еще хранили темный багрянец и в редких лучах бледного солнца время от времени вспыхивали бессильным гневом.
Пани Эльза поминутно подзывала детей, поправляла им шарфики и ворчливо напоминала, чтобы они не ходили по лужам.
Над каменным рвом вольера для медведей стояло всего несколько человек. Звери метались по бетону у подножия искусственных скал. Они мягко переваливались с боку на бок и время от времени поднимали свои мотающиеся головы, косо поглядывая на белеющие вверху человеческие лица.
Еще недавно дети так любили мишек. Бегали наперегонки к железной ограде, с карманами, полными конфет и яблок. Сейчас они смотрели на них недоверчиво, со страхом в глазах, а маленькая Моника судорожно сжимала руку пани Эльзы. Они, правда, сами не видели несчастного случая, но в городе об этом рассказывали во всех подробностях, и заметка на эту тему появилась даже в газете. Можно было ясно представить себе, как это произошло, — так ясно, что Михал и Моника вспоминали о случившемся с ужасом очевидцев. Фокстерьер, падая, жалобно скулил и быстро перебирал лапками, а потом было слышно лишь урчание зверя, хруст ломаемых костей, чавканье и истерические крики хозяйки. Остался один окровавленный ошейник. Искушение погладить мишек пропало бесследно.
— Гадкий Шварц, — сказала Моника, — он самый плохой.
Черный зверь, косолапо ступая, подошел к стене, присел, показав коричневое брюхо, и начал попрошайничать, размахивая лапами. Нижняя губа у него отвисла мясистой петлей, влажный нос непрерывно двигался, а в маленьких желтых глазках мерцали красноватые искорки.
Его назвали Шварц, решив, что только немецкое имя может передать зловещую природу изверга.
— Пошел! — крикнул Михал, и топнул ногой.
— Он сюда не вспрыгнет? — забеспокоилась Моника.
— Ни в коем случае, — сказала пани Эльза.
— Ну, а если очень разозлится?
— Михась, почему ты дрожишь? — Пани Эльза окинула мальчика критическим взглядом. — Ну, конечно! Ботинки совершенно промокли. Я сто раз говорила: не ходи по лужам. Идем домой, — приказала она.
В прихожей пахло горелым. Дети с беспокойством нюхали воздух, покорно отдав себя в руки пани Эльзы, стягивавшей с них пальто и свитеры.
— Ничего особенного, — ворчала она. — Тряпка загорелась на кухне. Моника, куда ты бежишь? Надень туфли! Что за ребенок!
Девочка исчезла в глубине квартиры. Через минуту громкий плач наполнил все комнаты. У нее был резкий голос, и плакать она действительно умела. Михал и пани Зльза мигом пронеслись через столовую. Из открытых дверей детской комнаты валил дым.
— Макака, макака, макака, — кричала Моника. Она стояла возле печки в облаке серого дыма, размахивая большой плюшевой обезьяной, из которой валил дым, как из кадила.
— Я же говорила, чтобы ты не прятала ее за печку! — закричала пани Эльза. — Дай мне эту дрянь! — И она схватила обезьянку за ногу.
— Сами вы дрянь! — завопила Моника.
Из брюха макаки посыпались опилки. Пани Эльза энергично шлепнула Монику, и плач девочки перешел в яростный вой.
Пользуясь замешательством, Михал схватил игрушку и спрятался с ней в угол, за кроватью. Плюш на животе обезьянки продолжал тлеть, и темная дымящаяся рана неумолимо расширялась.
Пани Эльза подбежала к окну, распахнула его настежь. Потом крадучись приблизилась к Михалу.
— Дай макаку, ее надо потушить.
Моника ухватилась за юбку бонны.
— Не давай! Она ее выбросит!
Михал сел на обезьянку, прижимая обожженный мех к полу.
— Ах вы, сопляки! Сейчас я с вами расправлюсь.
— Что здесь происходит? Дети! Пани Эльза!
В дверях стояла мать. Она не успела снять меховую шубу, вбежав прямо из передней и только сейчас стягивая перчатки с узких рук.
— Почему вы держите их при открытом окне? Вот Михась уже кашляет.
Все трое наперебой стали рассказывать о случившемся. Моника обливалась горькими слезами, но каждый чувствовал облегчение. Даже макака перестала тлеть. За обедом об инциденте уже говорили в шутливом тоне. Отец, который пришел с работы усталый и молчаливый, улыбался, когда Моника рассказывала об операции «отросткообразного червячка», которую она сделает пострадавшей.
Моника умела громко реветь, но и быстро утешалась. Целый день она нянчила макаку. Постелила ей удобную постель в картонной коробке, делала уколы, ставила компрессы и пела колыбельную. Михал отводил глаза от потертой обезьянки с нашитой на животе белой заплаткой. Его преследовал запах паленого. Он старался не думать о том, что произошло, но печальный запах все время напоминал ему, что это он спрятал за печь старую добропорядочную макаку, такую хорошую, не причинившую никому зла. Он ходил по дому с тяжелым сердцем, отказался от полдника, сказав, что у него болит голова, так что в конце концов голова у него разболелась на самом деле. Он знал, что не сможет никуда деться ни от запаха, ни от пения Моники, ни от этой невыносимой тяжести в груди. Во всем доме он не нашел ни одной интересной вещи, которая могла бы его развлечь. Потому что такой вещи не было на свете. Он отчетливо это чувствовал. Для этого он должен перестать быть Михалом, должно никогда не быть ни макаки, ни осени, ни этого города с мокрым парком. Теперь все ушло и ничто не будет таким, как раньше.
По-прежнему лил дождь. По улице двигались блестящие черные зонты, а по стеклам текли маленькие струйки с капельками на конце. Наверху у соседей кто-то разучивал гаммы, вверх вниз, вверх вниз, без надежды на какую-нибудь перемену, с печальным смирением. Михал принялся рисовать уланов, но у всех у них получались одинаковые лица. Напрасно он дорисовывал им по-разному закрученные усы: лбы и носы создавали одинаковые остроугольные лесенки. Было серо, холодно и неуютно, и ничего не хотелось делать.
Только за ужином он немного повеселел, потому что были русские пироги, хотя они ему понравились гораздо меньше, чем обычно.
На этот раз Михал не торговался из-за каждой минуты и пошел спать безропотно, в глубине души надеясь, что ночь восстановит прежнее течение жизни. От его печали осталась только неопределенная подавленность, которую ночь, может быть, сумеет бесследно развеять, и все-таки в постели его снова настиг запах горелой шерсти. Зачем, зачем он спрятал обезьянку за печь? Ей, конечно, было неприятно сидеть в таком тесном пыльном углу. Как же она страдала, когда кафель нагрелся и начал тлеть ее красивый мягонький мех, наполняя удушливым смрадом темный закуток. А он в это время гулял по парку, полному терпкого запаха осенних листьев. Он вспомнил о медведях, кружащих по дну своей каменной ямы, и огорчился еще больше. Макака была кроткая и веселая, не способная ни на какое предательство, целиком зависящая от его любви.
Моника спокойно посапывала в своей кроватке, а Михал не мог найти себе места — то постель казалась ему влажной от жары, когда он лежал минуту без движения, то опять жесткой и холодной, когда придвигался на край. Страшный запах пропитал подушку и одеяло, проникал во все возникающие в его сознании картины. Макака продолжала тлеть за печью, брошенная и беспомощная, и Михал страдал вместе с нею. Это его собственное тело, охваченное жаром, источало этот невыносимый чад. И длилось это бесконечно. Темень, жар, чад, непроходящая тоска по вещам, которые уже невозможно вернуть. Руки тяжелые, одеревеневшие — ими трудно шевелить. А потом ощущение падения, глубокого падения, в хаос мрака, удушья и тесноты. При этом тело его то Непомерно расширялось, то сжималось до микроскопических размеров. Михалу казалось, что он погружен в какое-то вещество неопределенной консистенции и размеров, единственным осязаемым качеством которого был с каждой минутой сгущающийся страх. Вдруг, без всякой видимой причины, этот страх стал таким невыносимым, что Михал открыл глаза и отчаянным рывком вылез из-под одеяла. Весь дрожа, он прижался к подушке. Он знал, что в комнате кто-то есть, кто-то очень страшный, караулящий его всей мощью своего зла. Он еще защищался, не желая его видеть даже широко открытыми глазами, но не смог ни повернуть головы, ни опустить век, а воля его слабела и всякое сопротивление было напрасным.
Этот «кто-то» сидел там, под круглым столом напротив кровати. Огромный, едва помещающийся под доской красного дерева, черный, как ночь, но видимый в темноте благодаря гладкому блеску жесткой шерсти. Его длинные кривые руки напоминали мощные лианы. Одна рука обвивала поджатые колени, а другая — ножку стола. Голова втянута в сутулую спину, и только из-за того, что она была наклонена, не был виден блеск маленьких глаз. «Он» сидел неподвижно, налитый огромной силой и какой-то зловещей радостью. В самой этой неподвижности было обессиливающее колдовство. Ее невозможно было выдержать, но и нарушить ее равновесие было тоже невозможно. Михал не осмеливался даже думать. Где-то на дне сознания у него была готовая картина конца, слишком ужасная, чтобы вытащить ее на поверхность и рассмотреть. «Он» встанет в полном молчании, не спеша подойдет на своих кривых коротких ногах, протягивая страшные лапы… Стол спадет с «него», как скорлупа, без всякого шума. Это когда-нибудь случится. Через минуту или спустя целую вечность, потому что время для «него» не имеет значения. Именно поэтому молчание и неподвижность таили в себе невыразимый ужас.
Несмотря на свой испуг, Михал не мог оторвать от чудовища глаз. Он все больше убеждался в реальности того, что видел: покатые плечи, массивный торс, гибкие щупальца. Парализованный любопытством, Михал ждал первого движения. И тут произошло то, чего он не мог предвидеть, но чего подсознательно ждал. Черная фигура даже не вздрогнула, но в ней в одно мгновение произошла перемена, показавшая, вне всяких сомнений, что все это угрюмое ожидание имеет прямое отношение к нему. Он увидел глаза. Они мутно блеснули, неожиданно появившись во мраке. Может быть, поднялись невидимые веки, а может быть, эти глаза давно смотрели на него, только теперь загоревшись от возросшей сосредоточенности. Они были маленькие, близко посаженные, желтые, полные красноватых искр. В их взгляде не было ни ненависти, ни гнева. В них было что-то значительно более страшное. Холодная проницательность, равнодушным презрением оценивающая страх своей жертвы. Непонятная отчужденность хищника, до ужаса зверская и издевательская, без каких бы то ни было следов человеческого.
Михала пронизал леденящий холод. Он услышал слабый, сдавленный крик, едва отдавая себе отчет в том, что это его собственный голос дрожит в темной комнате. Он все еще продолжал смотреть в эти маленькие глаза, когда дверь открылась и из столовой упала узкая полоска света. Шелест платья и запах одеколона приблизились вместе с приглушенными словами:
— Спи, спи, сынок. Тебе что-то приснилось?
— Там… сидит… горилла, — простонал он с трудом.
Мать наклонилась над ним облаком сладкого тепла.
Ее губы слегка прикоснулись к влажному лбу, неся в себе нежный, беспокойный и проникновенный вопрос.
— Ложись. И укройся, — сказала она.
С каким огромным облегчением выполнил он эти несколько движений, диктуемых теперь чужой заботливой волей.
— Пани Эльза, — позвала мать, — идите сюда! У мальчика высокая температура.
В столовой зашлепали туфли и глухой голос пани Эльзы приблизился, говоря что-то о лужах в парке и промоченных ботинках.
Михал принимал с благодарностью эти наивные уловки, чувствуя, что они дают ему единственную возможность к спасению.
Несмотря на тревогу, которую вызывал в нем предстоящий визит, Михал был доволен собой. Никого не спрашивая, он нашел Вспульную улицу (на новой квартире бабки он был до этого только один раз с отцом) и уже приближался к нужным воротам. Ему не пришлось даже искать номер — он узнал этот дом по овощной лавчонке, к дверям которой с тротуара вели вниз две каменные ступеньки. Он немного замедлил шаг перед грязной витриной, чтобы полюбоваться своим отражением. Настоящий гимназист! Синяя шинель с кантом и металлическими пуговицами была немного велика (как говорят, «на вырост») и к тому же не по сезону теплая, но она сидела так строго, так округло поднималась на груди, что можно было отчетливо представить саблю, висящую у него на боку. Но еще красивее была шапка ~ твердая, круглая каскетка с блестящим клеенчатым верхом, к которой можно было прикладывать руку, отдавая честь, хотя это и не входило в школьные правила.
Этот первый в жизни мундир обострял в Михале сознание собственной значимости. Он заставлял его постоянно присматриваться к самому себе с уважением и каким-то неосознанным страхом, с недоверием и сдержанной гордостью. Движения его были теперь полны достоинства, и каждое как будто бы говорило о делах важных и ответственных. Да, свобода кончилась, и Михал не скрывал от себя, что расстается с ней с грустью, но значимость дисциплины, уже теперь ощущаемая в сковывающей тяжести шинели, таила в себе обаяние рыцарских доспехов. Он был уверен, что бабка, над кроватью которой всегда висела миниатюра с изображением усатого офицера наполеоновской армии, сумеет заметить это и оценить. Она не будет улыбаться со снисходительной нежностью, как родители и тетки, когда он предстал перед ними в новом наряде. Даже, может быть, скажет что-нибудь неприятное — к этому нужно быть готовым, — но, во всяком случае, отнесется к нему, как к мужчине.
Лестничная клетка, несмотря на сумерки еще не освещенная, пахла навощенным линолеумом. Стены, покрытые коричневой масляной краской, мрачно и печально блестели, а на каждом полуэтаже в сводчатых нишах беспокойно белели гипсовые фигуры. Ему было как-то не по себе и совсем не хотелось прыгать через две ступеньки, как это он обычно делал на всякой лестнице. Визит к бабке был в известной мере путешествием за пределы семьи. Она сама установила эту дистанцию, а теперь еще больше увеличила ее, переехав, как она говорила, «на холостяцкую квартиру». По каким-то неясным причинам каждая встреча с бабкой превращалась в запутанную проблему, долго решаемую взрослыми приглушенно-таинственными голосами, в атмосфере озабоченности и подавляемого раздражения.
У него и сейчас еще звучали в ушах отрывки фраз, услышанных час назад сквозь закрытые двери. «…Он должен ей показаться, перед тем как пойти в школу. Если она узнает, что он был у всех, кроме нее…» — говорила тетка своим певучим металлическим голосом. «Я бы охотно его отправила… — Мать всегда была готова к примирению и жертвам. — Но в таком нервном состоянии… известно, как она меня примет». — «Я, к сожалению, не могу», — сказал отец, и все замолчали. И лишь минуту спустя снова раздался его громкий, решительный голос:
— Пусть идет один. Он уже большой мальчик.
Михал стоял перед высокими дверями, обрамленными черными наличниками, вверху украшенными вензелями, словно вырезанными лобзиком. Осторожно, кончиком пальца он нажал звонок. Фуражка и шинель сами по себе еще не делали его смелым. Заслышав шарканье медленно приближающихся шагов, он еще раз попытался убедить себя, что такой самостоятельный визит в почти неизвестное место должен вызвать уважение и благосклонность.
— Я к бабушке, — объяснил он всклокоченной седой голове, которая подозрительно смотрела на него через приоткрытую дверь.
Бесконечный извилистый коридор был освещен слабым светом, идущим от находящихся в глубине его стеклянных матовых дверей — дверей бабушкиной комнаты.
— Молодой человек, разденьтесь здесь, — сказала старушка кислым голосом.
Михал сделал вид, что не слышит, и был рад, что горничная ушла, не дожидаясь, когда он исполнит ее указание. Он на цыпочках обогнул стоячую вешалку и какой-то сундук, вздымавшийся в углу. На его стук ответа не последовало. Он подождал минуту и снова постучал.
— Ну, входите, — отозвалась бабка таким тоном, как будто к ней уже долго стучат и она наконец покоряется необходимости, не в состоянии больше защищаться от назойливого посетителя.
Он вошел и остановился у порога, молодецки вытянувшись, с фуражкой на голове, держа руку у козырька.
Бабка смотрела на него неприязненно, с каким-то рассеянным удивлением. Она сидела у окна в старом поломанном креслице с ободранными ножками, видневшимися из-под бахромы, свисавшей до самого пола. Ноги ее были прикрыты клетчатым пледом, а сморщенные, в коричневых пятнах руки лежали на зеленых и желтых его квадратах, как два вырытых из земли корня. Рядом, на круглом плетеном столике, под лампой с зеленым абажуром, чернел ящичек детекторного приемника с воткнутой в него катушкой, а над ушами бабки торчали блестящие металлические прутки.
— Здравствуйте, бабушка, — начал он. — Я пришел, чтобы…
Одна из увядших рук взлетела, точно ее вспугнули, и жестом, полным гнева и даже отчаяния, приказала ему молчать. Ее блеклые глаза вспыхнули укором и тотчас же скрылись под веками, будто уже один вид внука причинял им невыносимую боль.
Михал застыл в своей неестественной позе, оказавшейся совсем ненужной и даже неуместной. В маленькой, жарко натопленной комнатке было душно. Пахло валерьянкой и еще какими-то лекарствами. Пружинящая тишина давила со всех сторон — Михалу казалось, что он попал в какое-то вещество, которое выталкивает его обратно, не желает принять. Испуганный взгляд его начал искать дружелюбные усы наполеоновского ветерана, но свет лампы едва достигал железной, покрытой одеялом кровати и над ней, на стене, едва был различим темный овал рамки.
От прошлого визита у него осталось впечатление убогости. Бесцветное городское солнце обнажило тогда изношенность и уродство случайно собранной мебели — хилых консолей, просиженных стульев, незакрывающегося шкафа с серым треснувшим зеркалом. Теперь окно было завешено плюшевой портьерой, и мягкий свет снисходительно прикрывал детали, украшая их легкой игрой тусклых бликов и теплых теней, но этот уют дышал странной печалью, и казалось, что за стенами комнаты простирается пустыня, а комната — последнее убежище в этом мире, не ахти какое, ибо оно было обречено на забвение. Это была ловушка, из которой надо было как можно скорее вырваться, но ее безысходная душная атмосфера парализовала всякую волю к бегству.
Казалось, бабка дремлет — она не открывала глаз и низко опустила голову на грудь. Лицо ее скрывала тень абажура, только круглый, сморщенный как печеное яблоко подбородок оставался в кругу света, и было видно, как бессильно он дрожит над шнурами наушников.
Не зная, что с собою делать, Михал переступил с ноги на ногу. Тогда она повернулась к нему с неожиданной живостью и снова подняла руку. Он подумал, что она сейчас погрозит ему кулаком, и сразу не мог понять, что означает полный раздражения жест — она несколько раз нетерпеливо провела рукой возле лба, как будто бы отгоняя какую-то муху или отбрасывая назойливую прядь волос, Он был поражен тем, что во взгляде бабки не было гнева, а только страдание и что в морщинах ее щек что-то блестело.
Наконец он понял: она требовала, чтобы он снял шапку. Тот факт, что это была настоящая форменная фуражка, видимо, не имел для нее никакого значения. Поспешно исправляя свою несообразительность, он положил фуражку на стул, потом снял шинель и повесил ее на вбитый в дверь крюк.
Бабка следила за Михалом глазами, которые хотя и были затуманены слезами, но умели заставить его поторопиться. А когда он робко стал на прежнее место, она властно взглянула на него. Он приблизился на несколько шагов. Она снова взглянула на него и хриплым голосом сказала:
— Подойди!
Он приближался к ней с дрожью, готовый каждое мгновение остановиться, но палец бабки не переставал повелительно звать его.
Он испугался. Чего она хочет? Наконец он коснулся коленями кресла. Она порывисто обняла его. Но когда он, думая, что она требует приветственного поцелуя, наклонился к ее щеке, она с негодованием отпрянула.
— Нет! — воскликнула она.
Держа его левой рукой за плечи, словно опасаясь, что он может убежать, правой она потянулась к уху и дрожащими пальцами повернула наушник. Потом обе ее руки удивительно твердые и сильные, встретились на его голове и неловко нагнули ее, как будто бы она была частью какого-то механизма, который можно повернуть силой так или эдак.
Это молчаливое насилие и внезапная близость влажного от слез старческого лица, которого он касался щекою, так потрясли Михала, что долгое время звуки, доносящиеся из разогретого, давящего на ухо наушника, не доходили до его сознания.
Ломкие, как высохшая трава, волосы бабки щекотали ему висок, а ноздри ощущали неприятный запах, напоминающий запах давно не проветриваемой постели.
Склонившись, он бессмысленно уставился на шкаф, на выступающий за его карниз футляр от скрипки, на висящий рядом портрет молодой девушки в красном платке — плохо видимый сейчас, но так хорошо знакомый ему, что даже не надо было различать ее черты, чтобы ощутить беспокойное присутствие мрачной и печальной красоты.
В наушниках глухо шумело. Нарастал какой-то мягкий, но мощный голос, а на его фоне метались вихри быстрого сухого жужжания. Все это бурлило и вздымалось в какой-то непонятной ярости, пока внезапно не лопнуло с металлическим грохотом, и из этого взрыва вырос чистый, отчетливый голос струн, захлебывающийся в своем отчаянном парении. Михалу казалось, что это золотой бумажный змей танцует в вышине ветреного неба. На какое-то время он был ослеплен этим и забыл о своей странной и неудобной позе. Рука бабки, обнимавшая его плечи, прижала его еще крепче, она дрожала и была полна горячей нежности. Но волнение длилось недолго. Голос скрипок вскоре утих и опять смешался с тяжелыми, громкими звуками. Некоторое время Михал еще пробовал ловить его в этом грохочущем, полном водоворотов шуме, но быстро устал и его внимание стало рассеиваться от каких-то неясных мыслей, путаных впечатлений, торжественного помазания, неудобства и тоски. Он неясно ощущал, что приближается конец, потому что голоса в наушниках густели, темп убыстрялся, подобно вытекающей из ванны воде, которая чем ближе к стоку, тем громче булькает. Только здесь это продолжалось неимоверно долго и нельзя было увидеть дна. Наконец звуки наполнились новой отчаянной силой и, поднятые бряцанием тарелок и дрожащим рокотом барабанов, упали в тишину рассыпающимися громами. На какой-то момент мембрана замолчала, как будто скопившееся под ней напряжение выгнуло ее и сделало невозможной дальнейшую вибрацию. И вот, точно дождь, заплескали полные облегчения аплодисменты. Бабка отпустила плечи Михала и быстрым движением сорвала с головы наушники, не глядя на болезненную гримасу внука, потому что волосы его запутались в дуге и проводах. Со вздохом, похожим на стон, бабка откинулась на спинку кресла.
— Вот и конец, — прошептала она, не открывая глаз.
Льющийся из-под абажура свет объял теперь все ее лицо, влажное, обессиленное печальным блаженством. Трясущаяся рука подняла к глазам смятый платок.
— Вот и конец, — повторила она более твердым голосом и на минуту открыла глаза, но тут же закрыла их, скривив губы. — Опусти абажур — свет режет.
Михал поспешно выполнил просьбу. Свет упал на висящий напротив портрет девушки, и по нервам мальчика сразу же прошел ток возбуждения. Он был удивлен этим, ведь он хорошо знал, что это портрет бабки. Но до сих пор знание этого не вызывало в нем никакого чувства тождественности. Если бы он сумел проанализировать свое отношение к этому вопросу, оно бы выразилось в предположении, что такой была бабка в какой-то другой жизни, так как он всегда знал ее только старой, вызывающей беспричинный страх, с морщинистым лицом, покрытым нездоровыми желтыми пятнами, с хриплым голосом и капризным, придирчивым характером.
Это было что-то вроде озарения, — озарения, не лишенного ужаса. Как будто мир, до этого неподвижный в своем раз и навсегда установившемся образе, вдруг закачался, обнаружив свою подвижную текучесть, неуловимую для глаза, в действительности же такую внезапную, что кто знает, не были ли теперь эти видимые формы всего-навсего воспоминаниями. В свете этого невообразимого открытия четко вырисовывалось сходство, а вернее, какая-то поразительно ясная связь, которую он никогда до этого не осознавал.
Он слышал не раз, что она была когда-то красивой, но придавал этому не больше значения, чем утверждению, что уголь возник из шумящего, некогда девственного леса.
Сейчас ему казалось, что он смотрит на портрет впервые. У девушки были смуглые пухлые щеки, покрытые нежным пушком, горячие от темного румянца. Из-под черных бровей, сросшихся на тонкой переносице, смотрели дерзкие, немного раскосые, светящиеся любопытством глаза, а маленькие полные губы слегка улыбались, словно хотели не столько выразить, сколько скрыть уверенность в неминуемой победе молодости и красоты. Толстая, туго заплетенная, почти синяя коса, падающая на плечо из-под красной косынки, особенно тревожила Михала, потому что было неизвестно, с чем она ассоциировалась больше — с образом ли маленькой девочки или цыганки, нахально просовывающей ногу в приоткрытую дверь и пытающейся ворваться в дом со своим колдовством и гаданием. Все это было полно странного очарования, но настоящая причина глубокого замешательства, которое испытывал Михал, заключалась во внезапно понятом смысле слов: «Это она». Он засмотрелся и вздрогнул, когда бабка неожиданно пробрюзжала:
— Не так! Поставь прямо.
Он посмотрел на нее и увидел, что она следит за ним и что лицо ее стало снова сосредоточенным, что раздражение и обида вновь овладели ею.
— Ну что? Не понял? — спросила она. — Да абажур!
Он быстро поправил зеленый абажур, снова погружая портрет во мрак, а она опустила голову, и гримаса злости сошла с ее губ. Но теперь связь между картиной и старой женщиной была настолько велика, что Михалу показалось, что в этом хриплом и скрипучем голосе он улавливает звучание девичьего альта. И еще — хотя он не мог как следует объяснить, в чем тут дело, — он почувствовал, что ее раздражение — логически обоснованная реакция, естественное следствие какой-то его вины…
Михал приблизился к креслу, робко протянул руку к ее ладони. Он хотел запечатлеть на ней прощальный поцелуй и уйти. Обычно она сама угловатым и порывистым движением подносила свою согнутую в запястье кисть. На этот раз она взяла его руку и задержала на своем колене. Он ждал, не зная, что делать дальше.
— Вот видишь: жизнь… — сказала она через минуту, почти шепотом. — Такая она и есть, вся.
Бабка снова замолчала, но не отпускала его руки. Она как-то странно улыбалась, и лицо ее хранило выражение такой печали и покоя, каких он никогда не видел на нем. Потом вдруг вздохнула так глубоко, что все ее тело заколыхалось.
— Если бы хоть один раз так сыграть… Как этот Губерман. Вот тогда бы человек знал, для чего все это.
По прикосновению ее руки, слабому и бесстрастному, он понял, что бабка забыла о нем, что она говорит сама с собой. Вероятно, он должен был успокоить ее, сказать что-нибудь ласковое, что вдохнуло бы в нее мужество, но его лишило сил ощущение какой-то тесноты. Это было так, как если бы он намеревался показать кому-нибудь далекий, полный покоя пейзаж и вдруг увидел перед собой глухую стену. Он вздрогнул. Она отпустила его руку и выпрямилась в кресле, поправив аметистовую брошь, скалывающую кружевной воротничок.
— Ты этого не поймешь, — сказала она разочарованным тоном.
— Бабушка, — пробормотал он, — ну, я пойду…
Она посмотрела на него своим обычным, твердым, немигающим взглядом.
— А чего ты хотел от меня? Зачем сюда пришел?
Он должен был сосредоточиться, чтобы вспомнить это.
— Я завтра иду в школу… в гимназию… поэтому…
— Ну хорошо, — прервала она его. — Хорошо, что вспомнил о бабке. Спасибо тебе.
Она скривила крепко сжатые губы, что должно было означать вежливую улыбку. Его всегда это раздражало. Все другие, а особенно вторая бабка, которую называли в семье «бабуней», улыбались как бы изнутри, словно в них зажигался теплый дружественный огонек. У этой же только кожа и мускулы лица складывались в определенный условный узор.
Еще минуту назад Михал был близок к мысли, что между ним и бабкой устанавливается тихое взаимопонимание, что с этой поры в область отчужденности, так зорко ею охраняемой, для него откроется потайной ход. Эта гримаса была похожа на захлопывающуюся дверь. Вернулся прежний тон дежурной вежливости, со скрытым в ней раздражением.
— А как отец? — сказала она. — Тебя отправил, а сам прийти не соизволил?
— Папа должен вечером уехать.
— Искать новое место?
— Да, бабушка.
Она пожала плечами.
— Ну хорошо. Возьми себе конфетку. Она в коробке на этажерке возле кровати.
Он пошел на цыпочках в глубь комнаты и отломил от кома полурастаявших карамелек, прилипших к жестяной коробке, влажный мятный леденец.
— Ну, теперь иди. Приятное мне сделал, обязанность свою выполнил, а время уже позднее.
Сухими губами она коснулась его лба, слегка, как будто брезгуя.
С полным мятного холода ртом вышел Михал в коридор, неся свою незамеченную шинель и фуражку. Когда он за дверями одевался, ему показалось, что он слышит ее шепот: «Михась».
Некоторое время он прислушивался, не решаясь постучать вновь. Но в комнате было тихо. Наверно, ему это показалось.
* * *
В ту ночь в предвкушении ожидающих его в школе переживаний Михал долго не мог заснуть. Он проснулся очень рано, с неясным страхом, что проспал и теперь опоздает. Штора была еще опущена, и в комнате стоял полумрак, из передней доносились отзвуки какого-то таинственного, сдерживаемого движения. Там шептались, ходили, хлопала входная дверь, отрывисто тарахтел телефонный диск. Потом приглушенный голос матери говорил о чем-то тоном, на редкость озабоченным и в то же время возбужденным, тоном, который мог появиться только по необычному и очень неприятному случаю. Михал напряг слух.
— …Час тому назад… Да, звонила ее соседка. Зося уже пошла. Ромек только что уехал. Я дала телеграмму по телефону… Совершенно неожиданно… Совершенно неожиданно… Ничто, ничто этого не предвещало. Еще вчера наш мальчик был у нее. Она чувствовала себя очень хорошо. Слушала концерт по радио…
Михал сел на кровать, чувствуя, как сильно начинает стучать его сердце.
— Умерла, — сказал он почти громко. Он видел смуглое девичье лицо, черную косу, ниспадающую из-под красной косынки.
болотисто-зеленые пляшущие пузырьки бликов на потолке, на беленых стенах. За ставнями голоса птиц — свежие, словно омытые росой. За дверями шорохи сна, ровное дыхание тетки и двоюродных сестер. Все в доме спят, кроме него.
Он один в столовой, украшенной бумажными аппликациями и глиняными мисками, куда его выгнала дачная теснота. Его пронизывает тайная, захватывающая дух радость. Все для него. Для него одного утренние лучи, бодрящая, пахнущая озоном прохлада сада, глубокая тень оврага. Что бы сделать?
За окном слышится тихий свист.
Он отбрасывает пушистое шерстяное одеяло в серую и коричневую клетку, шершавые половицы щекочут босые ступни. Он потихоньку открывает ставни, осторожно, чтобы не скрипнули. Как светло! На газоне перед домом стоит Томаш. Волосы у него растрепаны, руки в карманах. На ногах — незастегнутые сандалии. Минуту назад он всунул в них ноги, прямо с постели, и вдруг его охватило то же самое беспокойство, которое сейчас бурлит в крови Михала. Надо что-то сделать. Но еще очень рано, еще все спят. Он стоит, нерешительный, на загорелых коротких ногах. В косматой от росы траве виднеется цепочка матовых следов, идущих от деревянного флигеля за дорогой.
— Пойдем на речку? — спрашивает вполголоса Михал.
Томаш задумывается. Он не умеет плавать. Ему придется одному сидеть на влажном песке, глядя на удальство друга.
— Может быть, лучше к замку, — предлагает он. — Давай обследуем его подземелье.
Мысль неплохая. Но для того, чтобы добраться до руин замка, нужно пройти через местечко, куда чуть свет крестьяне съезжаются на ярмарку, а спустя два-три часа вокруг башни замка на одеялах рассядутся крикливые дачники.
Они оба молчат. Такой день — их собственный, чистый, словно драгоценность, — не может быть прожит как попало.
За домом слышны скрипучие голоса кур. В них есть что-то очень смешное. Сварливое сожаление о сне и ленивое приветствие солнечного тепла. Они уверенно роют удобные ямки в пыли под стеной.
— Знаешь что? — вдруг говорит Михал в порыве вдохновения. — Знаешь, что мы сделаем? Убежим!
— Совсем? — Круглое лицо Томаша выражает смесь удивления и сомнения.
— Вернемся вечером. Или завтра. Как нам захочется.
— А куда мы убежим?
— Все равно. Куда сможем.
— Послушай, Михал… Надо ведь что-то приготовить, надо что-то…
Михал уже не слушает. Он отошел от окна, оставив Томаша в испещренной прозрачными бликами траве, на фоне белой полосы флоксов, трепещущей серебряным мерцанием березовой листвы. Тихо, на цыпочках ходит он по комнате. Надевает короткие штанишки и рубашку, желтые пропотевшие кеды. С перочинным ножом в руке подходит к столу. Под марлевой накидкой стоит готовый завтрак. Круглая буханка темного хлеба, творог в форме сердца на плоской тарелке, кусок масла, несколько огурцов и блюдечко с медом.
Михал отрезает большой ломоть хлеба и треугольник влажного творога. Заворачивает все это в салфетку. Затем смотрит на старинные часы с кукушкой, громко тикающие на стене. Начало шестого.
— Томаш, я иду.
Он вылезает в окно, неловко держа в руке узелок.
С минуту они стоят друг против друга в ярком солнечном свете, среди шороха потревоженной легким ветром листвы, среди птичьих посвистов и щебета. Молодой петушок хриплым голосом пробует петь.
— Идем?
Томаш степенно кивает головой.
К трухлявой калитке ведет тенистая грабовая аллея по краю оврага. Им холодно, но пляшущие на земле пятна света щекочут ноги теплым прикосновением.
За калиткой живая изгородь владения соседа, а потом уже поле. Несколько дней тому назад здесь еще колыхалась красноватая густая пшеница. Ее скосили. На жнивье теперь огромные, прикрытые соломой копны.
Они не разговаривают. Еще не успели привыкнуть к собственной дерзости. Михалу кажется, что Томаш относится к этому делу не совсем серьезно и скоро захочет назад. О том же думает Томаш. Дом так близко, а до завтрака в их распоряжении около трех часов.
Они сворачивают наискосок к виднеющемуся на горизонте лесу — темному, всклокоченному, спускающемуся кое-где в глубокие овраги.
Жнивье пружинисто хрустит под ногами. При каждом шаге разлетаются в стороны сухие искры коричневых кузнечиков, чье стрекотание звенит в ушах. Они совершенно одни под огромным чистым небом.
— Смотри, ястреб, — говорит Михал. Высоко-высоко парит в синеве темное пятно, распростертый стремительный контур.
Они стоят некоторое время с задранными вверх головами.
— А он нас видит? — интересуется Томаш.
— Конечно. Он видит мышь в борозде, а не то что нас.
Глаза наполняются слезами, птица расплывается, как в расплавленном стекле. Через какое-то время они чувствуют, что рассмотрели его полностью, что больше ничего не произойдет. Но им жаль расставаться с этим парящим в высоте чудом, и, двинувшись дальше, они время от времени оглядываются на него.
Вот они пересекли межу и бредут прямиком через буйные луга. Вскоре они промокли по пояс. От ледяной росы деревенеют бедра, жжет голые икры. Они бегут, и их охватывает безудержное веселье. Они громко смеются. Только теперь они чувствуют всю радость свободы.
Как спасительный берег, приветствует их песчаный холм на опушке леса. Запыхавшиеся, садятся они в можжевельнике. Земля колючая, она устлана сосновыми иглами, по ней вьются рыжие корни, кое-где торчат пучки хрупкого мха и редкие островки колкой на ощупь травы. Солнце мгновенно окутывает их своим теплом. Сейчас оно яркое, его лучи пахнут смолой.
— Будет жара, — говорит Томаш.
Он наклоняется, поднимает с земли камушек странной формы, сплющенный с одной стороны.
— Как ты думаешь, Михал, что это такое?
— Покажи-ка. Кремень.
— Ну да, кремень, а вид у него такой, как будто его кто-то обработал.
— Конечно. Знаешь, это, наверно, доисторический топорик.
— И мне так кажется. Вот смотри, острие.
— Может, здесь было поселение? Стоит покопаться.
— Чем?
— Руками.
Они разгребают песок, рвут маленькие упругие корни. Красные муравьи разбегаются из-под пальцев. В глубине земля влажная и голубоватая. И нет в ней ничего интересного.
— Придем сюда как-нибудь с лопатой, — предлагает Михал.
— Хорошо. Надо обозначить это место.
Томаш приносит сухую сосновую ветку. Они ставят ее в ямку, засыпают песком, утаптывают.
А может, они сделают важное открытие и о них будут писать в газетах?
Томаш задумывается.
— А что, если сейчас мы пойдем позавтракаем, а потом придем с лопатой?
— Ты хочешь вернуться?
— Да нет, только если будем копать…
Солнце греет все сильнее. Они сидят по обе стороны торчащей из земли ветки, глядя поверх луга на виднеющиеся вдали копны. На жнивье выехала мажара. Она маленькая, совсем игрушечная, но даже сюда долетает скрип колес. Маленькие люди снуют возле нее. Платки на женщинах светятся пронзительной белизной. Они уже не одни.
— Ты что, дальше не пойдешь? — спрашивает Михал, сурово морща брови.
— Почему, пойду…
— Ну, так идем.
Лес сосново-дубовый, полон мягкой тени. Дорога то причудливо вьется по оврагам с глинистыми краями, под корневищами вывороченных деревьев, то опять спокойно бежит среди папоротников, поросшая низкой травой. Они идут по мокрой поляне, где столбики мошкары колеблются в полосах света. Мальчишки вдыхают влажный запах преющих листьев и хвои. Царит полная тишина. Только иногда крикнет птица или белка заскребет коготками по коре. Теперь они ушли действительно далеко. Здесь они еще никогда не были. Они ступают осторожно, стараясь идти так тихо, как если бы они убегали от преследования. Все так странно: приятно и таинственно. Вот только голод начинает докучать. Они ощущают неприятную слабость в плечах.
Наконец они останавливаются на дне неглубокой лощинки, где ручей вырыл себе крутое ложе в торфянистом грунте. У них нет даже кружки, чтобы зачерпнуть воды. И они жуют сухой хлеб, ломают творог, а потом пьют, став на коленки на топком берегу, погружая лицо в ленивое течение.
— Там уже позавтракали, — говорит Михал. — Наверно, нас ищут. Нужно было оставить записку.
— Зачем?
— Будут беспокоиться.
Михал пожимает плечами.
— Ну и что?
Мальчики идут дальше, и, хотя в желудке они чувствуют тяжесть, по-прежнему дает себя знать голод, и от этого им как-то не по себе, будто чья-то чужая тревога отравила воздух, прилипла к нему и не позволяет им радоваться от души. Они пытаются пренебречь этим неприятным состоянием, извлечь из него хоть какую-то пользу.
— Подумай, Томаш, никто не знает, где мы.
Это, безусловно, имеет свою прелесть, и Томаш подтверждает понимающей улыбкой, но неприятный осадок не исчезает, и в Михале вскипает обида.
— Как это глупо, что люди беспокоятся друг о друге, — говорит он. — Эти всякие привязанности, нежности только осложняют жизнь.
Томаш останавливается, протирает очки.
— Может быть, это и не так глупо, — отвечает он. Они не думали, что лес такой большой. Солнце поднялось уже высоко, и даже здесь, в тени деревьев, становится душно. Они упорно идут дальше, как будто намереваясь достичь какой-то определенной цели. Михал немного зол на себя. Это случается не в первый раз. Он хочет понравиться Томашу твердостью, хочет навязать ему задорно-беспечное настроение, а тот не принимает этой игры. Он говорит то, что Михал сам чувствует в глубине души. Внезапно у него появляется потребность в откровенности.
— Почему так происходит, Томаш, что я не всегда говорю то, что думаю? Иногда я говорю то, что хотел бы думать, а потом даже начинаю сомневаться, хотел бы я так думать на самом деле?
— Это с каждым бывает, — осторожно отвечает Томаш.
— Если бы я наверняка знал, какой я, может быть, этого не делал бы.
— Не известно, возможно ли это.
— Что?
— Знать, какой ты на самом деле.
Мальчики забывают о всех невзгодах. Они очень любят обсуждать вместе такие вопросы. Тогда перед ними открывается мир, полный загадок. Их тревожит его новизна.
— Нужно испытать очень многое, чтобы что-то знать о себе, — говорит Томаш.
Они идут уже медленнее. Чувствуется усталость в ногах. Лес не кончается. Они снова присаживаются на какой-то полянке и доедают остатки хлеба. Михал комкает салфетку и прячет ее в карман.
— Пора заворачивать домой, — нарушает молчание Томаш, — ведь у нас нечего есть.
— Мы можем собирать ягоды и грибы, накопаем картошки в поле и испечем ее в костре.
Томаш скептически улыбается, и Михал опять чувствует себя разоблаченным. Собственно, он тоже хочет вернуться. Только не знает как. Лесные тропинки так похожи одна на другую. Он знает одно: надо решаться. Неуверенным движением руки он показывает направление.
— Туда.
Наконец лес редеет. За последними деревьями и кустарником холмы, поля и луга опускаются, поднимаются, снова опускаются, как огромные волны, бегущие к другим, далеким лесам. От них пышет неподвижным жаром. В стеклянно дрожащем воздухе стрекочут кузнечики, слышны далекие, словно полые, голоса людей, лают собаки. В зелени далеких садов голубеют стены белых хат. Коровы лениво бродят на выгонах, по проселочной дороге едут один за другим три груженных снопами воза. На сверкающем от зноя небосклоне, прямо над землей, длинная иссиня-черная полоска.
Они ускоряют шаги, хотя пот стекает им на брови и легкие с трудом хватают воздух. Подворачиваются ноги на узкой меже, колется стерня. От деревни тянет горьким запахом дыма.
— Я хочу есть, — вздыхает Томаш.
Михал не отвечает. Ему кажется, что в этом огромном мире они всего лишь беспомощные, уставшие молокососы. Он идет вперед, не оглядываясь на друга. Голод и усталость рождают в нем какое-то злое упорство. Вдруг он увидел перед собой ровный ряд одинаковых деревцев, и к нему приходит мгновенное облегчение. Появляется цель. Дорога. Дорога наверняка куда-то ведет. У Михала такое ощущение, как будто он сознательно с самого начала стремился к ней. Так что, когда Томаш радостно кричит: «Смотри, дорога!» — он только пожимает плечами.
— Конечно. Именно к ней мы и шли.
Уже видно продолговатое облачко белой пыли, двигающееся с тихим ворчанием. Проехала машина. Темная туча постепенно захватывает все большее пространство, но солнце тем не менее печет сильнее. Может быть, они успеют до грозы.
Еще немного, и они садятся во рву, сером от придорожной пыли. Теперь они не спешат. Надеются, что дорога сама поможет им. Ступни горят, колени ослабли и не сгибаются.
Дорога молчит, на ней не слышно никакого шума. Лениво приближается стадо коров. За коровами две бурые козы, а за ними старуха, помахивающая сухой веткой. Время от времени она что-то выкрикивает дрожащим, увядшим голосом.
Михал встает и заискивающе улыбается ей.
— Простите, на Казимеж в эту сторону?
Старуха неуверенно смотрит в указанном направлении и кивает головой.
— А далеко еще?
— О, далеко, — отвечает она задумчиво.
— Как далеко?
— Далеко, — бормочет она и трусцой подбегает к козе, которая остановилась, чтобы пощипать траву. Бормоча непонятные слова, старуха хлестнула ее веткой.
С противоположной стороны подходит худой еврей в халате. На спине у него тяжелый мешок. Тыльной стороной руки он вытирает потный лоб. Струйки грязного пота стекают по щекам и исчезают в густой рыжеватой бороде.
— Ребята, купите яблоки!
— У нас нет денег, — говорит Томаш с сожалением.
— Сколько километров до Казимежа? — спрашивает Михал.
Еврей в задумчивости крутит пальцами пейсы.
— Больше чем десять, но меньше чем пятнадцать.
Михал смотрит на небо, уже наполовину затянутое тучами.
— Спасибо.
— Купите яблоки. Хорошие яблоки, сладенькие.
Он ждет минуту, потом неохотно уходит, волоча по земле запыленные ботинки. Через несколько шагов старик останавливается и делает ребятам таинственный знак пальцем. Громко кряхтя, он опускает мешок с плеча, развязывает его.
— Но у нас нет денег, — повторяет Томаш.
— Неважно. Возьмите себе две яблочки.
Скользкая от дождя грабовая аллея. Над садом после грозы в золотых лучах вечера поднимается пар. Мокрые, молчаливые, приближаются они к дому. Им безразлично, как их встретят. То, что они проголодались, устали, кажется им достаточной защитой. Сквозь открытые двери веранды уже слышны женские голоса. В окне мелькнула седая голова. Какой-то вскрик, затем шорох приглушенных быстрых слов и тишина.
Они стоят на пороге. Эва собирает со стола посуду.
На шезлонге Кази с Моникой рассматривают какой-то иллюстрированный журнал. Тетка стоит у буфета, ставит в вазу букет полевых цветов. Никто не обращает на них внимания. Они находятся как бы вне этого теплого, сытого и такого близкого им мира.
Михал понимает, что сейчас он должен как-то сыграть, ответить на этот явный сговор каким-нибудь эффектным коленцем, но не может ничего придумать. Он побежден и полон удивления.
Внезапно тетка обращается к ним совершенно спокойным тоном, в котором слышен упрек, не выходящий за пределы ежедневных замечаний.
— Вы опоздали к ужину, — говорит она. — Самое большее, что вы можете получить, — это немного разогретой каши.
Девочки смотрят на них, как будто только что заметили. Они разыгрывают полное безразличие. Но Моника не выдерживает. Ее лицо меняется, возле носа собираются смешные морщинки. Она прыскает от хохота.
— Ну, как там было?! — вскрикивает она. — Открыли Америку?
Теперь смеются все. Становится необыкновенно приятно.
— Здорово, — говорит Михал. — Мы открыли место стоянки доисторического человека. Томаш, покажи топорик.
Томаш лезет в один карман, в другой, разводит руками.
— Потерял, — бормочет он, пристыженный.
— Гаси!
Щелкнуло, и темнота сомкнулась со всех сторон, поглотив металлический колпачок ночника. На скошенном потолке мансарды появился бледный, расширяющийся книзу прямоугольник света, отбрасываемый окном дома на другом конце сада. Еще какое-то время дрожали пружины кровати.
Шаркающие шаги пересекли площадку второго этажа, и теперь скрипнула первая ступенька следующего марша.
— Это Вера, — шепнул Михал.
Но они продолжали лежать, не зажигая света, прислушиваясь к неуклюжим движениям тяжелого, уставшего тела. Глубокий вздох и зевок в конце. Потом низкий голос запел неясно и протяжно:
— И с зарею молодою славь, о сердце, Марию…
В этом бормотании, сопровождающем стоны рассохшейся лестницы, была какая-то нотка упрямства, какой-то оттенок сердитой, приглушенной усталостью пародии. Эта тяжесть недюжинной мужицкой силы, полной пренебрежения ко всему, что силой не является, не торопясь поднималась на ночной отдых. Последняя ступенька, шлепок туфли на площадке и новый продолжительный зевок. Потом, до того как щелкнула задвижка на чердачной двери, неожиданно раздался писклявый дискант:
— Может, кто даст щедрее, чтобы любить горячее…
Они молча переждали глухие шаги по бетонному полу и треск захлопывающейся двери, ведущей в комнату для прислуги.
— Ну, теперь все утихомирились, — сказал Михал.
Томаш отбросил впотьмах одеяло и сел на топчане.
— Твой отец сюда не придет? — спросил он.
— Нет. Он заперся в кабинете. Пишет.
— Курильница у тебя?
— Конечно.
— Ну, начнем?
Михал зажег лампочку. Ее затененный свет едва достигал углов, а нижняя часть скошенного потолка тонула в мраке; несмотря на это, они щурили глаза, сидя на постелях в измятых костюмах. Томаш взял со стула, стоящего рядом с топчаном, очки. Он надевал их неловкими толстыми пальцами. Его круглое лицо с мясистым носом приобрело выражение смешной серьезности.
— Я еще не кончил читать, — сказал Михал, доставая из-под подушки дневник в коричневом переплете.
— Мне тоже осталось несколько страниц.
— Как раз Вера заснет.
Томаш встал, придвинул стул к кровати Михала и на ночном столике под лампой разложил такой же коричневый дневник. Наклонившись к лампе, они почти касались головами. Где-то за окном надрывался голос певца, далекий и печальный, похожий на одинокий зов в лесу. Молча переворачивали они тонкие шелестящие странички. Михал поминутно украдкой поглядывал на товарища. Тот не поднимал головы. Только время от времени блестели его беспокойные глаза из-под насупленных бровей, из-под косо падающих на лоб прядей темных волос.
— Почему ты улыбаешься? — спросил он.
— Потому что пишешь всякую чепуху: «Получил пять злотых от папы». — Томаш едва заметно иронически скривил губы, подчеркнув этим ничтожество своего друга. Смуглые щеки Михала покраснели.
— Это для порядка. — Он пренебрежительно пожал плечами.
— Есть вещи важные и не важные, — сказал Томаш.
— Я знаю… но…
— Ну ладно. — Томаш закрыл дневник. — Возьми. Спасибо. Мой прочитал?
Михал без слов отдал коричневую тетрадку. Долгое время они сидели неподвижно, избегая смотреть друг на друга. Напряженность этого молчания заострила их лица. Они были похожи на двух маленьких монахов, погруженных в раздумье. Звуки радио оборвались, и теперь ничто не нарушало тишины дома. Первым заговорил Михал.
— Что это за план? — спросил он сдавленным от волнения голосом. — Ты написал: «Разработал план».
Томаш встал со стула и начал прохаживаться по комнате, сосредоточенно переставляя обутые в туфли ноги.
— Видишь ли, Михал, — медленно начал он, — об этом деле я и хотел с тобой поговорить. Потому что уже сейчас надо решать, как жить. Нам все время кажется, что у нас еще масса времени, а годочки бегут. — Он остановился возле стола, придвинутого к стене между окном и кроватью, рассеянным движением взял рогатку, лежащую на стопке школьных учебников и тетрадей. В задумчивости поиграл ею, попробовал пальцем эластичность резины. — Не успеем оглянуться, как получим аттестат зрелости, а до двадцати нам не хватает всего лишь шести лет.
— Неполных шести, — поправил Михал.
— Ты помнишь наш последний праздник?
Михал кивнул.
— Мы пожелали друг другу не быть такими, как остальные.
— Да.
Томаш натянул рогатку и щелкнул в сторону темного окна.
— Ну, хорошо. Но сейчас надо знать, кем мы хотим быть. Верно?
Он стоял перед Михалом, заложив руки за голову, — плотный, в коротких гольфах, с торчащими, как петушиный гребень, волосами.
— Именно в этом и состоит мой план. Надо себя найти. Не знаю, как ты, но я решил, что после окончания этого балагана отправлюсь путешествовать по свету. И разумеется, Михал, хотел бы вместе с тобой. Ты понимаешь, о чем идет речь? Приобрести опыт. Испытать все: нужду, голод, радость, страх, познакомиться с разными религиями, овладеть различными профессиями…
Михал вскочил с постели глаза у него горели. Он был выше ростом, худой, с порывистыми движениями. Он подбежал к Томашу и положил ему руку на плечо.
— Я думал о том же самом, Томаш. Честное слово! Сначала Индия, правда?
Томаш кивнул с важным видом.
— Только ведь надо чертовски сильно хотеть, — сказал он.
— Конечно! Ну, это мы сможем. Проберемся на какой-нибудь корабль, будем ездить зайцами в поезде, подносить чемоданы на вокзалах, чистить обувь, как Ким.
— И найдем учителей, — дополнил Томаш.
— Мы должны попасть к Ганди.
— Или добраться до Тибета…
Они посмотрели друг на друга и замолчали, как будто внезапно осознали всю трудность задуманного.
Михал не мог сдержать волнения. Сел на край стола, стал болтать ногой.
— Человече! — крикнул он. — Мы должны начать подготовку. Подожди, у меня есть атлас, — и начал рыться в книгах.
Томаш сдержанно улыбнулся.
— Оставь. Не сейчас. Все надо делать спокойно, сосредоточенно. Мы будем собирать сведения и делать запасы и будем писать друг другу.
— Раз в две недели!
— Хватит одного раза в месяц, — сказал Томаш. — Убери со стола.
Михал послушно выполнил распоряжение. Книги перенес на кровать, ручки, перья, куски проволоки, винтики и прочую беспорядочно разбросанную мелочь сгреб в ящик. Потом подошел к стоящему возле двери шкафу. Достал с нижней полки спрятанную за стопкой белья картонную коробку.
Предметы, которые он доставал из нее, ставил на стол бережно и аккуратно. Это были: медная мисочка с вычеканенными на ней какими-то нечеткими фигурами, маленький деревянный тотем, представляющий собой ряд примитивных человеческих и птичьих фигурок, помещенных одна над другой, круглая металлическая коробочка из-под таблеток от кашля «Вадьда», трубка из кукурузного початка на длинном бамбуковом, украшенном перьями чубуке.
Тем временем Томаш вытащил из-под дивана чемодан, порылся в нем и что-то оттуда достал.
— Держи! — Михал бросил ему извлеченный со дна коробки плюмаж. Точно такой же он надел себе на голову. Это были довольно слежавшиеся и измятые индюшечьи перья, нашитые на полоску белой материи, на которой цветными мелками были нарисованы геометрические узоры.
Томаш задвинул чемодан под диван. Стоя посреди комнаты, он примерял плюмаж. Михал рассмеялся:
— У тебя башка выросла.
Лента натянулась на висках Томаша, перья смешно торчали, образуя вместе с прядями волос целую копну.
— Если бы нас кто-нибудь увидел, — сказал Михал, — то подумал бы, что мы играем в индейцев.
У Томаша было озабоченное лицо. В очках, в обтянутом на животе тесном школьном кителе он совсем не был похож на индейца. Неуверенным движением он снял плюмаж.
— Знаешь что? — сказал он. — Я думаю, что это не обязательно. Мы, пожалуй, из этого уже выросли.
Михал с грустью снял свой индейский колпак.
— Наверно, ты прав.
Они придвинули стулья к столу. Михал зажег свечу в металлическом подсвечнике и погасил лампочку у кровати. Некоторое время пламя дергалось, вытягивалось и корчилось, отбрасывая беспокойные мягкие тени. Потом оно успокоилось, и мальчиков словно накрыло мягким шатром, затерянным в ночном мраке. Михал открыл коробку из-под таблеток «Вальда» и достал черную треугольную пластинку. Более острый ее конец он сунул в пламя. Когда она начала тлеть, он раздул тихо шипящий уголек и положил на дно медной мисочки перед тотемом. Дым поплыл вверх волнистой полосой, и вокруг распространился одурманивающий сладкий запах. Томаш полез за трубкой.
— Где у тебя курево? — спросил он.
Лицо Михала оживила таинственная обещающая улыбка.
— Смотри! — Он достал из кармана сигару в целлофане. — Свистнул у отца, — и забеспокоился. — Пойдет? Если нет, то у меня еще есть еловые иголки с прошлого года.
Томаш уступающе кивнул головой.
— Пойдет. Я тоже приготовил тебе сюрприз. Но это потом, во время разговора. Покажи. — Он взял сигару, надорвал целлофан и понюхал.
Михал ждал, открыв перочинный ножик. Когда Томаш кончил рассматривать, он отрезал кусок сигары и вставил в трубку.
— Начинай, — сказал он.
Томаш придвинул трубку к пламени. Долго всасывал. На глазах показались слезы. Сожмурившись, он выпустил изо рта клуб густого дыма.
— Это лучше, чем еловые иголки, — сказал он приглушенным голосом. — Возьми.
— Угу, — подтвердил Михал. — И совсем не такой уж крепкий. Как-то странно холодит в горле. — Он дунул на тотем, после чего протянул трубку товарищу.
Томаш затянулся, вытянул губы, как рыба, и стал окуривать тотем, пуская дым маленькими облачками снизу вверх.
После второго раза Михал подпер голову ладонью.
— У меня в висках пузырьки, как в газированной воде, — сказал он неуверенно. — Кажется, табак все-таки крепкий.
— Не надо затягиваться. Тебе плохо?
— Нет, что ты! Немного голова кружится.
— Потом докурим, — сказал Томаш, откладывая трубку. Он встал. Михал, чуть побледневший, стоял напротив него. Они одновременно протянули друг другу руки и соединили их в крепком рукопожатии. — Так вот, Михал, — улыбнувшись, сказал Томаш, стараясь придать своему голосу больше строгости, — в четвертый раз мы скрепляем печатью наш договор дружбы и правды. Чего ты мне желаешь?
— Тебе и себе желаю успешного выполнения плана, — ответил Михал.
— Тебе и себе желаю испытаний, — сказал Томаш. — Жары, холода, бурь и ураганов.
Они еще раз крепко пожали друг другу руки, потом Томаш повернулся, полез в верхний карман и быстрым, осторожным движением положил что-то к подножию тотема.
— Ырраимпх, — сказал он тихо, почти безразличным тоном, как будто произносил самое обычное, случайное слово.
Оба склонили головы и после некоторого колебания сели. Потом они немного помолчали, явно озабоченные. Предмет, который Томаш положил к подножию тотема, был чем-то вроде маленького конверта размером не больше почтовой марки, оклеенного по краям оберточной бумагой. В центре сквозь прозрачную кальку в свете свечи виднелись неясные очертания какого-то золотистого камешка.
В комнате стало душно. Дым из курильницы и из трубки собирался под потолком и колеблющимися слоями расплывался во мраке. Синяя пахучая полоска продолжала подниматься из медной мисочки. Михал расстегнул куртку и ворот рубахи.
— Думал ли ты сегодня о смерти? — спросил вдруг Томаш.
Михал кивнул.
— Думал. Знаешь, я сегодня утром смотрел, как Вера рубила кости на кухне… — Он быстро взглянул на мешочек, лежащий возле тотема. — Сверху, там, где суставы, они такие гладкие и скользкие, точно еще живые. А в середине видна красная сердцевина. Я подумал о том, что и у меня такие же. Я чувствовал их в себе. — Он сжал пальцами запястье левой руки. — Нужно все время помнить о своих костях, правда? Я старался представить их себе четко. Такие, какие они сейчас, а потом сухие и желтые, лежащие в гробу.
Он разжал пальцы и смущенно рассматривал белые следы на коже.
— Тебе казалось, что ты на них смотришь? — спросил Томаш.
— Да. Некоторое время я их видел совершенно отчетливо.
— Это была не смерть, — сказал Томаш. — Это ты, живой, смотрел на какие-то кости.
— На свои кости, — ответил Михал.
— Но ты только смотрел на них. Понимаешь, Михал? Это ты ощущал себя, смотрящего на кости. Смерти ты не чувствовал.
— А как чувствуют смерть, по-твоему?
Томаш улыбнулся, именно этого вопроса он и ждал.
— Видишь ли, в этом-то и дело. Я тоже думал сегодня о смерти, как и всегда. Так же: гроб, скелет, черви… В поезде была давка, люди разговаривали о разных вещах, и я не мог сосредоточиться. Мне казалось, что из-за этого я вижу только какие-то бледные картинки, как будто рассматриваю иллюстрации в какой-то книге. Но знаешь, я вдруг понял, что это неправда. Что я только притворяюсь перед собой. И наверно, мы до сих пор всегда притворялись. Потому что, пойми, для того, чтобы это почувствовать, нужно на минуту совсем перестать чувствовать. Соображаешь?
Михал недоверчиво сморщил лоб.
— Знаешь, что мне пришло в голову? — сказал Томаш. — Что на самом-то деле мы не верим в смерть.
— А может быть, это нам только снится? — сказал Михал. — И жизнь, и смерть. А может быть, мы сами кому-нибудь снимся.
Томаш пожал плечами.
— Какой-то философ уже выдумал что-то в этом роде, Не помню какой. Кажется, Платон, а может быть, какой-то англичанин или немец.
Михал смотрел на приятеля с уважением.
— Ты читал Платона?
— Проглядывал.
Оба посмотрели на Ырраимпх и озабоченно замолчали.
— Послушай, Томаш, — заговорил через некоторое время Михал, — а что ты думаешь о том, во что верят индусы? Ты знаешь, что мы жили всегда и будем жить дальше. В различных существах. В облике зверей или растений.
— Реинкарнация, — сказал Томаш.
— Да. Воскрешение душ. Для меня это звучит очень убедительно.
— Для меня тоже. Только, видишь ли, если это так, то мы все равно никогда не будем этого знать. Мы всегда будем только собой. Мы не будем помнить, что было до этого. Вообще не будем знать, было ли уже что-то или что-то еще будет.
— Я почти уверен, — пылко начал Михал. — Иногда я что-то делаю или что-то со мной случается, и знаешь, у меня вдруг такое ощущение, что это уже было. И довольно часто.
— У меня так тоже иногда бывает. А может быть, это просто что-то похожее на то, что уже действительно было. Какой-то запах, звук, слово. Может быть, в этом нет ничего необыкновенного.
— Я думаю, что ясновидящий Оссовецкий наверняка хоть что-нибудь знал бы об этом, — сказал Михал.
— Или Ганди, — добавил Томаш.
Пламя снова начало колебаться. На конце фитиля образовался нагар, похожий на головку мухи. Михал снял его с помощью ножа и спички. Потом дунул осторожно в миску, разжигая затухавшую курильницу.
— Меня одно удивляет, — сказал Томаш. — Взрослые живут так, как будто им все ясно. Или так, как будто им все безразлично, — добавил он через минуту.
— Или как если бы все было нереальным, — сказал Михал. — Словно они не ощущают в себе костей. Как будто не знают, что умрут.
— Или как будто все время притворяются. От страха.
— Но только от такого, небольшого. А не от такого, от которого человеку больно.
— От такого, совсем крошечного.
— Серость, — изрек Михал, а Томаш понимающе кивнул головой.
— Серость, — повторил он. — Это самая большая опасность. — Он встал, подошел к дивану и вытащил из-под подушки длинную бутылочку с красиво выгнутым горлышком. Она была запечатана красным станиолевым колпачком, на ней была наклеена разноцветная, полная медалей и завитушек этикетка. Сверху на голубом поле были изображены три звездочки, а внизу была надпись: «Koniak Stock».
— Человече! — воскликнул Михал.
Он взял из рук Томаша бутылку, посмотрел ее на свет, встряхнул золотистую жидкость.
— А как с харцерской [3] присягой? — забеспокоился он. Томаш взял со стола трубку.
— А это?
— Это обряд.
— Это тоже, — сказал Томаш.
— А мы не напьемся?
— Таким количеством? Самая маленькая бутылка, которую я мог достать. Но если даже… то это относится к тому, что мы должны испытать. — Он взял бутылку у Михала, снял колпачок. — Спрячь его на память. — Потом перочинным ножичком принялся выковыривать пробку. Получалось это у него неловко, часть пробки он вдавил внутрь.
— У меня только алюминиевая кружка, — сказал Михал.
— Сойдет.
Михал первый налил себе немного, робко пригубил. Поморщился, глубоко вдохнул.
— Очень странно.
Томаш глотнул и даже не покривился.
— Надо выпить больше, чтобы почувствовать вкус. Он разжег трубку от свечки и протянул ее Михалу. Они поочередно пили и курили, стараясь сохранять безразличное выражение лица, хотя Михала после каждого глотка всего передергивало.
— Наверняка с серостью можно бороться, — сказал Томаш. — Если о ней знаешь, это уже хорошо. Потому что она приходит незаметно, как сон. Я уверен, что это зависит от воли. Мы должны закалять волю.
Михал допил остаток коньяка в кружке, налил снова и глотнул. Теперь его уже не передергивало. Он сосал трубку и, широко открыв рот, выпускал дым.
— Прежде всего надо так устроить жизнь, чтобы не было скучно, — сказал он неожиданно грудным голосом.
Его движения стали резкими, угловатыми, какими-то агрессивными.
Томаш снисходительно смотрел на него.
— Конечно, — согласился он. — Но это, пожалуй, не самое главное. Самое главное, чтобы во всем всегда была ясность. Ты понимаешь, о чем я говорю? Цвет, вкус, истина, чтобы ничего не было такого — ни рыба ни мясо. Ты хочешь спать?
Михал пробовал скрыть зевоту, подперев лицо рукой, но у него трясся подбородок и вздулись вены на шее.
— Нет, я не хочу спать, просто здесь очень душно.
— Может быть, я не могу достаточно ясно выразить, — тянул дальше Томаш. — Например, идешь ты по улице и она кажется тебе серой, а когда внимательнее присмотришься — обнаружишь много цветов. Красные трамваи, афиши на киосках, рекламы, одежда людей. Только надо заставить себя быть внимательным. Вот однажды я шел по лестнице. Кажется так просто: идешь по лестнице. И что-то мне ударило в голову, дай, думаю, проверю, как это происходит. Сгибаю ногу в колене, поднимаю, выдвигаю немного вперед, ставлю ступню на ступеньку… Ну, хорошо, а откуда это берется? Что я, отдаю своей ноге какой-нибудь приказ? Я пробовал схватить этот момент, это нечто, что является причиной моего «восхождения» по лестнице. И вместо того чтобы идти, я остановился, и мне казалось, что я не смогу идти дальше, пока наконец меня не увидела Марыська и не закричала: «Чего ты здесь торчишь? Тебе надо уроки делать!» Понимаешь?
— Да, понимаю.
— Конечно, нельзя так на всем заострять внимание, тогда вообще ничего не сможешь делать, но, с другой стороны, если не наблюдать, тогда все станет неясным. Абсолютно все. С порядочностью тоже так. Послушай, ведь мой отец порядочный человек, и все его уважают… — Томаш долил кружку и сделал глоток. В бутылке осталось коньяку еще на две рюмки. — И я тоже его уважаю, но однажды я слышал, как они разговаривали с мамой в столовой о налогах. Ему прислали какие-то официальные бумаги, и он в них что-то там заполнял и говорил маме, что надо указать меньший доход, тогда меньше придется платить. Здесь что-то неясно. С одной стороны, конечно, порядочность, но не всегда и не во всем. А ведь здесь либо так, либо эдак. Если налог неправильный, надо написать им: я этот налог не признаю. Правда?
— А мои родители часто при Вере говорят по-французски, — сказал Михал и клюнул головой так, как будто бы споткнулся, хотя сидел да стуле.
Трубка уже погасла, и свеча едва возвышалась над чашечкой подсвечника. Только струйка дыма из курильницы упорно тянулась кверху мимо острых носов и клювов тотема, она извивалась и раздваивалась, словно прозрачная лента с загнутыми краями.
— Допивай остаток, — сказал Михал.
Томаш отрицательно покачал головой. Михал потянулся за бутылкой и приложил горлышко к губам.
— Свеча кончается, — сказал Томаш.
Ни с того ни с сего Михал начал смеяться. Он пристально смотрел на тотем, и смех сотрясал его плечи, падающую на лоб прядь.
— Над чем ты смеешься, Михал? Перестань. Над чем ты смеешься?
— Над этим. — Он вытянул руку и бесцеремонно ткнул в амулет.
— Михал!
— Не сердись, — продолжал он, задыхаясь от кашля. — На меня нашло. Столько мы здесь говорили о правде и о том, чтобы все отчетливо видеть. И этот наш Ырраимпх должен звать нас к правде, а ведь это только немного позолоты, которую ты соскреб с золоченой рамы.
— Да. Соскреб, — сказал Томаш, снимая очки таким движением, как будто поднимал забрало. — Ну и что? — Он протер глаза кулаком.
Михал успокоился.
— Ничего. Но это ведь известно.
Томаш оставался суровым.
— А может быть, не совсем? Видишь ли, это тоже не должно оставаться неясным. Хорошо, что ты об этом заговорил. Потому что когда-то это было только игрой и мы к этому привыкли. А теперь это уже перестало быть игрой. Ведь, Михал…
— Знаю, ну, знаю, — прервал его примирительно Михал слабым голосом. — Символ. Это я так, посмотрел на это обычным взглядом и поэтому…
Но Томаша не успокоила эта неожиданная капитуляция.
— Дело в том, — развивал он свою мысль, — какой придать всему смысл. Вот что является тайной. Правду в мешке не утаишь. Это могло быть чем угодно. Даже дохлой мухой. Но ведь важен наш уговор. Ты говоришь «немного позолоты» так, как будто бы думаешь, что я об этом позабыл.
Он взял амулет двумя пальцами и поднял вверх.
— Хочешь, я сожгу Ырраимпх на свече?
Михал отрицательно покачал головой и медленно встал со стула. Он был бледен и выглядел несчастным.
— Я прилягу на минутку, — сказал он. — Мне как-то не по себе.
Шатаясь, подошел он к кровати, улегся и закрыл глаза. Томаш наклонился над ним, осторожно коснулся кончиками пальцев его лба. Он смотрел на него с беспомощным участием.
— Знаешь что? Я открою окно. Мы страшно надымили.
Внезапный порыв ветра загасил свечу.
— Иди сюда. Подыши немного свежим воздухом.
Холодная тьма пахла сажей. Казалось, пронизывающая сырость оттепели вплывала в комнату какой-то ощутимой субстанцией. Из садика внизу доносился неровный шелест капель, срывающихся с голых ветвей деревьев и кустов. Опершись о подоконник, они стояли рядом, наклонив лица в темноту. Далеко над крышами этого тихого квартала светился в небе слабый отблеск огней города. Сквозь тонкую сеть веток тополя золотился квадрат одинокого окна в доме напротив. На этом теплом экране на минуту показался силуэт молодой женщины в просторном халате. Она наклонилась над чем-то или над кем-то, протянула вниз руки и тряхнула узлом собранных на затылке волос. Потом мягко опустилась, и окно погасло. Мир опустел еще больше. Под забором неясно белела полоска нерастаявшего снега. Где-то на железнодорожных путях печально вздохнул паровоз. Как бы вторя этому приглушенному стону, Михал глубоко вдохнул воздух. Рука Томаша лежала на его плече. Он ощущал ее как молчаливое подтверждение того, чего никто из них не умел высказать в эту минуту, но что переполняло их обоих, оно было похоже на тоску и отчаяние, на полное обещаний и беспокойства раздумье на берегу огромной реки, на пороге далекого неизвестного путешествия.
Из гостиной по другую сторону коридора доносился шум возбужденных девичьих голосов. Нежные и дерзкие интонации, фразы, доведенные певучим тоном до взрыва пенистого смеха. «Вечно они дурачатся», — подумал Михал. Вероника, всегда жадная до гостей, стояла в приоткрытых дверях, опершись мощным плечом о косяк. Улыбаясь, она показывала свои прекрасные зубы и время от времени от избытка радости встряхивала черной челкой. Она многозначительно подмигнула Михалу, когда тот возился возле вешалки, ища свободный крючок под слоем чуждо пахнущих пальто с голубыми нашивками на рукавах. Он оставил этот знак без внимания, но, когда свернул к лестнице, большая красная рука Вероники вынырнула из-под фартука и схватила его за рукав. Он дал притянуть себя к приоткрытой двери.
За круглым столом сидели подруги Моники. Светлые и темные волосы, подвижные руки над полированной плоскостью, все в вихре радостного оживления. Моника сидела съежившись в кресле, спиной к дверям, она размахивала руками в воздухе, словно дирижируя этим нестройным хором. Вероника приблизила к Михалу губы, полные горячего шепота.
— Ну, что, красивая девочка Ксения, а?! А светленькие волосы!?
Из всей картины, которая была только конгломератом шумов, Михал выделил фигурку в черном бархатном платье. Ксения сидела посредине дивана. У нее было круглое розовое личико, тупой носик, широко расставленные голубые глаза и необычайно пушистые короткие волосы, такие светлые, что казалось, они светились на фоне вишневой стены. «Она настоящая платиновая блондинка», — всегда говорила Моника таким тоном, как будто подчеркивала какую-то ее особую заслугу. Михалу эта белизна казалась скучной. Теперь он присмотрелся к Ксении внимательней. Черный бархат дышал теплом, переливаясь на чуть заметной девичьей груди. Вдруг девочка наклонила игривым движением голову и, прищурив глаза, улыбнулась, не разжимая губ. В ее лице на мгновение появилось что-то кошачье, и Михалу стало сразу смешно и весело.
— Как это мило, как прелестно, — восхищалась Вера.
Михал буркнул что-то и пошел к себе наверх.
* * *
Они сидели друг против друга, разделенные пространством пустой комнаты. Пять мальчиков в школьной форме, в выглаженных по этому случаю торжественно темных мундирчиках с белыми накрахмаленными воротничками. Влажные ладони, аккуратно лежащие на коленях, прилизанные волосы. Пять гимназисток в нарядных платьях, беспокойно вертящихся на стульях, беспрерывно шепчущихся и смеющихся.
Сухопарая пани Вечорек с нелепыми серьгами в увядших ушах заводила патефон, установленный возле боковой стены на круглом столике, покрытом плюшевой салфеткой. У столика сидела толстая, сладко улыбающаяся мама толстухи Стаей. Она бессмысленно перебирала толстыми пальцами бусинки искусственного жемчуга, ниспадавшие на ее обширный бюст, и время от времени всем телом проделывала неуклюжие извивающиеся движения, как будто пробовала переместить тяжесть с одной ягодицы на другую, чтобы сжать колени, широко раздвинутые пышными бедрами. Ее взгляд, останавливаясь на дочке, слегка затуманивался.
Ручка патефона болезненно стонала, а высокий каблук пани Вечорек выстукивал сухие, нетерпеливые ритмы.
Помещение, снятое для уроков танцев, выходило окнами на большую неоновую рекламу кинотеатра «Риальто». Мокрая от осенней слякоти улица была в этом месте ядовито-синей. Синевой блестела мостовая и зонты людей, стоявших в очереди перед кино. Моросящий дождь казался синим, и отблеск этой скользкой синевы сочился в комнату, странно приглушая свет желтого абажура под потолком.
Прямо в окно заглядывало огромное лицо. Подведенные зеленым глаза с выгнутыми лучистыми ресницами глядели жадно и неподвижно, волны зеленоватых волос, страстно приоткрытые фиолетовые губы. Не считающаяся ни с чем стремительность — хищная, таинственная и жестокая.
Пани Вечорек хлопнула в ладоши.
— Последний газ, внимание, показываю шаг вальса!
Она опустила иголку на медленно вращающуюся пластинку.
— И газ, и два, и тги, — возбужденно кричала она сквозь хрипящую мелодию, быстро двигая худыми ногами. — И газ, и два, и тги! И шаг, и пгиставить, и отход.
Она медленно кружилась по пустому паркету, размахивая костистыми руками, качая головой, как кудахчущая курица. Серьги в форме незабудок слегка подрагивали в ее ушах. Девочки в такт раскачивали концами туфелек, мама-дуэнья молитвенно сложила руки под разбушевавшимся бюстом.
Михал следил за этими упражнениями рассеянным взглядом. Он смотрел на Ксению, сидящую рядом с Моникой, со смутной надеждой, что опять увидит смешную кошачью улыбку. На ней было то же черное платье, что и на дне рождения Моники. Смешанный свет обмывал ее волосы лунным блеском. Михал ощущал в груди легкое щекотание, как при затаенном дыхании, — чего никогда раньше не испытывал, что-то очень тревожное и пронизывающее до глубины.
— И газ, и два, и тги! — Пани Вечорек, пританцовывая, доковыляла до патефона и остановила пластинку. Снова хлопнула в ладоши.
— А тепегь внимание, кавалеги будут пгиглашать дам. Минутку, — повелительно бросила она вырвавшемуся Юреку. — По моей команде. Подходим свободно, поклон, не очень низкий, скогее сдержанный, но полный уважения. Подаем пагтиегше гуку и с улыбкой пговожаем на сгедину. Итак… Внимание!
При сухом звуке хлопка Михал побледнел, пошел наискось, заслоняя дорогу чернявому Юреку. Тот слегка задел его локтем, но, натолкнувшись на решительный отпор, направился к толстухе Стасе.
— И поклон, и вальс! — поторапливала пани Вечорек.
Ксения стояла перед ним, слегка откинувшись назад. Она подняла в ожидании руки: левая согнута в локте (этот локоть был по-детски розовым), с кистью, свисающей, как цветок, готовой нежно лечь на его плечо, правая мягко вытянута и слегка дрожит.
Михал на секунду остановился, охваченный странной слабостью. Черный бархат плотно облегал фигуру девочки; он был наполнен ее теплом, ее приятной упругостью. Мысль о том, чтобы положить на него потную руку, казалась дерзостью, нарушением какого-то права на неприкосновенность. «Чужая, чужая», — думал Михал, и сознание этой таинственной отчужденности приводило его почти в обморочное состояние. Растерянный, смотрел он в лицо Ксении. Она щурила глаза и приветливо улыбалась. Эта улыбка, обаятельная поза ожидания, дрожание вытянутой руки говорили: пожалуйста, возьми меня. Какая безумная щедрость!
— И обнять пагтнегшу! И не бояться! — моментально проскрипела ему на ухо пани Вечорек.
Бесчувственными, деревянными пальцами она соединила их руки, как если бы это были два неодушевленных предмета, нетерпеливо подталкивая друг к другу. Пушистые волосы Ксении щекотали щеку Михала. От них шел запах, который он не смог определить, хотя запах казался ему знакомым. Но каждое даже знакомое впечатление захватывало своей новизной.
— И газ, два, тги. И плавно! И плавно!
Он пробовал избежать этого непрошеного вторжения. В горящем неоновым светом окне страстное лицо с фиолетовыми губами.
Давних чувств пожар,
Ритм скользящих пар…
— хрипел патефон.
Михал увеличил расстояние между собой и партнершей на длину руки. Молча уставился он на свои ноги, двигающиеся по паркету, как чужие. Когда он на минуту поднял голову, то заметил сочувственную гримасу на лице Моники. Она танцевала с плечистым Збышеком и насмешливо подмигивала из-за его сгорбленной спины. Михал споткнулся о ногу Ксении.
— Ах, простите! Простите, пожалуйста…
Она рассмеялась.
— Ничего страшного.
И вдруг приблизилась к нему настолько, что он почувствовал мимолетное прикосновение ее упругих грудей.
После уроков они долго провожали друг друга. Как только толстуха Стася и ее мамаша исчезли в черном кузове такси, Юрек бесцеремонно взял Ксению под руку и пошел с нею впереди. Михал шел между Моникой и маленькой Терезкой в очках. Погашенные витрины магазинов, как темные пруды, отражали их нечеткие силуэты. Блещущий рекламами, громыхающий трамваями центр был позади. Они выбирали тихие улицы, где изредка шуршали шины по мокрому асфальту, а прохожие проскальзывали быстрым шагом, подняв воротники. Михал рассеянно отвечал на вопросы. Все его внимание сосредоточилось на левой руке, все еще хранящей теплую гладкость бархата. Он старался не слышать смеха Юрека, отколоться от всех, остаться наедине с тем, чем тайно владел. Но это было нелегко. Ведь Ксения шла впереди него под руку с Юреком. Та же, с той же своей пронизывающей отчужденностью, со своим удивительным запахом, с тем искренним доверием, которое проявила к нему, приглашая его наклоном корпуса. Может быть, ей хватало собственного богатства, может быть, она наделила им каждого, без разбора, даже не зная об этом, так же как цветы и птицы. Они приближались к небольшому темному скверу, где среди облетевших деревьев, в кислых испарениях гниющих листьев мокла гипсовая лысина организатора местных хоровых кружков. Когда заворачивали за угол, Ксения неожиданно повернулась и в мутном свете уличного фонаря улыбнулась Михалу именно той, «кошачьей», улыбкой, улыбкой сжатых губ и очаровательно прищуренных глаз.
После ужина Моника развлекала родителей и Веру рассказами о своих впечатлениях. Великолепно копировала «газ, два, тги» пани Вечорек и ее хромающие танцы. Потом взялась за брата. Уставившись в пол, она то одеревенело расхаживала, бормоча «ах, простите», то копировала вскрикивания пострадавшей партнерши.
Михал убежал к себе на мансарду. Некоторое время он тупо сидел над тетрадкой с алгебраическими задачами, ожидая озарения, которое дало бы возможность понять смысл и зависимость написанных знаков. Только чудо могло помочь ему в этом, потому что переполняющие его душу эмоции не оставляли места для обычных мыслей. Наконец он понял это и решил переписать задание перед уроками у верного Людвика.
Он долго не ложился спать, все оттягивал этот момент, до озноба стоял у открытого окна, вдыхая сырой осенний воздух. Что он мог поделать с этим единственным чрезвычайно важным процессом, который в нем происходил? Перед ним громоздились горы пустячных постылых дел. Как он мог существовать до сих пор, не зная вкуса жизни? Михалу казалось, что сегодня он не заснет. Пробовал читать, но читал все время одни и те же фразы, не понимая их смысла. Наконец он полез за наушниками собственноручно сделанного детекторного приемника.
Мембраны чуть слышно потрескивали, когда он касался проводом кристаллика. Вдруг он замер. Закрыл глаза, лег навзничь. Это не случайность. Так должно было быть, хотя он не надеялся и не ожидал. Это подтверждение. Знак. И опять к нему вернулось все: и неповторимый, как будто знакомый и все же совсем иной запах волос, и улыбка забавно сжатых губ, и манящий жест, и скользкая мягкость бархата, и «изысканный вальс Франсуаз».
У Моники были острые глаза. Она видела все. Тем, что подмечала, любила забавляться. Теперь она играла на интересе Михала ко всему, что происходило в ее классе. Рассказывая ему о мельчайших школьных событиях, она делала вид, что не понимает, в чем дело, и вынуждала его, чтобы он в конце концов сам спрашивал, неуклюже и в обход, о том, что его интересовало.
Когда она рассказывала о состоявшейся волейбольной встрече, в ее глазах сразу зажигался насмешливый огонек, а Михал в бессильной покорности наклонял голову, ожидая приготовленное для него лассо, прекрасно понимая, что будет дальше, и все-таки не в силах отказаться от этой приманки.
— А кто у вас играет лучше всех? — спрашивал он нарочито безразличным тоном.
— Магда Шимусик, — отвечала Моника не задумываясь.
— А кроме нее?
— Девочки говорят, что я, но, по-моему, Ольга Урбанек.
Ему казалось, что он слышит смех, с каким она спрашивала себя: «Вывернется или не вывернется?» Но внешне это было незаметно. Ах, как великолепно она вела эту игру! Она уже начинала говорить о чем-то другом. В отчаянии он прерывал ее на полуслове, продолжая задавать вопросы.
— Ведь Ольга очень низкого роста, чтобы бить.
— Не все высокие бьют. Например…
Он замирал в ожидании.
— Например… — задумывалась она, словно утомленная его назойливостью (только озорная искорка блестела под прищуренными ресницами), — например, Галина.
Он был уже близок к капитуляции, был готов отказаться от всех уловок, когда вдруг, к еще большему его смущению, она бросала ему желанную милостыню:
— Но лучше всех в спортивном костюме выглядит Ксения. Она сказочно стройна.
Михал краснел до корней волос и в бешенстве убегал, покоренный и счастливый.
Почему она никогда не краснела? Если бы он нашел у нее какую-нибудь слабую струнку, он сумел бы получить независимость. Иногда он пытался ее поймать.
— Тебе нравится Збышек?
— Я люблю его. Такой добродушный бычок.
— А Юрек?
— Смешной. Ему кажется, что он Рамон Новарро.
Она разражалась беспечным смехом. В нее нельзя было попасть. Очень ловкая, очень легкая, очень веселая. Но она в любую минуту могла поймать его на крючок.
Часто они выходили в школу вместе. Однажды она изменила обычный маршрут.
— Пойдем мимо вокзала, — сказала она, — я хочу посмотреть туфли в «Саламандре».
Они остановились на углу улицы Святого Яна. Так, будто бы случайно. И вдруг со стороны виадука появилось красное пальтецо с черным кроличьим воротником. Ксения приближалась легкими шагами, размахивая портфелем. Холодное солнце осеннего утра превращало ее волосы в пушистую светлую дымку.
— О Моника, Михал!
Она протянула ему по-мальчишески жесткую маленькую руку.
— Дай я понесу портфель, — предложил он.
После некоторого колебания она согласилась.
Это был обычный ученический портфель, как тысячи других, такой же изношенный, как и его собственный. Ремешки на концах растрескались и растрепались, пряжки почернели и потеряли блеск. Но, даже не глядя на него, он ощущал одному ему присущую особенность. В нем были книги и тетради Ксении, и Ксенины гимнастические туфли, и Ксении завтрак. Наполненный живым, таинственным содержанием, он отягощал многозначительным и нежным бременем, ни на минуту не позволяя забыть о себе. А кроме того, он издавал тот неопределенный, нежный и слегка раздражающий запах, которым пахли волосы Ксении.
В тот день в течение всех уроков он чувствовал вокруг себя этот запах. Внезапно вызванный к доске на уроке латыни, он рассердил учителя сонной улыбкой, но ни насмешка, ни размашисто вписанная в дневник четверка, не сумели омрачить сладости, наполнившей его каким-то тихим, нежно-мерцающим светом. Все происходившее в классе было лишено значения. Единственным доказательством действительности — той настоящей, сияющей в другом доме, через несколько улиц отсюда, — было затаенное в руке воспоминание о тяжести портфеля.
Там она наклонялась над тетрадью, улыбалась, встряхивала душистыми волосами, говорила, дышала, жила в ореоле очарования, в ореоле волнений, в ореоле чарующей чуждости.
* * *
Он не переставал этому удивляться. Ходил в невиданном облаке обаяния, которое придавало каждой вещи новый вкус, новые краски. Он боялся, что привыкнет, но не привыкал. Облачко не улетучивалось, колеблющаяся ясность была тут же, на границе каждого выдоха. Иногда это мучило его, иногда пугало.
На уроках танца они уже разучивали танго, слоуфокс и даже румбу. Взаимные провожания становились все более длинными. Каждая из учившихся на курсах девочек светилась отраженным светом Ксении. Однажды он чуть не рассмеялся, когда, встретив на улице высохшую пани Вечорек, должен был глубоко вздохнуть, чтобы успокоить внезапное сердцебиение.
Ксения жила в новом районе, великолепные корпуса которого вытесняли из города покосившиеся заборы и беседки садовых участков. Улица была застроена только с одной стороны. Вечером ее освещали два фонаря, покрывая стеклянным блеском голые ветви, торчащие из-за высокого забора напротив. Асфальт обрывался сразу же за последним домом, дальше шла узкая тропинка, петлявшая между лабиринтом участков, вся в выбоинах и черных лужах. Мало кто ходил по этой улице. Кроме ее постоянных жителей — служащих различных промышленных синдикатов и объединений, — здесь можно было встретить только пожилых людей в измазанных глиной сапогах, с граблями, тяпками или с корзинками, полными травы для кроликов.
Когда они первый раз подходили к дому Ксении, из мрака, бренча и звеня, вырвался велосипедист. Неожиданно повернув руль, он влетел на тротуар и остановился в свете фонаря, преграждая им путь.
Худой плечистый мальчик в белом свитере, с коротко остриженными, торчащими над лбом волосами, опираясь ногой о педаль и повернувшись к ним смуглым лицом, задиристо смотрел на Михала узкими глазами.
— Станко, не задирайся, — сказала Ксения таким голосом, каким девочки наказывают своих кукол.
Паренек сверкнул зубами, описал велосипедом дугу и, пронзительно свистя, помчался в направлении темных садиков. Со всех сторон из-за заборов ему отвечали таким же свистом.
— Это один чех с нашей улицы, — объяснила она. — У него здесь своя банда.
В один из вечеров Михал осмелился взять Ксению под руку. Это получилось у него неожиданно легко: приглашающий ловкий жест, уверенная улыбка — такая же, как у чернявого Юрека. А потом, после минутной неуверенности, удивительное спокойствие, как будто уже что-то выяснилось, как будто пала какая-то преграда. Он разговаривал, шутил, словно это было чем-то совершенно обычным, вместе с тем все время чувствуя необычность ситуации, что, однако, не делало его несчастным, а наоборот — придавало ему красноречия. Сейчас это спокойное ошеломление внезапно угасло.
— Почему он так себя ведет, этот Станко?
Ксения рассмеялась. Они были уже у ее подъезда.
— Он ревнует, — сказала Ксения.
Ревнует. Но что это значит? Может быть, потому, что он, Михал, победил, а может быть, потому, что у него есть какие-то права, о которых он имеет право напоминать. И почему он так быстро уступил? Достаточно было нескольких слов, сказанных таким тоном, каким девочки разговаривает с куклами. Может быть, они так хорошо понимают друг друга, потому что ему нечего бояться? Может быть, этот свист был не протестом побежденного, а насмешкой победителя? Еще вчера Станко не существовал, и вот внезапно он стал для Михала чем-то очень важным, почти близким (в том особом смысле, в котором всякая чуждость была ему близка). Михал думал о нем с каким-то тревожным интересом. Он видел его в момент воинственной стойки — в секунду неожиданного появления из мрака, в котором он до этого находился и в котором он тут же исчез, но уже как существо, раз и навсегда доступное чувствам и воображению. Станко был прекрасен в своей агрессивной ловкости, злом блеске улыбки. Он был олицетворением вызова. И это тоже было в нем волнующе прекрасно. («У меня есть соперник», — думал Михал, дрожа от возбуждения.) Но особенно волнующим было сознание предпочтения, которым он пользовался, живя на этой улице, в атмосфере ее очарования. Потому что улица пахла волосами Ксении. Могло показаться, что терпкий аромат сжигаемых в садах листьев забивает запах ее волос, но каким-то чудесным образом этот дым был пропитан их запахом, подчинялся ему, делал его еще более дурманящим. Разве можно было перед этим устоять? Между уроками танцев недели зияли тоской перерыва. А ведь там было место, насыщенное ее присутствием, место волнений и приключений. Таящийся в темноте Станко со своей бандой, затененный теплый свет лампы в знакомом окне на втором этаже.
— Михал, куда ты бежишь?
Он оборачивался в дверях, с шапкой в руке, настигнутый, но полный решимости вырваться даже силой.
— К Збышеку, за книгой.
— Михал, куда?
— На сбор.
— Михал, куда ты идешь в такое время?
Он хлопал садовой калиткой и убегал как угорелый. По улице Ксении он шел крадучись, вдыхая с благодарным удивлением ароматный воздух. Осень была дождливая, и вечерами чаще всего шел дождь, но это ему не мешало. Это было даже разумно — мокнуть в холодном мраке, стоя напротив света и тепла, исходящих из ее убежища. Этого требовал дух жертвенности. Он зорко высматривал Станко. Станко был драконом, стерегущим вход в заколдованную страну. Однажды Станко проскользнул мимо него. Он бежал со стороны площади, пиная ногой мяч. Он вел мяч в вечернем мраке, темный блестящий мяч, по влажному асфальту, бежал за ним трусцой, как собака, подпрыгивая и легкими ударами отпасовывая другому мальчику, а тот сразу же возвращал его назад. Они были целиком поглощены этим, как будто вели важную беседу или исполняли какой-то сложный танец. Наконец Станко вбежал в какие-то ворота, остановился, низко наклонив голову, раскорячился, широко растопырив руки, и крикнул: «Бей!» — и тут второй ударил изо всех сил, а Станко бросился на летящий мяч, схватил его, с коротким стоном прижал к груди и исчез в глубине двора.
Михал почувствовал облегчение и одновременно разочарование. Ему показалось, что Станко не справляется со своей ролью. Вместо того чтобы подстерегать его, он беззаботно играет. Обыкновенный щенок. Видимо, не понимает важности происходящего, не принимает его всерьез.
Он, Михал, жил исключительно этим. У четвертого окна направо от небольшого балкона был иной свет — розовый и мягкий, словно пар. Это, очевидно, торшер, а комната, наверно, наполнена нежными, как пух, вещами, цвет которых поглощает свет лампы. Там находится она, как птица в уютном гнезде, погруженная в свое обаяние, не зная о преданно стерегущем ее взгляде.
Он медленно ходил взад и вперед в тени забора, не отрывая взгляда от окна, следя и за другими окнами квартиры, где разыгрывалась таинственная пантомима жизни ее семьи. Он уже знал круглую лысую голову отца, и худую, двигающуюся как во сне тень матери, и растрепанный, похожий на гриву жеребенка чуб младшего брата. Они двигались по прозрачным экранам занавесок, сжимались и вытягивались на стенах, переломленные наискось, вползали на белые потолки, проделывая неожиданные движения — то медленные, то оживленные загадочным, словно весело разыгранным буйством. Они напоминали рыб в аквариуме, надолго застывающих в странной задумчивости, а потом вдруг снова начинающих плясать без видимой причины. Иногда кто-нибудь из них действовал самостоятельно. Михал с напряжением наблюдал за выразительной жестикуляцией, направленной, казалось, в пустоту, пока над рампой подоконника не поднималась отрицающая или утверждающая рука невидимого слушателя либо вырастал, как из люка на сцене, весь силуэт с каким-нибудь жестом или кивком, являвшимся ответом на неслышимые слова. Носили какие-то предметы, уплывали вглубь, снова приближались, вечно занятые какими-то дискуссиями, какой-то игрой с неизвестными правилами и целями. Случалось, что одна из занавесок была отодвинута, а иногда даже было открыто окно. Тогда изображения приобретали размеры, движения утрачивали плавность (хотя по-прежнему оставались случайными), появлялись шокирующе конкретные детали — блеск лысины, цвет лица, часть висящей в глубине картины, на которой, кажется, было изображено вспененное у темных скал море. Но все это становилось еще более загадочным, так как было неоднородным, подчиняющимся одновременно законам двух несоединимых миров.
Особые эмоции вызывали у Михала всякие отступления от вечернего ритуала, когда, например, на сцене появлялся кто-то чужой или когда представление происходило не в том окне, в котором он предполагал его увидеть, среди еще не очень хорошо освоенного воображением реквизита. Разумеется, он ждал ее. Тот факт, что она была как бы за скобками этих мистерий, что она показывалась чрезвычайно редко и всегда только на заднем плане, в каком-то сдержанном скольжении, вовсе его не удивлял. Вся эта церемония и без того касалась ее, происходила вокруг нее и в ее честь, она же должна была сохранять дистанцию, не могла опрощаться, не могла быть доступной даже для них.
Нужно было постоянно находиться настороже, потому что ничто не предвещало ее появления. Она могла показаться на мгновение в своем розовом пригашенном свете, но могла также проскользнуть и через бледно-желтую ясность гостиной, замаячить где-то в глубине, неожиданно подняться снизу, выманенная жестом материнской руки. И неизвестно было, что она тогда сделает. Отрицательно покачает головой, задумчивым движением поправит волосы, подаст что-нибудь отцу, наклонится, побежит или остановится у окна, как будто ища кого-то в темноте мимолетным рассеянным взглядом. Но что бы она ни делала, это всегда было в высшей степени захватывающим, прекрасным и полным значения. И тогда Михал задерживал дыхание и его пронизывало резкое и нежное чувство удовлетворения.
Сначала ему было этого достаточно. Он возвращался домой как одурелый. Он закрывал глаза и среди отчетливых, прочных поверхностей своего мира еще раз переживал виденное в театре теней. Оно имело над ним такую власть, что почти поглощало и лишало реальности этот прочный мир. Михалу, глаза которого неожиданно приобретали глуповато-задумчивое выражение, его собственный дом начинал казаться каким-то таинственным аквариумом, где между призраками вещей двигались и непонятно разговаривали призраки людей.
Душа Михала превратилась в странные дебри, в строго охраняемую заветную зону. Никто не мог узнать, что в нем происходит. Никто, никто на всем свете не знал ни его тайных восторгов, ни непрекращающегося восхищения.
Но Михал чувствовал, что это только ворота в какие-то еще более упоительные страны. Он должен был к ним стремиться, должен был действовать. Он знал, что только от него зависит, утратит ли он это счастье или умножит его. Пассивное созерцание было непростительным легкомыслием.
В один из вечеров, когда Ксения появилась в окне своей комнаты, он просвистел несколько первых тактов Монюшковских курантов. Ему показалось, что она вздрогнула и ближе подошла к окну. И сразу же исчезла, как будто сраженная, как будто уже вовлеченная в его заговор. Видела ли она его? Догадалась ли? На уроках танцев он никогда не упоминал о своих вечерних дежурствах. Был ли это стыд или только расчет — какой-то особенный страх перед нарушением очарования тайны, перед приданием туманным переживаниям слишком отчетливой формы, — он и сам не смог бы сказать. Ему нравилась таинственность и длительность выбранного пути. Словно ребенок, наслаждающийся новым лакомством, он боялся пресытиться, желая, чтобы все узнанное длилось бесконечно. Даже нетерпение. Даже голод.
В следующий раз он засвистел, не рассчитывая на ее появление. И вот, словно только ожидая сигнала, она уже была в окне. Отодвинула занавеску, оперлась рукой о раму и посмотрела во мрак, освещенная снизу из глубины так, что волосы ее были прошиты пушистыми нитями света.
После длительного колебания он вышел из своего укрытия. В лучах фонаря искрились мелкие пылинки дождя. Он стоял неподвижно, с лицом, поднятым к ее окну. Она тоже не двигалась. Он не мог рассмотреть ее глаз, черт ее лица. Один лишь обращенный к нему силуэт, очерченный мягким сиянием. Вдруг она повернулась и отошла, а потом ее окно погасло. Он отступил в тень забора и только теперь почувствовал влажный холод, как будто погас единственный источник тепла. Некоторое время он еще стоял в нерешительности, сгорбленный, засунув руки в карманы пальто. На сегодня это, кажется, было уже все. Вполне достаточно, чтобы долго-долго мечтать, лежа в постели.
Наконец он решил, что пора уходить. Еще один последний взгляд. Вот темное окно и остальные четыре, светлые, временно пустые, оставленные даже статистами. Но в этот самый момент из парадного появилась быстрая тихая фигурка. Красное пальтецо с темным меховым воротником, берет над светлым облачком волос. А запах улицы сразу же усилился, и дрожащее сердце Михала остановилось. Она сделала несколько решительных шагов, как бы с разбега или стремясь к точно определенной цели, а потом остановилась и огляделась. Он направился к ней, а она улыбнулась, широко открыв глаза от удивления.
— Михал?
— Куда ты идешь? — спросил он.
— …н-никуда… просто хотела немного пройтись.
Он взял ее под руку, ошеломленный, неподготовленный, не зная, как себя вести дальше. Пустая, темная улица, и они вдвоем совершенно одни, как бы принадлежа только друг другу. Они направились в сторону площади, но не дошли даже до угла. Что им делать на ярко освещенных тротуарах среди людей, взгляды которых могли только напомнить им, что они всего лишь школьники с голубыми нашивками на рукавах? Поэтому они свернули к пахнущим осенней прелью садикам, уже полностью окутанным ночною тьмой.
— Я прихожу сюда уже давно, — сказал он, когда под их ногами захрустел мокрый шлак.
— Правда? — Она легонько, словно благодаря, прижала его руку.
— Ты не знала об этом?
Она молчала, а потом тихо засмеялась.
— Знала.
Черные заборы неподвижно торчали во мраке. Капли с шорохом падали с невидимых ветвей. Он ощущал тепло ее руки. Ему хотелось сказать ей что-нибудь очень важное и приятное, что-то такое, чтобы она сразу все поняла. Но что это было, это «все»?
— Ты слышала, как я свистел? — спросил он.
— Да.
— И вышла ко мне?
— Да. Мне хотелось с кем-нибудь пройтись.
— Все равно с кем?
— Нет. С тобой.
— Ксения…
Вдруг она пискнула, отскочив в сторону. Холодная влага охватила его ступни. Он прыгнул, увлекая Ксению за собой в новую лужу.
— Какая грязь, — сказала она с упреком.
Они были вынуждены разделиться, потому что только у самого забора шла узкая полоска сухого грунта.
Он видел перед собой темные очертания ее фигуры, как будто близкой, но такой же недосягаемой, как и в окне.
— Ксения…
— Осторожно, очень скользко.
Прогулка продолжалась недолго. И когда, промокшие и озябшие, они опять стояли в подъезде ее дома, она протянула ему руку с милой улыбкой.
— Спасибо, мне было очень приятно.
Из глубины улицы до них донесся внезапный шум крикливых поющих голосов. На углу, в свете фонаря, кружились, как мошкара, гибкие силуэты.
— Возвращайся лучше через сады, — сказала Ксения. — Оттуда ты можешь выйти на улицу Костюшко.
Он несколько утрированно пожал плечами. Это можно было принять за дрожь.
— Ничего, все будет в порядке, — пробормотал он.
Сколько же их там было? Кажется, четверо. Она не стала бы смеяться над ним, если бы он согласился. Он надеялся, что она не посмотрит из своего окна. Хотя, конечно, они будут перед ней похваляться. С неприятно сжавшимся сердцем приближался он к площади. Может быть, не заметят? Осталось несколько метров забора.
— Ты!
Станко стоял, опершись спиной о забор. Наглые узкие глаза, мохнатый свитер, блестевший от мелких капелек дождя. Несколько парней на мостовой, на краю тротуара, застывшие в неестественных позах. Михал спокойно шел, не отводя взгляда от темного лица Станко.
— Эй ты! Хочешь получить по зубам?
Он был уже за углом. Здесь она уже не могла его видеть. Он услышал за спиной свист и бросился бежать.
Неужели она его презирает? Узнала, что убежал, и презирает? На следующий день он напрасно несколько раз высвистывал куранты. Она даже не подошла к окну.
И на следующий день было так же. Вот какая-то тень на стене. Нет, это ее мать. Покружила, наклоняясь над чем-то. Потом вышла, и опять ничего. Отвергнут. Какой ужасный, лишенный добра мир! Он ходил по своей комнате, садился на стул, брал в руки книги, тетради и клал назад. Все было бессмысленным, поникшим. Каждый шаг зиял тоской бессмысленности. Товарищи звали его с улицы. Он не отвечал. Значит, вот как выглядит страдание! Ему казалось, что, если бы не надежда увидеть ее в субботу на уроке, он перестал бы жить — просто из-за отсутствия смысла существования.
Он упорно продолжал убегать по вечерам, заранее зная, что идет только убедиться в своем поражении.
Его насторожил взгляд отца за ужином. У отца были карие, глубоко посаженные глаза, в которых всегда таилась незаметная усмешка — иногда одобрительная, иногда пронзительно холодная. Она означала, что самый мелкий штрих замечен им и по достоинству оценен. За ужином отец задержал на Михале свой взгляд, направленный из-под густых бровей, дольше обычного, а затаенная усмешка была как бы и приветливая, и холодная одновременно. Это могло быть началом одной из тех бесед, начинающихся сказанной суровым голосом, формулой: «Ну, Михал, давай поговорим». В этот день он, как обычно, побежал на улицу, где жила Ксения. Окно по-прежнему было пусто, и над несчастьем покинутого мира висела дополнительная угроза отцовского «поговорим». Подавленный, прокрался он на цыпочках к себе на мансарду. Внизу, за закрытыми дверями кабинета, были слышны голоса. Он остановился с бьющимся сердцем.
— Надо с этим покончить, — говорил отец. — Мы не должны делать вид, что принимаем всерьез все эти басни про собрания и вечерние визиты к товарищам.
Шорох шагов по ковру, и — наверно, в ответ на какой-то жест или тихое слово — опять отец:
— Хорошо, но есть какие-то границы терпению!
А потом мать примиряющим голосом:
— Ромек, это самые счастливые минуты в его жизни!
Он взбежал наверх. Какой позор, эти спазмы в горле! Столько чувств сразу. Такое смятение. Немного успокоившись, он вырвал из блокнота листок и написал сверху: «Ксения!» А через полчаса разорвал начатое письмо, как и все предыдущие, на мелкие кусочки.
Пришла суббота. Они с Моникой одевались так, как будто школьная форма была изысканным туалетом, требующим особой тщательности. Перед самым выходом Михал пошел в ванную в последний раз вымыть руки, которые все время казались ему недостаточно чистыми. Моника перед зеркалом поправила белый воротничок.
— Кажется, сегодня Ксения не придет, — сказала она, перехватывая в зеркале его взгляд. Он почувствовал, что бледнеет.
— Почему? — выдавил он.
— Я тебе не говорила? — удивилась она, как будто речь шла о самой безразличной вещи на свете. — Она простудилась. И со вторника не ходит в школу.
* * *
Михал никогда не предполагал, что он такое интересное существо. Как будто только сейчас он начал узнавать себя, полный любопытства, восторга и благожелательности. Этому была причиной она. Теперь ему уже не надо было простаивать под ее окнами. Когда они расставались после урока танца, она говорила ему тихо, чтобы никто не слышал: «В среду в пять» — или: «В четверг, после музыки». На уроки музыки ей приходилось ходить очень далеко — а часто, поскольку теперь он хорошо знал расписание ее занятий, происходили еще и другие «случайные» встречи.
Во время прогулок он создавал себя в соответствии с потребностями ее чувств и воображения. Михал смутно понимал, что сейчас он может предложить немного, поэтому он старался понравиться ей своим будущим. Он не лгал. Он мечтал вслух. Из этих его монологов вырастала фигура странная и таинственная — не то безумный рыцарь, не то бродяга, не то авантюрист, не то странствующий аскет.
— Не знаю, найду ли я женщину, которая захотела бы разделить мою судьбу, — говорил Михал. — Она должна будет отказаться от удобств, денег и родины. Легкую жизнь я не смогу ей обещать. Я знаю это точно: все что угодно, только не легкую жизнь.
Он презрительно надувал губы, почти с отвращением произнося «легкую жизнь», а Ксения широко открывала голубые глаза и с удивлением смотрела на него. Это выглядело так, как будто он уже вернулся к ней, опаленный ветрами морей и пустынь, полный мудрости далеких стран. И он становился чужим самому себе, источающим обаяние загадочности, лишенным скуки обыденности.
Ее имя было теперь как магический пароль, открывающий не только мир ее чар, но и клад неизвестных ему собственных тайн.
Ксения, КСЕНИЯ, Хеша — страницы его тетрадей были заполнены бесконечными пробами начертания этого слова. Он даже вырезал украдкой ее инициалы на парте. Эти несколько букв заключали в себе зародыш такого волнения, что писание их стало чем-то вроде страсти.
Он пробовал также рисовать ее. Это было нелегко, потому что выражение ее лица складывалось из постоянно меняющихся отблесков, мерцаний и теней, словно отбрасываемых какими-то нежными, проплывающими по небу облаками. Неуловимый прищур глаз, вздрагивание губ, вскидывание бровей — из этого возникало все ее обаяние, которое не могли передать ни овал пухлых, довольно широких щек, ни линия короткого и совсем неправильного носа, ни округлость подбородка. Михал занялся «кошачьей» улыбкой Ксении. Целые страницы он покрывал набросками сжатых губ со слегка приподнятыми уголками. Этими упражнениями он занимался преимущественно в школе, делая вид, что внимательно записывает урок.
Скучный голос учителя непонятно жужжал, вопросы, как снаряды на поле боя, падали то ближе, то дальше. Михал даже не поднимал головы, потому что как раз в это время он схватил в изогнутой линии сходство, и эта ускользающая улыбка была здесь, здесь, парила в воздухе. Любое неосторожное движение, любая невнимательность могли ее спугнуть. К едва намеченным губам он осторожно дорисовал лицо. Это требовало огромной сосредоточенности. Он ведь не видел ее. Он только чувствовал ее в себе, как мелодию. Карандаш дрожал у него в руках, легко вырисовывая брови, горизонтальные эллипсы глаз. Но как передать потрясающую нежность щек? Как обозначить границу волос и света? Ему казалось, что он на правильном пути и что возникающий рисунок содержит в себе отблеск жизни.
Это случилось на уроке немецкого языка. Низенький учитель пан Кноп сухо стучал высокими каблуками — от окна к двери, от двери к окну — и скрипел, упиваясь собственной иронией, злобным презрением в адрес того, кто не мог ответить на вопрос. Михал с вдохновением созерцал свое произведение. Из пышных заглавных букв и различных вариантов начертания имени «Ксения» вырисовывалась девическая головка, еще не законченная и, может быть, не очень похожая, но полная обаяния, именно ее неуловимого обаяния. Подумав, он сделал на шее еще два вертикальных штриха. И хотя это был схематичный набросок, Михала охватило нежное беспокойство, так как он увидел гладкую и тонкую округлость, а губы его задрожали от желания прикоснуться к этим теплым чертам. Он почувствовал удивительную слабость, от которой закрыл глаза. В этот момент сосед по парте сильно толкнул его локтем. Он услышал свою фамилию — ее произнесли враждебным тоном, с каким-то шипением, свидетельствующим о том, что это делается не впервые.
Он вскочил, пряча рисунок под открытую книгу. Пан Кноп внимательно всматривался в него бесцветными глазками. При этом он медленно раскачивался, с носков на пятки, посапывал носом и слегка шевелил маленькими ладонями, большие пальцы которых были заложены за вырезы жилета. У него было сморщенное личико старого мопса, на которого надели очки, его тонкая шейка свободно вылезала из старомодного воротника с закругленными уголками, и неожиданно круглый, вздувшийся, как шар, торчал живот.
— Na, ja, wir träumen, — говорил он с наигранным добродушием. — Wir sind ein Schöngeist, ein Wolkenschieber [4].
Он ожидал одобрительного смеха, которым несколько верных подхалимов обычно приветствовали ею остроумие.
Михал отчаянно напрягал слух. «Erlkönig» [5], — уловил он среди разнообразных шорохов класса.
— Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? [6] — начал он.
— Выйди из-за парты, — прервал его учитель.
Маленькими шажками, не торопясь подошел он к Михалу, наклонив голову набок, зорко поблескивая очками. Михал паническим движением засунул руку под книжку. Он был готов на все. Он готов был драться с учителем.
Маленькая, покрытая коричневыми пятнами ручка опустилась на парту с неожиданной ловкостью.
— Halt, mein Kerl [7].
И вдруг Михал онемел от удивления. Листка с рисунком под книжкой не было.
— Что ты там делал?
— Ничего, пан учитель.
Кто-то засмеялся. По задним партам прошла волна веселого шепота. Он не сразу понял, что случилось. Но когда наконец обманутый учитель отошел и Михал сел на место, за его спиной послышался издевательский вздох и с отвратительной дрожью на все лады произносимое: «Ах, Ксения!»
Спазм ярости сжал ему челюсти. Он сидел сгорбившись, ничего не чувствуя, кроме растущей в нем ненависти. Это был последний урок. И едва только звонок возвестил его конец, он вдруг повернулся с силой внезапно освободившейся пружины.
— Отдай! — зарычал он в смеющуюся рожу Пинделы.
Тот весело ощерил неровные желтые зубы.
— Что?
Кулак Михала был быстрее, чем решение. Его удар был сильным. Со всех сторон раздался радостный рев. Вцепившись друг в друга, они упали на пол в тесном проходе, стукаясь головами о парты. А сверху обрушился ливень подзадоривающих криков:
— В морду!
— Дай ему! Дай ему!
Кто-то пискливо пел:
— Ксения! Ксения!
Их придавили чьи-то мечущиеся тела. Михал вскочил. В воздухе мелькали набитые книгами портфели. Он подлетел к плечистому, неистово размахивающему кулаками Гондеку. Костистое колено угодило Михалу в живот. У него остановилось дыхание и он упал под кафедру. Раздался всеобщий хохот. Весь класс гоготал, ржал, выл в экстазе веселья. Почему? Все смотрели на доску. На ней висел измятый грязный листок. К головке Ксении кто-то чернилами пририсовал неуклюжее туловище. Он видел это лишь одно мгновение. Насмешливая толпа преградила ему путь. Но он увидел все. Тончайшая улыбка из облачков, из лучей, улыбка, предназначенная только для него, была обесчещена, затоптана в грязь. Большие, обвислые груди с черными кляксами сосков, по-жабьи раскоряченные ляжки и то таинственное место девичьего тела, которое он со страхом приказывал своему воображению обходить, было намалевано схематично, непристойно, грубо, упрощенно, как на рисунках, нацарапанных на стенах школьных уборных.
— Ксения! Ксения! — кричали они. — Вот так Ксения!
Он отступил к стене, схватил прислоненную к ней тяжелую палку, служащую обычно указкой. О, как кстати эта твердая гладкость дерева в руке! Он страстно хотел причинять боль.
— Хамы! Хамы! — кричал он, метя в увертывающиеся головы и ударял с такой силой, на какую только был способен, не зная, куда попадет. Рев усилился, теперь уже полный ярости и страха. Портфели падали с грохотом, как тяжелые снаряды. Звякнула разбитая чернильница.
Кто-то сзади стал выкручивать ему руки.
— Михал, успокойся! Михал…
Он пытался вырваться, но Збышек был сильнее. Прямо перед ним Юрек дрался с Пинделой, губы и подбородок которого были в крови.
— Ребята, хватит… — сопел Збышек.
Вдруг ни с того, ни с сего их охватила усталость. Отовсюду слышались успокаивающие голоса. Маленький Людвиг, запыхавшийся и взлохмаченный, подошел к Михалу, которого все еще держал Збышек, и протянул руку со скомканными обрывками бумаги.
Класс опустел. Мальчишки с обычным шумом выбежали в коридор. Михал, не разворачивая листка, разорвал его над корзинкой на мелкие кусочки. Гондек добродушно похлопал его по плечу.
— Поди умойся, парень.
В умывальной Пиндела прикладывал мокрый платок к рассеченной губе.
— Что ты ко мне полез? — сказал он. — Это Майхерский у тебя взял, а не я.
— Свиньи вы, — ответил Михал. Но в нем уже не было злости.
Его провожали Юрек и Збышек. С наслаждением они вспоминали подробности боя.
— Ну, брат, ты ему и дал!
— Майхер замахнулся на тебя атласом, а я его как тресну! Он так и рухнул.
Михал сначала молчал, но вскоре и он заговорил о перипетиях баталии, как будто причиной ее была глупость, о которой не стоило вспоминать. Впервые за долгое время он до самого вечера почти не думал о Ксении.
Но когда Михал остался один на своей мансарде, он почувствовал огромную внутреннюю усталость и понял, что все время отчаянным, хотя и неосознанным усилием избегал мысли о ней. Не хотел вспоминать ее имени, ее лица, потому что знал, что оно явится исковерканным, опошленным. И теперь, в одиночестве, ему не хватило сил. В наушниках бренчали мелодии, полные воспоминаний. Мелодии уроков танца. Но от них уже не веяло приятным, призрачным волнением. От них шел резкий болезненный жар, неприятный и вместе с тем чарующий. Каждый нерв, каждый мускул был напряжен, словно по ним проходил ток жестокой и сладкой муки.
Крепко сомкнув веки, Михал, как в горячке, ворочался в постели, полный презрения и ненависти к себе. Он ничего не мог с этим поделать. В темноте роились грубые, непристойные картины. Он бросался к Ксении, насильно обнажал ее, обращался с ней, как с вещью, как с отданным на растерзание врагом. А его пересохший рот с трудом хватал воздух мира, свежесть, туманность и аромат которого были превращены в горячий пепел.
* * *
Теперь об этом знали все. Явность требовала совершенно иного поведения. Гордо поднятая голова, дерзкий взгляд. «Пусть только попробуют что-нибудь сказать!» Это было мучительно, но не лишено очарования. «Я боролся за нее. И каждую минуту готов за нее бороться». Только в присутствии Ксении Михала охватывала робость — иная, чем раньше, как будто он был в чем-то перед ней виноват. Разговаривая или танцуя с ней, он с большим трудом преодолевал свое смущение, которое душило слова, сковывало движения.
— Ты изменился, Михал, — сказала она ему как-то.
— Нет… Почему?
— Ты теперь такой странный.
Он видел в ее глазах что-то, чего никогда до этого не замечал. Заботу, беспокойство, почти страх. До сих пор он знал только ее улыбку. Возможно ли это? Ему казалось, что в их отношениях заинтересован только он. Что она только так, для развлечения позволяет ему себя обожать, но в любой момент может отвернуться от него без сожаления и с такой же улыбкой будет дарить свое внимание Станко, Юреку, Збышеку — кому угодно.
— Разве… — Ксения опустила голову. Они шли по вечерней улице, он провожал ее с урока музыки и нес под мышкой ее ноты. — …разве ты разлюбил меня?
Они прошли несколько шагов в молчании, пока он смог ответить.
— Я люблю тебя все больше. Люблю так, что даже боюсь этого.
* * *
Наступило время карнавала. Для старших классов устраивались вечера — с настоящим оркестром, с буфетом и катильоном. Кроме того, собирались и на домашних вечеринках с патефоном или с участием бренчащих на пианино теток. Далеким казалось время первых танцевальных уроков, неуклюжего шарканья подошвами по паркету, с глазами, уставленными на носки туфель. Теперь танец стал стихией, которая преображала мир. Ритмы были послушны им, недавним молокососам, слышавшим всегда одну и ту же фразу: «Когда вырастешь». Они были послушны ритмам, в которых угадывали освобождение. А упоение недавно достигнутым совершенством отодвигало в сторону все, что не было связано с танцами.
В большинстве домов взрослые гостеприимно принимали их. В гостиной со скатанным ковром, с мебелью, отодвинутой к стене, они пользовались правом завоевателей, как будто это был бивак победоносной танцевальной армии. Если же какая-нибудь заботливая мамаша хотела «ассистировать», они относились к ней с великодушной, немного преувеличенной вежливостью, иногда приглашая на вальс, шутливо делая вид, что не замечают ее принадлежности к побежденному племени. Отцы, вероятно более гордые и менее склонные к капитуляции, вообще избегали показываться на вечеринках.
Жесты примирения с одной и другой стороны выглядели искусственно, потому что никто не говорил о конфликте. Никто, может быть, о нем и не думал. То, что происходило, носило характер явления природы. Но Михал не задумывался над этим. Просто определенные привязанности и интересы утратили для него значение. Просто знакомый ему мир, мир изведанных чувств, перестал казаться ему интересным. Это приводило в повседневной жизни — той, которая продолжалась между танцевальными встречами, — ко многим тревожным ситуациям.
— Здесь кое-что для тебя… — Отец, сидящий глубоко в кресле, отодвинул газету и, наклонив голову, наблюдал из-за очков за сыном быстрыми карими глазами.
Еще не зная, в чем дело, Михал чувствовал рождающееся в нем сопротивление. Этого выжидания в отцовском взгляде, этой его надежды попасть на этот раз в чувствительное место было вполне достаточно, чтобы вызвать замешательство.
— …Доклад о культуре народа майя с диапозитивами.
— Правда?!
И вот щеки Михала запылали, так фальшиво прозвучал этот возглас. Ведь он интересовался культурой этого народа. Ведь отец хотел сделать ему приятное.
Почему вдруг так поблекли руины Юкатана?
— Ну, что? Может быть, пойдем вместе?
— Очень хорошо. — (Но нет, он не смог притворяться перед самим собой. У него не было никакого желания.) — Когда это будет?
Минутная надежда, когда лицо отца скрылось за газетой.
— В четверг в пять.
— Как жалко! В четверг мы собираемся потанцевать у Терезы.
— О да, это действительно серьезная причина.
Михал выскользнул из комнаты. Он был обижен на отца за свой стыд и за насмешку, таящуюся в его снисходительной улыбке. Моника была проще в своих реакциях. Поэтому между ней и матерью часто вспыхивали бурные сцены. Причины были преимущественно пустяковые, но обе стороны быстро теряли равновесие, в глубине души зная, что речь идет совсем о другом. А начиналось все это с какой-нибудь чепухи — та или иная прическа или воротничок, теплые рейтузы или простые толстые чулки.
— Потому что ты меня не понимаешь, не понимаешь! — кричала Моника.
— Не ори. Мне тоже когда-то было столько, сколько тебе.
— Да, но это было в девятнадцатом веке!
На лице матери появлялись красные пятна.
— Хорошо, делай как хочешь. Я не желаю выслушивать твои дерзости. Когда-нибудь, когда меня уже не будет, ты вспомнишь эти глупые скандалы и тебе будет стыдно.
Моника разражалась рыданиями.
— Ну что ты опять воешь?
— Потому что, мамуся, ты так трагично…
«Трагично» — это было очень широкое понятие. Оно означало: «серо», «слезливо», «скучно», «серьезно» и попросту «старомодно». В нем была выражена вся противоположность того упругого, веселого и полного соблазнов мира, в который вводили их ритмы барабанов, гнусавые завывания саксофона, соблазнительно вздрагивающие ноги. Не успевал улетучиться аромат одной вечеринки, как начинало нарастать напряжение нового ожидания. У Терезы, у Збышека, у Ксении…
Из-за белых дверей Ксениной квартиры уже доносились голоса ранних гостей, сливающиеся с неясным хрипением патефона. Когда им открыли, там гудело, как в улье. Все выбежали их встречать. Ксения была в розовом платье, смеющаяся и грациозная. Михал захлебнулся запахом — тем удивительным запахом, который здесь был настолько сильный, что почти раздражал его. Мать Ксении посмотрела на него внимательно, когда он коснулся губами ее холодной, костлявой руки. Она была высокая и худая, с серым лицом и такими же бесцветными, словно увядшими, волосами. В ней было что-то тревожащее, что-то чего он хотел бы не видеть. Но напрасно он пытался отогнать от себя это впечатление. Слишком велико было сходство с дочерью. Это подобие Ксении, лишенное ее свежести, красок, улыбки (подлинное ли?), на какое-то мгновение испугало его. К счастью, серая фигура сразу же исчезла, но, переступая порог завешанных портьерами дверей, еще раз остановилась и, вытянув вперед руки, сделала два сухих хлопка.
— Проходите, проходите! — нетерпеливо приглашали их, весело подталкивая. — Проходите, есть новые пластинки.
Михал все видел отчетливо. Каждую мелочь. Даже желтую жестяную банку с «Флитом» на низкой полочке с калошами в углу передней. Теперь на эту столько раз виденную таинственную сцену он входил со стороны кулис. Вот эта картина в золоченой раме. Ему была известна только ее правая половина. Скользкие темные скалы, погруженные в бело-зеленую пену. Поодаль мрачный замок над обрывом — да, он мысленно дорисовывал его, и над островерхими башнями, на фоне дико изорванных туч, черные вороны, уносимые ветром, как клочья сожженной бумаги. Но под этим грозным пейзажем стоял огромный уютный диван с кожаными подушками, на котором уже удобно расположились девочки. Квадратные стулья с выпуклыми сиденьями были пододвинуты к дивану, и только один остался на своем обычном месте, в углу, под окном, возле высокого торшера. Это отсюда неожиданно появлялись фигуры. Откуда он знал, что стол, сдвинутый сейчас к книжному шкафу и заставленный подносами с бутербродами, имеет овальную форму? Видимо, его форму вычертили движущиеся по комнате тени. И вот теперь он сам был одним из существ, оказывающих знаки внимания Светловолосой. Он мог бы себя увидеть оттуда, из-под забора, увидеть, как он раскланивается, как ходит, как наклоняется над каким-то скрытым подоконником предметом, который оказался патефоном с деревянными выпуклыми дверцами. Мог бы увидеть себя танцующим с ней — здесь, среди стен и предметов, наэлектризованных тоской стольких вечеров.
В продолжение всего этого первого визита к Ксении он ощущал эту странную раздвоенность. Может быть, он даже немного позировал перед самим собой, придавал своим движениям определенную уверенность и четкость, старательно акцентировал ритм, выдвигая вперед челюсть, подчеркивал свою мужественность. Он знал, что здесь, возле окна, он виден по пояс, а чуть поодаль, возле дивана, показывает «своему» взору только плечи и голову. У него даже появлялось желание сказать ей: «Знаешь, я там стою», — но в конце концов он решил промолчать. Ему казалось (и в этом была дрожь тайного волнения), что таким образом он увеличивает своеобразную коллекцию удивительных мыслей, чувств и признаний, которыми когда-нибудь одарит ее, в решающий момент, в момент, который увенчает их… любовь (да, он мысленно употреблял иногда это слово) высшим счастьем и славой. Как и когда это произойдет, этого он четко себе не представлял. Но он мечтал о чем-то вроде самосожжения. О какой-то полной передаче себя в ее руки, а вместе с тем и о том, чтобы окончательно овладеть ее отчужденностью. Он не мог этого объяснить. Он лишь испытывал блаженство оттого, что преодолевал какое-то табу, — преодолевал стыд, и вошел в такой мир, где будут только они вдвоем, будут принадлежать друг другу и только друг от друга зависеть. Тогда все станет возможным. И этот случай с рисунком и жгучие мысли перед сном — все будет принято и понято и станет прекрасным и общим. Но этот порог, эта граница были вместе с тем и пределом желаний. Дальше Михал не заходил. А поскольку время не играло еще для него большой роли, он утешал себя уверенностью (не лишенной трепета тревоги), что мечта сбудется и ничто этому не помешает, как ничто не может помешать падению спелого яблока с ветки. Поэтому-то ожидаемая Великая Минута была не столько целью его стремлений, сколько украшением каждого его переживания — чем-то, что придавало действительности глубокий, переполненный чувством смысл.
На первой же вечеринке у Ксении установился обычай, ставший потом традицией, что на последний танец «дамы» приглашают «кавалеров». Нескрываемый смысл этой идеи — желание выявить взаимные симпатии — имел в себе предвкушение того открытия, перспектива которого так волновала сердце Михала. Оттого-то, сидя на кожаном диване, который по этому случаю девочки уступили мальчикам, он с трудом сдерживал трепет. Он громко шутил с товарищами, как и они, строил клоунские рожи, но ему казалось, что через минуту он взлетит на воздух или куда-то провалится, бессильно кружась, не в силах больше переносить это напряжение. Между тем «дамы» не торопились. Собравшись вокруг кресла под лампой, они тихо разговаривали и смеялись, поминутно бросая взгляды на покинутых партнеров, чтобы насладиться видом их нарастающего нетерпения.
Умею целовать, как Танголита…
— доносился страстный женский голос из патефона. В мелодии была сладкая истома, от которой сжималось горло. И вот, когда пластинка уже наполовину была проиграна, Ксения внезапно повернулась, по диагонали пересекла комнату и, остановившись перед Михалом, раскрасневшаяся и улыбающаяся, очаровательно сделала книксен, придерживая кончиками пальцев подол юбочки.
Этот девичий поклон навсегда слился с этой мелодией. Он стал неотделим от нее.
Сегодня губы ждут тебя для ласки…
Именно здесь, когда альт певицы становился бархатным, переходил почти в ласковый шепот, волнение достигало потрясающей силы, и Михал заново испытывал состояние восторга.
У каждой вечеринки было свое настроение. Одни были дикие, полные буйного веселья, другие лирические, приглушенные и печальные. Но «Танголита» проходила через все, и для него очарование карнавала заключалось в этой песенке.
Квартира Ксении, так же как и она сама, казалось, имела неисчерпаемые ресурсы таинственной непостижимости. Сколько бы он ни приходил сюда, всякий его визит поражал его такими же недосказанными, такими же поэтическими впечатлениями, как и созерцание театра теней в окнах. И он нисколько не удивлялся тому, что каждая обычная на вид вещь содержала в себе что-то удивительное. Вот хотя бы заурядная лысина Ксениного отца, который преимущественно скрывался где-то в глубине или неуклюже проходил среди гостей через переднюю, надевал пальто и направлялся к выходу именно тогда, когда они приходили. На это нельзя было не обратить внимания и сразу поверить в то, что солидность этого отяжелевшего человека была связана интимными узами с обаянием и легкостью пушинки. Или, например, моль — причина неожиданных хлопков Ксюшиной матери… Она попадала в полосу приглушенного света торшера, напоминая порхающие золотые опилки. Оказывалось, что и моль может быть восхитительной.
Дверь гостиной, в которой танцевали, была открыта в темный кабинет. Массивная мебель этой комнаты пахла застоявшимся табачным дымом. В кабинете можно было спрятаться во время танцев и смотреть из мрака на пропитанную теплым светом сцену, наполненную ритмичными движениями, музыкой, шорохом шагов, блеском многозначительных взглядов и улыбок. Иногда Михал ускользал таким образом, не в силах противиться искушению посмотреть на свое счастье с расстояния, которого было вполне достаточно, чтобы придать его чувствам легкую окраску грусти.
Как-то, желая усилить чувство одиночества, он обошел кресло, за которым обычно прятался, и на цыпочках подкрался к следующей двери. Она была открыта, а за ней зияла тьма, еще более густая, не разжиженная, как в кабинете, отблеском гостиной. С минуту он стоял на пороге, жадно втягивая воздух. Это был ее запах, опять такой же сильный, и словно бы затаивший живое тепло. Понемногу глаза привыкали к темноте. Сквозь задернутое прозрачной занавеской окно проникал бледный свет уличного фонаря. Да, это было четвертое окно, если считать от балкона гостиной. Он осторожно вошел, сдерживая дыхание. Справа, поперек комнаты, кровать. Он почувствовал под рукой упругий шелк покрывала. Он обошел ее, заслонив на мгновение мерцание зеркала на туалетном столике, где-то в глубине, и стал у окна. Осторожно отодвинул занавеску. Вокруг фонаря плавно кружились хлопья снега. Они были мокрые и таяли на черной мостовой, а ветви над забором были похожи на белые извилистые прожилки. Его охватила тихая тоска — неведомо почему. И неизвестно отчего какая-то удивительно приятная. Он ни о чем не думал, но ему казалось, что вот сейчас он настоящий, лишенный всякого позерства, к которому принуждает чужой взгляд. Невольно он засмотрелся на пустую улицу, застывшую в молчании и вместе с тем как будто бы плывущую куда-то из-за беспрерывно падающего снега, он даже перестал ее видеть и удивился, когда на другой стороне улицы из темноты появилась небольшая тень — робкий заблудившийся силуэт мальчика в школьной шинели. Его удивило не само движение, такое странное здесь, а впечатление, что вот сейчас принимает живые черты образ, которого он подсознательно ждал. Ему были очень знакомы эти полные сомнений шаги то в одну, то в другую сторону и эти сгорбленные плечи, выражающие и отчаяние и упорство. «Сейчас он посмотрит», — подумал он, а мальчик остановился возле освещенного круга и поднял лицо к окнам гостиной. Это было лицо Станко, но приятное и беззащитное, совершенно Михалу неизвестное. Все это продолжалось одну минуту. Потом Станко опустил голову и ушел в темноту.
Михал задернул гардину. Взволнованный, отошел он от окна и сел на пол возле кровати, прикоснулся щекой к мягкому покрывалу. В темноте он улыбался с нежностью, которая относилась и к Ксении, и к Станко, и к нему самому, и ко всему наполненному тоской миру. Он почти забыл, где находится, и пришел в себя только тогда, когда послышались шаги по ковру кабинета. Кто-то вошел туда и остановился, словно в ожидании. Сердце Михала учащенно забилось. После долгой паузы голос Ксении тихо позвал его по имени:
— Михал? — И опять через несколько секунд: — Михал, ты здесь?
Он не ответил. Она ушла, и вскоре из гостиной поплыла мелодия «Танголиты».
* * *
Михал ждал эту весну, как никакую другую в своей жизни. Она должна была принести ему необыкновенные дары. Она должна была быть полна смысла. Не только предчувствий, не только неясных мечтаний и грусти. Ее бодрость, терпкая и мягкая, должна была украсить вполне определенные чувства, а также, как ему казалось, вызвать их полный расцвет.
Он напряженно ждал, нетерпеливо и зорко наблюдая за каждым признаком приближения этой благословенной поры. Иногда он заходил в парк. Санная колея превратилась в грязный ручей. Черный от сажи снег покрывал газоны и клумбы ноздреватой жидкой кашицей. Посыпанные дробленым кирпичом аллеи были затоплены водой и напоминали размякших мертвых змей. Кусты ощетинились отталкивающей путаницей колючих веток, а деревья с сухими узловатыми ветвями напоминали обуглившиеся кораллы.
Зима утратила силу. Это была ее смерть. Разложение. Но ничего нового еще не начиналось. Из-под истлевшего покрова торчали только клочья прошлогодней травы и пласты сгнивших листьев. Воздух был пресным, безвкусным. Михал забредал в конец парка, до зарослей на пригорке. Здесь кончался город. Из огромной, раскинувшейся до дальних лесов чащи кое-где торчали копры шахт, окруженные беспорядочно разбросанными красными и серыми постройками. Было видно, как на вершинах копров медленно вращаются спицы колес. Горизонт здесь был широкий, залитый ветреным, меняющим краски небом. Оттуда должны были прийти первые запахи и звуки весны. А сейчас только быстрое шипение автомобильных покрышек по мокрому асфальту таило в себе что-то от радости новой жизни. В городе свирепствовали ангина и грипп. Все разладилось, в последнюю минуту отменялись встречи и вечера. Жили ожиданием. Но опять появлялась сырая мгла, а ведь совсем уж казалось, что вот наконец-то началось, потому что накануне вода бойко бурлила по канавам, а небо под вечер затянула прозрачная улыбающаяся зелень. По временам налетал теплый ветерок. Из школы возвращались в расстегнутых пальто, шарфы перекочевывали в карманы. А потом кашель и холодный озноб.
Ксения разболелась. Не выходила из дому. На этот раз она дала знать ему через Монику.
— Ах, и еще, Михал, знаешь, Данка должна была принести ее альбом, чтобы ты написал что-нибудь, но забыла его дома.
Еще одно ожидание. Эта растяпа Данка куда-то засунула альбом. Каждый день обманывала. «Ну, завтра обязательно». И опять забывала.
Михала распирали слова и ритмы. В своем воображении он видел ровную колонку стихотворения, выписанного черной тушью посреди белого блестящего листа. Две или три короткие строфы. Но это должен был быть экстракт целого моря мыслей и чувств. Это море раскачивало его во все стороны, каждый раз к новым горизонтам. Тема с неясными границами. Неизвестно, с какой стороны начинать. Единственно важными и постоянными являются вещи самые мимолетные. Он думал об улыбке Ксении, но иначе, чем раньше, — не как о деле исключительно личном, а как о явлении, как о какой-то таинственной силе, правящей миром.
Из книжного шкафа отца он вытащил толстые тома «Propyläen Kunstgeschichte» [8] и сосредоточенно перелистывал их на своем чердаке. Он искал подтверждения, твердо уверенный, что найдет его, потому что ни за что не отступил бы от своего замысла. Бумажными полосками он заложил некоторые иллюстрации и постоянно к ним возвращался. Каменная апсара из Кхаджурахо [9], кокетливо изогнутая в тонкой талии, вырастающая, словно стебелек, из округлых бедер, с игриво наклоненной головой, с улыбкой, обозначенной только легким дрожанием губ, как бы невольной, которую невозможно скрыть от избытка очарования, наполнявшего девичью фигуру. Отбитый кончик носа и отсутствие правой руки, от которой сохранилась лишь ладонь, прижатая к груди, не то молитвенно, не то игриво, нисколько не умаляли ее очарования. Она была настоящая — нежная и легкомысленная, все так же достойная любви, как и века назад.
И вторая, из Тра-Кье [10], обнаженная, пляшущая в высокой митре, вся в коралловых ожерельях, украшающих шею и плечи, талию и руки. Колеблемая танцем, охватившим ее тело, как беспокойное пламя, с плавно развевающимися гибкими руками, она в печальном экстазе смотрела куда-то в пространство (а скорее всего, в свое наполненное ритмом чрево), при этом на ее по-детски пухлых губах проступала, словно всплывающая из сна, улыбка самозабвения.
И еще темные лица женщин с фресок Аджанты [11], освещенные блеском продолговатых глаз, склоненные в таинственной задумчивости над розовыми цветами лотоса, улыбающиеся так нежно, как будто они робели перед бесценной хрупкостью собственного обаяния.
Все это было волнующим доказательством неистребимости и вечно длящегося очарования жизни, беспрерывного триумфа самых тонких переживаний. Все это вело прямо к Ксении. Он хотел ей сказать об этом.
Если б только найти слова легкие, а вместе с тем выразительные и меткие, как линии и формы этих рисунков! Михал мучился. Ему казалось, что он стоит перед чудесной, подожженной блеском снегов и утренней зари горою, из которой должен вырезать маленький брелочек.
В школе, на улице, в кровати перед сном он часами перебирал фрагменты четверостиший без начала и конца, упивался звучанием слов. Ему казалось, что он находит в образах нужный ему смысл, но через некоторое время фразы переставали жить, становились мертвенно-тяжелыми и наконец начинали докучать и вызывать отвращение, как жилистые, слишком долго пережевываемые куски.
Дуб рухнет, камень сгинет,
Руины плющ обнимет…
Да. Все пройдет, рассыплется с ним вместе, а непонятное благословение, заключенное в легком изгибе губ и прищуре глаз, по-прежнему останется радостью мира.
И над пустыней моря
Улыбки твои, как зори,
Там-там-там, трам-там, та-рам-там.
Ах, нет, нет! Внезапно его охватывал жгучий стыд. Это совсем как эти певцы, выступающие по радио, навязшие в зубах со своей любовью, соловьями и луной. Что бы я дал за то, чтобы быть настоящим поэтом! Он пробовал иначе, его охватывали сомнения, и он опять рассматривал каменных танцовщиц из «Propyläen Kunstgeschichte».
Но однажды, вернувшись из школы, он нашел на своем столе продолговатый серый альбом в переплете, великолепно имитирующем кожу. Даже если бы он не знал, что это такое, то сразу бы догадался по аромату. Видимо, Моника вернулась раньше и подбросила альбом. Он не открыл его. Лишь слегка погладил пальцами край обложки. И не только потому, что не был готов. К этому примешивался какой-то непонятный страх. Его разбирало любопытство, но он, пожалуй, предпочел бы, чтобы вообще не было этого альбома — так похожего на альбомы других учениц, в которые он всегда писал с чувством смущения. А еще (имело ли это какое-нибудь значение или только так ему казалось?) был один из первых по-настоящему весенних дней, и чириканье воробьев, резкое, вопрошающее, полное радостного возбуждения, врывалось в комнату сквозь открытое окно вместе с пахнущим влажной землей тепло-холодным дуновением ветерка.
В такой день свежесть и новизна должны предстать во всей своей упоительной прелести.
— Она просила, чтобы ты скорее вернул, — сказала Моника за обедом.
Сев за уроки, Михал еще некоторое время колебался, потом все же отложил книги в сторону и наконец решился открыть серый альбом. На первой странице был изображен голубой занавес, свисающий сверху тяжелой волной. Внизу он был перехвачен красным шнуром и ниспадал до края страницы прямыми узкими фалдами. У самого низа, как букет, брошенный на сцену, лежала охапка нежных розочек. В этом театральном обрамлении посредине чернели аккуратные четыре строчки, наклонно выведенные взрослой и определенно женской рукой, что подтверждала подпись «Мама» внизу, сразу бросающаяся в глаза. Стихотворение звучало так:
Загадок вечности не разумеем — ни ты, ни я.
Прочесть письмен неясных не умеем — ни ты, ни я.
Мы спорим перед некою завесой. Но час пробьет,
Падет завеса, и не уцелеем — ни ты, ни я [12].
И еще в кавычках, мелко: «Омар Хайям».
Михал несколько раз прочитал четверостишие, удивляясь раздражению, которое овладевало им незаметно, но в то же время настойчиво. Четверостишие ему нравилось и вместе с тем как-то смущало и сердило одновременно. Этого объяснить себе он не мог.
Если бы кто-то другой написал эти слова… Так нет же! Мать присваивала себе таинственность, располагалась в ней вместе с Ксенией, враждебным и коварным приемом лишала ее самостоятельности даже во внетелесном измерении и захватническим «я» и «ты» заранее исключала всякую возможность общения с ней в области отвлеченных понятий и наблюдений. Михал чувствовал себя обманутым, лишенным всякой надежды.
Раздраженный, перелистал он весь альбом. На последней странице обнаружил небрежно нарисованного чернилами Микки Мауса и усеянную кляксами (ему казалось, что он слышит скрип поломанного пера) сентенцию:
Пишу тебе на последней странице, чтобы подольше здесь сохраниться.
Он с презрительной улыбкой пожал плечами. Ну, этот хоть не опасен. Но между прочим, мог бы немного и подумать.
Остальные страницы он просматривал мельком. Везде цветочки, птички, сердечки.
Вверху бутоны,
внизу листочки,
мы любим друг друга,
как ангелочки.
Два сердца сплетенных, ключ в море брошен.
Никто нас не разлучит, лишь ты, о боже.
И еще более ужасное в неуклюжей претензии на остроту, какое-то:
Тилим-бом, тилим-бом,
Я пишу тебе в альбом!
Или еще глупо-назидательно:
Имей сердце и смотри в сердце.
Имена знакомых девочек вызывали в его воображении лица, лукавые, задумчивые, будто бы таящие в себе какую-то загадку, очаровывающие во время танца затуманенным взором. И эти лица казались ему теперь подозрительными, как маски.
«Это не она, — повторял он себе, — ведь это не ее вина».
По мере того как он рассматривал альбом, все труднее становилось отделить ее от этой среды. Михал ощущал на своих щеках палящее дыхание стыда. Он остановился на ярком рисунке, похожем на афишу любительского спектакля. Это были красные полукруга заходящего, а может быть восходящего, солнца в короне оранжевых и желтых лучей. Посредине солнечного диска была старательно нарисована тушью харцерская лилия, а над лучами полукругом были расположены толстые буквы: «БУДЬ НАЧЕКУ!» Под чертой, изображающей горизонт: «Мировой Ксеньке — Старый Верблюд (подружка Валя)».
Как ошпаренный, отдернул он руку и со злостью захлопнул альбом. До него донеслось беззаботное чириканье воробьев, которое тоже вдруг так рассердило его, что он закрыл окно.
— Бессовестная! — сказал он громко.
Если бы это можно было выбросить из памяти. «Ксенька!» «Мировая Ксенька!» Он знал эту вожатую дружины, обожаемую Моникой и ее подругами за огромные ноги, за бюст, трясущийся при каждом порывисто-энергичном движении под курткой мужского покроя, и лошадиные зубы, постоянно оскаленные в доброй дежурной улыбке. Вся его обида сосредоточилась на ней и приобрела силу ненависти.
Что-то случилось с его воображением. Сколько он ни пытался вернуться к замыслу своего стихотворения, в нем все время звучала отвратительная, издевательская шутка. И каждая рифма, которая приходила в голову, казалась похожей на бредни из альбома.
Моника все время спрашивала, готово ли.
— Ксения просит, чтобы ты вернул. Ей очень интересно.
Это становилось похожим на какой-то кошмар. Он не мог ни написать, ни вернуть альбом, ничего не написав. Он спрятал его в ящик. Один вид серого переплета вызывал отвращение.
— Ксения спрашивает, когда ты вернешь?
В конце концов он решился. Никакого стихотворения он не напишет.
— Скажи ей, что завтра.
Целый вечер он потратил на рисунок. Сначала он хотел просто скопировать танцовщицу из Тра-Кье, но побоялся ее наготы. (Мать Ксении, безусловно, проверяла альбом. А вообще трудно было определить границы ее контроля. Действительно ли существовала какая-нибудь возможность интимного общения с Ксенией?) Поэтому он решил нарисовать только лицо.
Сначала он бегло набросал рисунок, и это получилось неплохо. Но по мере того, как он прорисовывал контуры, растушевывал выпуклости, ее тревожащее очарование сглаживалось, пропадало и, наконец, никакими стараниями нельзя было превратить глуповатую гримасу в улыбку. Вырвать страницу было нельзя, потому что тогда выпадали розы и фиалки Данки. Резинка придавала рисунку какую-то грязноватую серость. Все было напрасно. Размышления об улыбке Ксении остались невыраженными. «Ксении — Михал» — эти два слова, выписанные под мазней, были горьким признанием поражения. И его совсем не обрадовало сообщение Моники: «Ей очень понравилось». Он принял его с пристыженным сомнением и печалью, чувствуя, что какая-то фальшь вдребезги разбила его весенние надежды.
* * *
Теплый, влажный ветер, волнующий ветер весны с привкусом березового сока, оставлял на лице маленькие крупинки сажи. Его запах в этом городе всегда был смешан с чадом фабричного дыма. И крохотные светло-зеленые листочки, только что освободившиеся от липких чешуек, тоже, когда их растирали в пальцах, чтобы выжать горьковатый аромат, оставляли на руке грязный след. Весна в Силезии подобна фруктам из ларька: прежде чем вонзать в них зубы, их надо вымыть.
Но в конце концов она пришла. Ее силы хватило, чтобы вызвать приятный шум в голове, чтобы родить ощущение легкости и беспокойства. Но беспокойство Михала в этом году было каким-то особенно мучительным. Как будто что-то ускользало от него, как будто иллюзии не хотели быть в достаточной степени иллюзорными. Он подозревал, что не сможет вкусить тех наслаждений, предчувствием которых опьянялся. С удивлением замечал он, как неудержимо растет трава, темнеет зелень, прилетают птицы. «Подождите! — хотелось ему крикнуть. — Не надо так спешить».
Он уже представлял себе далекие прогулки с Ксенией по лесным песчаным дорогам, где только изредка проскачет заяц, тихими полянами, желтыми от примул, среди колышащихся на фоне бледного неба берез и сосен. Он хотел ее повезти в такие места, откуда не было видно фабричных труб и куда не доходил шум моторов. Они сидели бы на траве, держась за руки, и были бы совершенно одни в целом мире.
Ксения выздоровела, хотя еще не совсем. У нее был бронхит в тяжелой форме, и ей не разрешалось много ходить. Он встретил ее после урока возле женской гимназии. Его поразила бледность, утомленный вид, даже ее улыбке придававший удивительную серьезность. Она заметно подурнела; на похудевшем лице нос казался слишком тяжелым, а рот слишком крупным. Он проводил ее до трамвайной остановки. Была суббота.
— Может быть, ты зайдешь завтра днем? — сказала она, прощаясь, даже не понизив голоса, хотя Моника и Данка были рядом.
Он вернулся домой взволнованный. Так просто, так обыкновенно она это сказала, будто они уже принадлежат друг другу.
Когда на следующий день Михал звонил в дверь, покрытую светлым лаком, он чувствовал какую-то скованность, какое-то сопротивление. Он хорошо знал, что их отношения ни для кого не являются тайной, но до сего времени они могли окружать их таинственностью. И это придавало всему значительность, усиливало ощущение интимности. К тому же это ограждало от вмешательства других. Теперь он шел сюда, как по раскаленному железу, а их секреты, неуловимые, точно игра теней на воде, были переведены на убогий, каждому доступный язык.
Ему открыла мать Ксении в ситцевом фартуке. Знакомый запах, присущий этому дому, шел из коридора, на этот раз он был сильнее, чем обычно, и еще в нем слышалась примесь бьющего в нос нафталина. В глубине, у открытого настежь большого шкафа, стояла на коленях горничная в белой наколке и с хрустом заворачивала что-то в бумагу.
— Как это мило, что вы не забыли о моей бедной девочке! — воскликнула мать Ксении. — Она так дома скучает!
Радость, звучавшая в ее голосе, и почтительность, с которой она обращалась к нему как к взрослому, сбили Михала с толку. Он мял шапку в руках, ожидая помощи.
— Ксения! — позвала она. — Ксения, к тебе Михал пришел!
Никто не отвечал, только ему показалось, что за дверями в конце коридора зашумела вода.
— Сейчас она придет, — сказала мать Ксении и, снимая фартук, провела Михала в столовую.
Они сели на диван под романтическим замком. Тяжелые кресла окружали стол, в углу возле балкона уже не было патефона. Место стольких необыкновенных переживаний было изменено в угоду повседневным удобствам. Михал сложил руки на коленях и слегка наклонил голову. Он не мог отделаться от ощущения, что эта вежливо улыбающаяся женщина рядом с ним в каком-то смысле учительница и что сейчас она начнет задавать ему трудные вопросы. Но она продолжала делать вид, что разговаривает со взрослым.
— Прошу прощения за мой затрапезный вид, — сказала она. — Мы вчера начали укладывать зимние вещи, и надо с этим покончить. Нельзя оставлять такой беспорядок. У нас настоящее нашествие моли.
— У нас тоже есть моль, — сказал Михал.
— Я уверена, что меньше, чем у нас. Она летит из садов. Целыми тучами. Мы с ней неустанно боремся, но ничего не помогает. Вы себе не представляете, сколько уходит флита. Мой муж всегда говорит, что наша квартира пахнет, как сундук с мехами. Я этого уже даже не замечаю. Ну, наконец-то… — повернула она голову к дверям кабинета.
Ксения стояла необыкновенно светлая в прозрачном свете дня. Она подняла руку на высоту плеча и легко зашевелила пальцами, точно желая похвастаться перед матерью этим нежнофамильярным жестом. С того момента, как он переступил порог, Михал видел, что является предметом женского сговора, и это невыразимо сковывало его.
— Ну, дети, — сказала мать Ксении, — я вас не задерживаю. Идите, пользуйтесь весной и солнцем. Только помните, пан Михал, что моя дочка еще слабенькая. Лучше всего, если вы пойдете в беседку на нашем участке. Там никто вам не будет мешать.
Она проводила их до дверей, набросив в коридоре на плечи Ксении мягкую шаль из бордового гаруса.
— Шаль обязательно! — подавила она робкий протест дочери. — Без шали никуда не пойдешь. — Сладость на мгновение исчезла из ее голоса, и худое лицо стало твердым, а перемена эта наступила так неожиданно и плавно, точно прибрежная волна обнажила каменное дно и сразу же покрыла его приятным шумом.
Михал осторожно взял Ксению под руку и повел по узким дорожкам среди живой изгороди и металлических сеток. Воздух пах навозом и землей. Он еще никогда не был у них в саду. Сад находился в глубине лабиринта участков и, казалось, был отрезан от всего мира. Над бушующим валом кустов «золотого дождя» почти не были видны глыбообразные верхушки домов. Молодые яблоньки со старательно побеленными стволами раскинули на фоне неба кривые ветки, уже овеянные грядущей розоватостыо полураспустившихся почек. На геометрически ровных грядках виднелись следы недавней поливки, а посреди квадратного газона, покрытого робкой зеленью, торчала круглая палка с синим стеклянным шаром на конце. В этом шаре отражался закругленный и уменьшенный, аккуратный лилипутский мирок вместе с восьмиугольной беседкой из тонких скрещенных планок. Внутри беседки стоял столик, покрытый облупившимся кое-где зеленым лаком, и стулья на гнутых ржавых металлических ножках, удивительно не подходящие сюда и неуютные. Они сели рядом на нагретых солнцем прогнивших ступеньках.
На ветках прыгали птицы, то и дело вспархивая и шурша крыльями, а их чистые пронзительные голоса раздавались со всех сторон.
— Хорошо здесь, — сказал Михал.
Ксения придвинулась ближе и быстро искоса взглянула на него, словно спрашивая, словно чего-то ожидая. Он почувствовал, как пульсирует кровь и бежит по сосудам глухими толчками. Что случилось бы, если б он сейчас ее обнял? Если бы поцеловал? Что потом? Он пробовал представить себе ее и себя в этой беспокойной близкой стране, в которую введет их крушение невидимой преграды. Он ощущал только внезапное сердцебиение и страх неизвестно перед чем. Может быть, тогда все кончится? Одна мысль об этом вызывала в нем страшную тревогу. Ему казалось, что он не может даже поднять руки.
— Посмотри, какие мы смешные, — произнес он сдавленным голосом, показывая глазами на синий шар.
Они были видны там, как в уменьшительном стекле, маленькие, очень четкие, со странно вытянутыми и вздутыми лбами.
— Как два гнома, — сказала она неестественно нежно.
Он вздрогнул. На мгновение возвратилось тягостное воспоминание, связанное с альбомом. Розочки, фиалки, два соединенных сердца, ключ, брошенный в море. Это не должно остаться между ними. Но как из этого выйти? Как вывести ее на открытый, очистительный путь отчужденности?
— Я хотел написать тебе стихи, — сказал он, — но не смог. Не получилось. Я сочинял их несколько дней. В них должно было быть про улыбку. Потому что… — он умолк, чувствуя, что не сможет этого объяснить.
— Твой рисунок тоже очень красивый, — прервала она его. — Я хотела бы так рисовать.
Он промолчал. Боялся, что возражение будет принято за ложную скромность.
— А тебе понравился тот стишок, который написала мама?
— Да, — буркнул он.
— Правда, прелестный? У меня всегда наворачиваются слезы, когда я его читаю. Он такой печальный и мудрый.
Снова воцарилось длительное молчание, и опять сверкнул быстрый, вопросительный взгляд, на этот раз как бы подернутый дымкой разочарования.
Синий шар продолжал отражать их нереальные фигурки на ступенях ажурной беседки, и Михалу показалось, что его заключили в какой-то детский сон.
Скрипнула калитка.
— Это я, мои дорогие, — сказала мать Ксении. — Не обращайте внимания.
Она шла к ним, светясь приветливой улыбкой. Через плечо у нее был перекинут клетчатый плед. В другой руке она держала корзинку, из которой торчали блестящие спицы. Михал встал.
— Сидите, Михась. — Она положила руку ему на плечо и заставила принять прежнее положение. — Все-таки немного холодновато, поэтому я принесла вам плед. — Она наклонилась над ними и накрыла им ноги, так что колени их стукнулись под теплым пледом, сильно пахнущим флитом. Некоторое время ее глаза были на уровне их глаз — любопытные, изучающие, почти назойливые. Михал, смутившись, опустил веки.
— Если у вас секреты, я сейчас же уйду.
— Ну что вы, — пролепетал он. — Мы просто разговариваем.
— Если я вас стесняю, то скажите мне смело. Я не обижусь. Мы с Ксенией подруги. Правда, доченька? — Она поднялась по ступенькам, придержав плечо Михала, чтобы он не вздумал вставать. Он услышал, как она с шумом отодвигает в беседке стул. Он не мог увидеть ее в шаре, потому что она была в тени, но ее присутствие давило на плечи. Ксения низко опустила голову. Нежно прижала колено к колену Михала. Садик наполнился мучительным душным жаром. В тишине щелкали металлические спицы. Где-то далеко загудел фабричный гудок. Михал посмотрел на часы и вдруг вскочил с отчаянной решимостью.
— Уже двенадцать! Я должен возвращаться. К сожалению, я должен…
Спицы замерли в сумраке беседки. Мать Ксении наблюдала из-за красного рукава удивленными тусклыми глазами. Клубки шерсти лежали перед ней на столике, похожие на странные пушистые плоды.
— Все-таки я вас вспугнула?
— Нет, правда, я обещал дома…
— Мы можем позвонить вашим родителям. Остались бы у нас пообедать. Они наверняка разрешат.
— Мне было бы очень приятно, — растерянно бормотал он, — но я, правда, не могу. Так получилось… К тому же у нас испорчен телефон, — соврал он, осененный неожиданным вдохновением.
— Ну, что ж, если не можете… — сказала сухо мать Ксении.
Он быстро поднялся в беседку, чтобы поцеловать ей руку, спотыкаясь, сбежал со ступенек и потряс руку Ксении, избегая глядеть ей в лицо, залитое краской до корней волос.
Повернувшись в последний раз у калитки, чтобы изобразить на лице улыбку, он увидел в синем шаре свою маленькую кривляющуюся фигурку.
* * *
Одну из вечеринок перед каникулами они провели у Анки. Анка была из другой компании — она училась на класс старше Моники и ее подруг. Большинство присутствовавших здесь девушек Михал знал только в лицо. Они были пышнее и самоувереннее его прежних приятельниц и относились к нему немного покровительственно. В этом была своя прелесть.
Новая обстановка, новые лица, пластинки.
Особенным успехом пользовалось грустное танго «Кто прикоснулся к неге губ твоих…»
Михалу удалось несколько раз потанцевать с Анкой, несмотря на то что ее приглашали чаще, чем других девушек. Он немного робел. У нее были темные волосы, большой нос, густые черные брови и фиолетовые продолговатые глаза, более темные по краям, что придавало ее взгляду выражение угрюмой задумчивости.
В темноватой, заставленной массивной мебелью комнате царил полумрак, потому что горела только маленькая лампочка на столике в углу, и, может быть, поэтому все говорили вполголоса. Атмосфера была какая-то подавленная, наэлектризованная. Под конец все меньше пар кружилось на свободном участке оголенного паркета. Темные углы были полны горячего шепота. Потом кто-то предложил играть в «испорченный телефон». Когда все вышли на середину, Анка схватила Михала за руку и велела ему стать рядом с собой. Теперь он вблизи видел ее матовую гладкую шею, покрытую нежным пушком.
С конца ряда доносился тихий смех и вздохи. Вдруг стоящая за Михалом Крыся повернулась и провела губами по его щеке, возле уха. Некоторое время он неподвижно ждал, не в состоянии «передать дальше». И тогда Анка повернулась к нему лицом и выжидающе посмотрела длинными прищуренными глазами. А когда он наклонился к ней, приняла его поцелуй влажными губами, не отводя взгляда, полного пронзительного очарования таинственной, манящей неизвестности.
Двор был таким же, как тысячи других дворов в этом городе. Посредине черные от сажи козлы для выбивания пыли, возле мусорного ящика угольная тележка, упершаяся оглоблями в блестевший под дождем булыжник. Небольшой куб непогоды, окруженный стенами в потеках, плотно прикрытый сверху чем-то серым, — которое где-то в других местах зовется небом. Только низкие двери справа врывались живым цветовым пятном — некрашеное дерево, покрытое свежим лаком. Он заметил на них такую же табличку, как и на воротах дома, на которую дня два тому назад обратил внимание. Табличка была обрамлена тоже покрытыми лаком планками. Этим она и отличалась от обычных вывесок и объявлений, которые мрачностью букв на покрытой эмалью жести напоминали некрологи.
Он знал все вывески на пути из дома в школу. «Дипломир званная акушерка Герда Опыдо», «Мастерская по вулканизации «Vulcan»» с тщательно вырисованной покрышкой, интригующая «Амалия Мания — обрезание наростов». Новая вывеска появилась совершенно неожиданно. Он даже остановился, чтобы ее прочитать. «Свободная школа живописи им. А. Герымского». Между акушеркой и вулканизатором в светлой незатейливой рамке — это выглядело как вызов.
Во флигеле была когда-то столярная мастерская. Михал вспомнил, что в прошлом году получал здесь какие-то ящики для харцерского отряда. Сейчас сквозь двери струился запах новизны. Он хотел позвонить, но звонок еще не был установлен. Из круглой розетки торчали концы проводов. Он робко постучал. Изнутри доносились неясные звуки музыки. Кто-то пел — как будто в пустоте, для самого себя. Он подождал еще минуту и нажал ручку. Дверь отворилась, резко скрипнув не притершимися петлями. Теперь он отчетливо услышал пение. Глубокий женский альт, мягко льющиеся французские слова:
Маленькая прихожая, в которой он очутился, пахла штукатуркой, свежими досками и чем-то горьким и терпким — скипидаром, а может быть, краской. Сквозь полуоткрытую дверь виднелась часть странного помещения, похожего на ангар с высоким, подпертым косыми балками сводом и белыми стенами, светящимися в сумраке осеннего вечера.
Это играл патефон. Потом он начал хрипеть, сбавлять скорость, а слово «amour» жалобно растягивалось по слогам среди нарастающего скрежета. Вдруг мелодия оборвалась, что-то упало, запищала подкручиваемая пружина, и через некоторое время послышалась та же мелодия, потом вступил альт, теперь уже окрепший, словно он обрел надежду счастливо добраться до конца.
Ils habitaient le même faubourg… [14]
Михал постучал о косяк второй двери, но так как и на этот раз никто не ответил, заглянул внутрь.
Он был приготовлен к совершенно другому. Именно это и привело его сюда: надежда найти оазис среди серого, уверенного в своем практицизме и безобразии города. Если бы оказалось, что он должен писать заявление, заполнять анкету в какой-то канцелярии, у него, наверно, сразу бы пропало всякое желание. Но он не мог предполагать, что войдет в этот оазис как непрошеный гость. Перед ним был неведомый ему чужой мир, полный тоски, горечь которой заключалась в мелодии заигранной пластинки, в модуляции низкого женского голоса, в одиночестве чужих воспоминаний. Все это создавало как бы невидимый и тем не менее недоступный шатер в глубине ангара, на возвышении, похожем на импровизированную сцену. Здесь было даже что-то вроде кулисы. Ширма с переброшенным куском выцветшей пурпурной материи была фоном для шезлонга, на котором отдыхал грузный мужчина в зеленом свитере и измятых холщовых брюках. Рядом с ним на складном садовом стульчике стоял патефон. Это было эрзацем квартиры, чем-то ненастоящим — игрой, полной меланхолии. Казалось, что мужчина дремлет. В руке, покоящейся на солидной выпуклости живота, он держал стакан, другой рукой прикрывал глаза. Лицо у него было одутловатое, красное, с висячим носом. Он глубоко дышал, стакан поднимался и опускался на животе, свисающая нога отбивала еле заметным движением ритм мелодии. Было видно, что он далеко отсюда и что окружающая его действительность — эта, находящаяся за пределами песни, — не имеет в эту минуту для него никакого значения.
Кто это был? Карч или Желеховский? Из короткой заметки в газете, где сообщалось об открытии школы, Михал знал фамилии обоих художников. Он решил, что это Карч. Сейчас ему казалось, что именно так он себе его и представлял.
Пластинка опять приближалась к концу, и патефон опять начинал хрипеть и замедлять темп. Предполагаемый Карч открыл глаза, приподнялся на локте. Потянувшись к патефону, он заметил у двери пришельца. Некоторое время он всматривался в него затуманенным, тусклым взором, как бы силясь что-то вспомнить. Потом снял мембрану и остановил пластинку. Не отводя взгляда, поднес к губам стакан, в котором было немного золотистой жидкости.
— Ну что? Готовы подрамники? — спросил он сердитым голосом.
— Простите… Я… я хотел записаться.
Художник широко зевнул.
— Я думал, что вы от столяра, — сказал он.
Он опустил ноги на пол и сел. Голова у него качалась, он протирал глаза кулаком.
— Коньяку хотите? — предложил он, поднимая с пола наполовину пустую плоскую флягу.
— Нет, спасибо, я не пью.
Мужчина налил себе и посмотрел исподлобья.
— Почему?
— Потому что я… — Михалу вдруг стало стыдно за свой возраст, за гимназическую форму, — харцер… — закончил он почти шепотом.
Карч рассмеялся. Не очень громко, с добродушным сожалением.
Это было хуже, чем издевательство. Михал повернул голову. Он делал вид, что с интересом рассматривает картину, прислоненную к стене возле большого, разделенного на мелкие квадратики окна. Другая, стоящая на мольберте, была только начата. На ней была изображена железная печь, та самая, которая стояла по другую сторону возвышения, протягивая длинную изломанную трубу к противоположной стене. Его поразила скромность этой темы, но вместе с тем он почувствовал, что дело здесь совсем не в печи и что плоский, как-то по-особенному заостренный контур на полотне, хотя и похож на свой оригинал, поднимается над обыденностью предмета чем-то, чего он не мог объяснить, но что, собственно, и приводило к уничтожению обыденности; на другой картине, стоящей поблизости на полу, был изображен пейзаж. Он представлял собой мир, с которого была содрана кожа, мир, обнаженный до геометрического скелета. Какая-то река, а может, канал с геометрически ровными берегами, уходила, сужаясь к горизонту, среди голых откосов насыпей, соединенных вдалеке тоненькой фермой железнодорожного моста. Рыжая гамма, в которой был написан пейзаж, пугала, как неостывшая лава, — даже на синем небе и фиолетовой воде лежал отблеск вулканического зарева. При этом каждое цветовое пятно имело отчетливую квадратную форму, как будто бы пространство и детали были построены из бесчисленных переливающихся кирпичиков. Опять что-то «ненастоящее», но содержащее в себе жизненно важную идею. Может быть, это обман или провокация, цель которой — узнать подлинный смысл, скрывающийся под банальной красотой мира? Было в этом что-то грозное, какая-то дерзость, интригующая и заставляющая насторожиться.
— Почему вы хотите записаться?
Михал вздрогнул. Голос коснулся его плеча теплыми винными парами. Он не заметил, когда художник встал и подошел к нему. Теперь он стоял сзади, почти касаясь его своим животом, со стаканом в руке и всматривался в картину. Его толстое лицо искажало выражение скептической, почти злой задумчивости.
— Я хочу попробовать, — ответил Михал. — Не знаю, может быть, стану художником.
Карч кашлянул, нагнулся, волосатой рукой взялся за край подрамника и перевернул картину вверх ногами. Он продолжал ее сосредоточенно рассматривать, еще больше нахмурившись. Теперь это была уже не река среди дамб, но равновесие композиции не нарушилось, а ощущение надвигающегося ужаса не проходило.
— Я рисую уже давно, — добавил Михал, думая, что его не услышали. — Кроме того, я очень люблю Герымского. Когда я прочитал на вывеске…
— Что вы видели Герымского? — прервал его Карч.
— В нашем музее есть несколько его картин: «Лагерь повстанцев», «Отъезд на охоту»…
Карч пожал плечами.
— Это не тот. Это Максимилиан. Наша школа имени Александра.
— Но Максимилиан тоже хороший, — возразил Михал несмело.
Мужчина в зеленом свитере (да, это был Карч: в нижнем углу пейзажа виднелась его подпись) отступил на шаг, как будто бы заметил в картине что-то, что можно было оценить только с большого расстояния.
— Хорошо… — бурчал он сквозь зубы, — хорошо. — И внезапно с неожиданной горечью добавил: — Я тоже хороший художник. Но что из этого?
Он посмотрел в стакан и скривился. Стакан был пуст. Тяжело ступая, он вернулся на возвышение. Шезлонг затрещал под ним.
— Хороших художников — как собак нерезаных, — сказал он в бешенстве. — Но в искусстве признаются только самые лучшие.
Карч звякнул стаканом, выпил, высоко запрокидывая голову.
— Да, к сожалению! — крикнул он трубным голосом. — К сожалению!.. К счастью для искусства! — добавил он тише, вздохнул и вытянулся в шезлонге.
Его живот опять стал мерно подыматься и опускаться. В мастерской смеркалось. Резче запахло смолой. Воцарилась полнейшая тишина.
— Так, значит, вы хотите записаться? — спросил он неожиданно, деловым и усталым тоном, как бы вспоминая какой-то пустяк. — Это к Желеховскому. Сегодня я пьян. Обратитесь к Желеховскому. Завтра в три.
Михал еще некоторое время постоял возле мольбертов у окна. Он не знал, надо ли ему подойти и попрощаться. Может быть, он должен представиться? Он не успел этого сделать. На возвышение опять опустился невидимый шатер. Сам он остался с внешней стороны, в сфере второстепенных дел, не имеющих значения для искусства.
Михал на цыпочках пошел к выходу. Когда он был уже в прихожей, до него донесся писк патефонной ручки.
* * *
Желеховский был трезвый. Может быть, он когда-нибудь и пил, но трезвость — в противоположность Карчу — была основной его чертой. Хотя, как это было на самом деле в их мире — мире искусства, трудно сказать. Потому что в его картинах суровой логики ощущалось значительно меньше. Они были туманностями светлых, нежных тонов, облаками цветов, расщепленными солнцем явлениями человеческих фигур и предметов, контуры которых стирались и взаимопроникали в каком-то знойном мареве. Слово «пятно» занимало в словаре Желеховского главенствующее и привилегированное положение. Он произносил его с уважением, со вкусом, зажмуривая глаза, плотоядно выдвигая нижнюю губу.
Он и сам был похож на бесформенную глыбу. Он был выше Карча ростом, еще более грузный и носил на плечах огромную голову глубоководной рыбы с выступающей челюстью и круглым оловянным глазом. Несмотря на это, он легко двигался, а в его костюме и манерах была некоторая элегантность. Даже запачканный красками фартук выглядел на нем опрятно. В разговоре с ним всегда можно было получить толковый ответ на вопросы, терпеливое и вежливое объяснение. Не было угрозы взрыва каких-то скрытых страстей, перемен настроения.
Первый урок он посвятил умению раскладывать краски на палитре. Показу он предпослал короткую речь. Серьезным, сдержанным голосом он предупредил, что вопрос этот не терпит принуждения. У опытных художников, сказал он, своя собственная система, в зависимости от личных потребностей, навыков и привычек. Но краски подчиняются определенному порядку, определенной иерархии, знать которую так же необходимо, как знать гаммы для музыканта. Он взял палитру в левую руку, просунув в ее отверстие большой палец. В этом движении была свобода и уверенность, вызывающая еще больше доверия, чем слова.
Потом он велел достать из этюдников самый большой тюбик — тюбик с белилами — и обильно выдавить их на середину палитры. Он рекомендовал пользоваться цинковыми белилами, а не кремниевыми, так как последние были уже цветом «не чистым», пригодным только для строго определенных целей. Затем меньшими, блестящими кучками он положил вдоль верхнего края другие краски — от холодных до теплых. Кобальт, ультрамарин, стронций, все более густые оттенки желтого и красных кадмиев, вплоть до киновари и пылающего пурпура, а также охры и земли. У каждой из этих красок была своя история, своя минеральная или органическая родословная, и каждая из них сыграла свою особую роль в истории этого взбунтовавшегося против смерти мира, каким является искусство. Желеховский говорил о них так, как будто они были не химическими веществами, а силами, находящимися между собой в антагонистических или дружественных отношениях, способными создать идеальную гармонию, но готовыми также жестоко мстить тому, кто пренебрежет законами их действия или не поймет важности их предназначения. С особой симпатией он остановился на коварных цветах, таких, как берлинская лазурь, которая, соединяя в себе холод и тепло, пригодна для наиболее неожиданных сочетаний, а кроме того, позволяет уловить некоторую двойственную, рафинированную игру опалесцирующего света.
— Свет… — говорил Желеховский и, медленно поднимая руку, потирал большим пальцем остальные, как бы пробуя качество какого-то очень тонкого вещества.
Все напряженно ждали определения. Это было странное общество. Лысеющий чиновник с мечтательным взглядом; старая дева в очках, с красными пятнами на худых скуластых щеках; горбатый паренек с рабочей окраины, постоянно воюющий с прядями жирных волос, которые, как увядшие растения, бессильно свисали на его виски. И еще две пухленькие дамочки-приятельницы, пушистые, как птенцы, расточающие вокруг себя конфетный запах.
Фамилия одной из них была Канарек. Михал запомнил ее, потому что перед уроком она показывала принесенные из дому акварели — ветки мимозы в голубых флаконах, кремовые розы, меланхолически роняющие лепестки. Карч пожал тогда плечами и, насвистывая сквозь зубы, отошел к окну, где грунтовал холст для новой картины. Сейчас, продолжая насвистывать, он мыл кисти над раковиной около дверей в прихожую.
Итак, они сидели, полные ожидания, вокруг мастера, с палитрами в руках и новыми этюдниками на коленях, только у горбатенького вместо этюдника была обыкновенная картонная папка.
Вдруг пани Канарек беспокойно задвигалась.
— А черный цвет? — спросила она озабоченным тонким голоском.
— Черная краска, — поправил ее Желеховский, пропуская между пальцами невидимое вещество. — У вас в ваших этюдниках имеется черная жженая кость. Но это особый случай. Мы будем применять ее с большой осторожностью и только в соединениях. Я хотел бы обратить ваше внимание на очень существенный факт. Черная краска не является цветом.
Карч закрыл кран, и с минуту сообщение Желеховского победно утверждалось в полной тишине. А потом все повернули головы в сторону охрипшего, сердитого голоса Карча.
— А чем же? — спросил он.
— Она является противоположностью цвета, — ответил Желеховский, глядя куда-то на стропила, — его отсутствием.
Карч подошел ближе и стал за плечами слушателей.
— Добавь, что только для тебя, — сказал он.
На лице Желеховского появилось выражение снисходительного терпения.
— Не только для меня, — произнес он. — Импрессионисты…
— Импрессионисты! — прервал его Карч. — Мы говорим о живописи вообще. Что ты скажешь о «Мужчине в черной шляпе» Гальса?
— Ты отлично знаешь, что я скажу. Дыра. Дырявая картина.
Внешне они разговаривали спокойно, Желеховский продолжал сидеть в совершенно свободной позе, но их взгляды и голоса стали холодными. В них таилась непримиримая ярость борьбы за самые светлые принципы. Так же, как и во время первой встречи с Карчем, Михал ощутил похожее на страх волнение перед неизвестным. Их мир был строгим, в нем господствовали абсолютные истины, этот мир не признавал ни компромиссов, ни жалости. Михал не смог бы объяснить его сути, но смутно чувствовал, что здесь сталкиваются понятия совершенства. И поэтому спор о черной краске показался ему невероятно важным.
Но Желеховский вдруг уклонился от дальнейшей борьбы.
— Видите ли, — произнес он, — мы с коллегой Карчем расходимся во взглядах на некоторые вещи.
— Они должны сначала договориться между собой, чему нас учить, — сказала приятельница пани Канарек, когда они выходили на мокрый двор.
Горбун молча шел рядом с Михалом. Они вместе прошли через мрачную подворотню и остановились на тротуаре, в самой середине обычного городского вечера.
— Это было интересно, — сказал Михал.
Паренек пожал кривыми плечами.
— Меня интересует только живопись, — сказал он.
Они писали на загрунтованном картоне. Сколько пустого места надо заполнить! Неуверенно положенный мазок ждал следующего мазка.
Желеховский поставил им натюрморт на столике, на крытом полосатой тканью. Глиняный горшочек, два яблока: одно зеленое, другое красное, книжка в оранжевом переплете. Каким, собственно, был этот горшочек? Охра? Коричневая с зеленоватым оттенком?
Карч подошел сбоку.
— Зачем вы так ровненько нарисовали? Вы только знаете, что этот горшок такой, но ведь важно то, каким вы его видите. Вот здесь освещение выпячивает форму, а там тень скрадывает ее.
Куском угля он искривил рисунок так стремительно, что черные осколки разлетелись в разные стороны. Потом набросился на яблоки. Придал им более угловатую форму.
— Пробовать цвет в разных местах. Прописывать фон! — Он ходил между мольбертами, насупленный, как капрал на учениях.
Возле горбатого Фрыдека он стоял долго, но не сказал ни слова. Паренек разделил поверхность горшка вертикально на две части. Затененную часть он закрасил зеленовато-серой terre verte olive [15], освещенную записал нежно-розовой. Теперь он подбирал холодную водянистую фиолетовую для фона пурпурной драпировки. У него все было совершенно не так, как в действительности, и пани Канарек иронически улыбалась, поглядывая из-за своего мольберта, но Михал почувствовал в этом правду — так, как чувствуют правду в интонации голоса. Его это как-то странно взволновало, хотя одновременно с этим он обнаружил в себе плохо скрытую зависть.
Карч отошел на цыпочках, что-то сказал на ухо Желеховскому, и они подошли к Фрыдеку — осторожно, точно боясь его вспугнуть. Молча обменялись многозначительными взглядами.
Михал тем временем забрел в теплые коричневые тона, которые лезли тяжело и назойливо, не желая ни с чем соединяться: ни с опалесцирующей розоватостью драпировки, ни с голубоватой пестротой полосатой ткани.
Он начал их охлаждать, гасить белилами, но каждое прикосновение кистью изменяло все цветовые отношения, и в конце концов холст начало затягивать грязным синеватым бельмом.
— Не мазать, — сказал Карч. — Это лучше переписать в другой гамме.
Михал знал об этом. Он уже понимал, что важны не отдельные цвета, а их отношения, но вместе с тем не мог решиться на вольность. Какая-то невыносимая внутренняя робость держала его в тисках условностей, и посредственные, избитые цвета сами лезли ему под руку. Он ошибался, думая, что потом сумеет затушевать их простоватость, поэтому он до тех пор смешивал краски во всех возможных комбинациях, пока палитра не покрылась коркой клейкой грязи.
Звук нетерпеливых шагов Карча приводил его в трепет. Он слышал, как тот распекает тихого чиновника.
— Сударь, без смелости ничего у вас не получится. Для живописи нужна смелость.
Желеховский был более снисходителен. Он всегда находил и хвалил хотя бы одно удачное отношение. Он приближал голову к картине, как будто обнюхивал ее, потом отходил на несколько шагов, откидывался назад и щурил глаза. Он горячо советовал щурить глаза. Тогда все становится плоским, лишние детали исчезают, а цвета проступают в виде пятен. Женщины принимали его замечания с благодарностью, как комплименты, которые ценят, хотя и не очень в них веря. Но запальчивая ирония Карча действовала более побуждающе. Под ее влиянием костлявая старая дева совсем обнаглела. Опять были какие-то яблоки, бутылки, початки кукурузы и стручки красного перца в глиняной миске. С кирпичным румянцем на щеках, с выражением дикой решимости в испуганных глазах она, как в трансе, размахивала худой веснушчатой рукой, хлестала красками прямо из тюбиков. Киноварь, изумрудная зелень, желтый хром, кармин и синяя прусская — все это исступленно кричало, потеряв рассудок.
— Слишком строго, — сказал, щуря глаза, Желеховский. Но она ждала Карча, а когда тот приблизился — побледнела и стала ловить воздух ртом, как утопающая.
Карч протер глаза своей огромной лапой с грязными ногтями.
— Что вы здесь натворили? Это не держится вместе! — И по своему обыкновению перевернул картину на мольберте вверх ногами. — Смотрите! — воскликнул он, с видом обвинителя вытягивая руку. — Смотрите, как все это рассыпается.
Из беспомощно раскрытого рта вырвался звук, похожий на вопль. Желеховский нервно затеребил фартук и загудел рассудительным баритоном, все украдкой вернулись на свои места.
— Какой хам! — прошипела пани Канарек вслед удаляющейся презрительной спине Карча.
* * *
Много лет смотрел Михал из окон различных классов на двор своей гимназии. Этот вид уже не вызывал в нем даже скуки. Закрыв глаза, он мог представить себе любую деталь кирпичных потемневших стен, высоких стрельчатых окон, подоконников из зеленых глазурованных плиток, железной ограды и покрытой толем крыши невысокой пристройки, в которой помещался гимнастический зал. Когда он во время уроков смотрел в окно, эта хорошо известная картина была фоном его мечтаний — экраном, который не замечают.
Однажды он увидел все это по-новому. На самом углу, там, где стена встречалась с бледным осенним небом, кирпич имел теплый оттенок киновари. Немного дальше она остывала, ее покрывал более холодный синеватый налет. До этого нейтральная, просто грязно-красная поверхность теперь изящно переливалась, играла нежными тонами красок, которые он мог не только видеть, но и назвать. Он находил здесь венецианскую розовую, а в тени навеса перебитую голубизной сиену жженую. На крыше гимнастического зала лежали отблески индиго и красновато-фиолетовых цветов.
Его охватило радостное волнение открывателя. На чем бы ни останавливались его глаза — его новые глаза, промытые и впечатлительные, — все было интересное, разнообразное, трепещущее красками. Возбужденный, ходил он по своему серому городу. Даже грязная штукатурка домов ожила.
Прозрение его все продолжалось. Дома, в школе, на улице он видел каждый предмет как бы разложенным на цветовые элементы и вместе с тем погруженным в одну огромную картину мира. Теперь он понимал, что можно рисовать обыкновенную железную печку, терриконы, места и предметы, которым сентиментальное воображение отказало в праве на красоту.
С нетерпением ожидал он каждый из вечеров, посвященных занятиям у Желеховского и Карча. Ему казалось, что стоит взять кисть в руки, и он сможет управлять вновь открытым богатством. Однако это было не так просто. Власть правдоподобия все еще была сильна. Конечно, он не мазал уже, как раньше, но все еще перебеливал свои натюрморты, стараясь приглушить случайные конфликты, рожденные чрезмерной верностью локальным цветам.
К тому же и рисовали они все меньше, так как сумерки наступали рано и надо было работать при электрическом освещении. Желеховский вел рисунок углем. Обещал croquis [16] с живой моделью. Кроме того, он приносил кипы цветных репродукций и с их помощью показывал ход извечной драматической борьбы человека за право на создание действительности неколебимее и совершеннее, чем природа. Потому что во всех этих усилиях было что-то большее, чем созерцание. Необычайно проворные буйволы из пещер Альтамиры и Ляко являлись материализованной мечтой о добыче. Маленькие дротики, торчащие в их мускулистых телах, должны были предварить и предрешить счастливое окончание охоты. Длинные ряды плоских, изображенных в профиль фигур с саркофагов и гробниц Египта в сосредоточенном молчании брели за пределы смерти, неся корзины с рыбой и фруктами, кувшины с напитками и благовониями, погоняя стада, чтобы обеспечить страну умерших всеми благами и радостями быстротекущей жизни.
Так, внешне очень земные греческие боги и герои — стройные, атлетического вида юноши и девушки с красивыми линиями бедер — выражали тоску о вечной молодости и красоте, не подверженной разрушению.
Страстное стремление избавиться от романского и готического стиля моделировало живые формы в ритмы молитвенных поклонов и взлетов, полностью порывая с натуралистической случайностью форм, а кватроченто превращало пейзажи Тоскании в поэтическое видение рая.
Ренессанс тоже старался улучшить мир по-своему, упорядочивая его, обставляя и украшая, как сцену придворного театра.
Иногда эти стремления и желания становились позой, но даже поза свидетельствовала о тоске по совершенной действительности, а у эпох, склонных к дешевым эффектам, появлялись свои мистики, свои зурбараны и эль греко. Чтобы их распознать, не надо было углубляться в тематику их произведений. Сами формы, сами краски говорили языком страсти и были полны значительности.
— Посмотрите на это соотношение, — говорил Желеховский, показывая на рыжие волосы мадонны и ее изломанный прямыми складками плащ, насыщенный темноватой, поблескивающей изумрудом зеленью. В этом была подлинная трагедия, глубочайшее беспокойство ищущей души.
Могло показаться, что выше всего ценящие сытость, влюбленные в домашнее хозяйство и сплетни фламандцы наконец обрели покой. Но и им, умеющим более, чем кто-либо до них и после них, запанибрата обращаться с материей, был знаком этот голод вечности. Их великолепные букеты, аппетитные куски мяса, их дородные девушки с пышными бюстами были созданы во имя вечной сочности и красоты, торжествуя над сомнением потомков — отчаянием Гойи, изысканным скептицизмом Ватто, иронией Домье.
Желеховский, разумеется, стремился к своим любимым импрессионистам и больше всего времени посвящал им. По его мнению, они нашли великолепный рецепт передачи не вещи, а впечатления от вещи — самых мимолетных оттенков восторга. Благодаря им были спасены от гибели легкомысленно растрачиваемые до сих пор атомы повседневного счастья, которые могут придать жизни самого обычного человека блеск славы. Очарование флирта на террасе маленького загородного кафе в девяностых годах, плавное покачивание лодки у тенистого берега, когда лучи солнца зеленым дождем сыплются сквозь листья, а красный поплавок своим первым робким наклоном предупреждает о появлении рыбы.
Они дорого заплатили за это свое прекрасное новшество. Одни нуждой, другие безумием, и все без исключения страдали от насмешек и равнодушия, потому что глаза и сердце большинства людей покрыты ороговевшей пленкой. Но, по мнению Желеховского, зонты взбешенных мещан в Салоне независимых свидетельствовали не только об отсутствии впечатлительности. Они свидетельствовали также о суеверном страхе перед борьбой с быстротечностью, поскольку эта борьба заостряет мысль о нашей бренности и требует драматических усилий в поисках правды, а также увеличивает доверие к солидности реквизита, которым мы стараемся укрепить свой призрачный престиж застраховавших жизнь четвертьбогов.
Столкновение двух концепций вечности — олеографии в золоченой раме, изображающей торжественные, но абсолютно не вызывающие никакого беспокойства сюжеты, и «нашлепанного» (как казалось) в спешке изображения случайного (как казалось) места или предмета — должно было вызвать скандал.
«Какое право на вечность имеет кабачок на окраине города или пара стоптанных ботинок?» — думали мещане, до глубины души возмущенные покушением на гипсовое великолепие макетов их добропорядочности. Они громко кричали, что все это непохоже, потому что мир тверд, рельефен и старательно покрыт лаком самим богом.
В устах Желеховского эти старые споры приобретали актуальное звучание — более актуальное, чем извечная неустанная борьба Ариеля с Калибаном. Его матовые щеки покрывал румянец волнения, когда, склонившись над репродукцией Утрилло, Дега или Ван Гога, он доказывал, что произведения эти требовали не меньше знаний, не меньшего мастерства, чем полотна Рембрандта. Он восхищался знаменитым красным мазком в натюрморте с вишневой веткой Ван Гога. Закрыв его пальцем, Желеховский демонстрировал, как он спасает композицию, равновесие и колористическую идею картины.
Тем временем выпал первый снег. В этом году снег был не просто белым, не просто грязным, когда его покрывала сажа. Постоянно с утра до вечера он менял цвет, меняя при этом весь колорит города. Стекла окон в сумерки становились более теплыми, почти оранжевыми, а воздух под низкими облаками — сиреневым. Глядя на голые деревья скверов, сплетающих из веток запутанные узоры ультрамариновых кружев, Михал начинал склоняться к точке зрения Карча о черной краске.
Однажды он опоздал на вечерний рисунок. Все уже скрипели углем по бумаге, порывисто гудела печурка. Он посмотрел на возвышение и невольно отступил к дверям, как будто совершил что-то бестактное. Перед ширмой стояла голая женщина. Михал еще не успел рассмотреть ее лицо — в своем ошеломлении он заметил только три темных пятна на желтоватой гладкости тела, — как раздался голос Карча:
— Заканчиваем позу. Достаточно. Отдохните.
Натурщица села в шезлонг, накинула висевшую на спинке рыжую шаль и повернула голову к ширме, как будто только сейчас почувствовав на себе чужие взгляды. Ее белые икры, видневшиеся из-под бахромы, выглядели по-детски беззащитно.
— Приготовьте, пожалуйста, следующий лист, — сказал Карч. — А вы почему стоите?
Михал с планшетом под мышкой на цыпочках пробрался к свободному месту возле пани Канарек. Опустив низко голову, он прикреплял кнопками лист картона.
— Здравствуйте, — сказала пани Канарек с упреком в голосе.
Он извинительно улыбнулся ей и почувствовал, как у него начинают пылать щеки. В ее полуприкрытых глазах вспыхнули искорки злорадства.
На возвышении Карч уже готовил натурщицу к следующей позе. Теперь она стояла спиной к залу, держа одну руку на узле каштановых волос, а другую оперев о бедро. Карч в своем зеленом свитере и измятых брюках вертелся возле нее, как возле манекена, поправляя положение худых рук, отдавая нелюбезные распоряжения:
— Левую ногу немного согнуть в колене. Ступню вперед. Хорошо, стойте так. Внимание, начинаем рисовать.
Пани Канарек вытянула вперед руку с карандашом и карминовым ногтем большого пальца выверяла пропорции. Михал старался с безучастным видом наметить контур, но штрих был слишком толстым, фигура на бумаге получалась размазанная, нескладная. Он не мог побороть смущения. Розовые ягодицы девушки контрастировали с синими тенями, казалось, что ей холодно. На талии был виден след резинки от трусов, а пониже лопаток — два кружка, оставленные пуговицами бюстгальтера. Поднятая правая рука слегка дрожала.
«Человеческое тело — эталон и мерило всех пропорций», — повторял он про себя фразу Желеховского, но назойливые детали мешали ему. Перед ним был не эталон, не мерило, а обнаженная молодая женщина с тоненькой талией и покрытыми гусиной кожей руками. Ее слабость, ее хрупкость были совершенно очевидны, но вместе с тем она существовала — как волнение, как действительность, — несравненно явственнее, чем идеальная форма.
Рисуя старательно и неумело, Михал терялся в хаосе беспокойных вопросов. В эту минуту искусство уже не казалось ему тихой пристанью.
«Может быть, надо вырасти, — думал он. — Может быть, это потому, что я еще щенок».
Пани Канарек склонилась над его плечом. Он почувствовал тошнотворный запах из ее рта.
— Стройная девушка, — шепнула она, фамильярно подмигивая.
И Михал опять покраснел, осознавая в отчаянии всю безграничность своей незрелости.
* * *
Чуть посветлевшее бесцветное небо обещало проясниться, дым и клочья низких облаков плыли над путями. В полной прострации стояли они утром на перроне. Бедно одетые, сгорбившиеся от холода люди, спеша, задевали их, опустив взгляд в землю, с руками, оттянутыми тяжестью чемоданов. Неподалеку, возле пустых багажных тележек, собиралась какая-то экскурсия из провинции. Небритый экскурсовод с зеленой повязкой на рукаве время от времени прикладывал ко рту металлический рупор и провозглашал:
— Учителя из Заглембя! Внимание, учителя из Заглембя, подойдите ко мне! — Ему вторил издалека протяжный зевок паровоза.
В дверях вагона появился Карч. Пальто на нем было расстегнуто — мягкое пальто из верблюжьей шерсти, а мохнатая шапка с козырьком небрежно сдвинута набок. Он был похож на огромного плюшевого медвежонка, небрежно сшитого и плохо держащегося на ногах. Желеховский вспрыгнул на ступеньку, чтобы ему помочь, но Карч отстранил его широким жестом руки. На перроне он споткнулся, налетел на тележки, бормоча что-то себе под нос.
Пани Канарек и ее приятельница презрительно отвернулись. Желеховский улыбался, у него нервно дергалась щека.
— Ну, вот мы и приехали, — объявил он. — В девять встречаемся в вестибюле Народного музея.
— А что с Фрыдеком? — вполголоса спросила старая дева.
Горбун стоял сбоку, засунув руки в карманы вытертого осеннего пальто. Они взяли ему билет в складчину. Он говорил, что не поедет, но все знали, как ему хочется посмотреть Французскую выставку.
— Фрыдек, у тебя есть кто-нибудь в Варшаве?
Он пожал плечами.
— Я посижу в зале ожидания.
Лысый чиновник ласково взял его под руку.
— Пойдем вместе.
Внезапно со стороны багажных тележек зарокотал усиленный металлическим эхом голос Карча:
— Внимание, внимание! Учителя и железнодорожники! Рабочие и купцы! Внимание, старики и дети! Все на выставку французской живописи! За мной!
— Позвольте, позвольте, — умоляюще взывал экскурсовод с зеленой повязкой.
Карч оттолкнул его и размашисто зашагал так, будто за ним шли толпы народа.
Кто-то засмеялся, люди на перроне останавливались.
— Внимание, дантисты, — гремел Карч, — украшайте свои приемные репродукциями Матисса и Брака! Врачи, адвокаты, директора банков, покупайте картины Францишека Карча! Долой Коссаков [17], долой «Улана и девушку!»
Молодой офицер в круглой фуражке с синим околышем остановился, резко звякнув шпорами.
— Кому здесь не нравятся уланы?
Он холодно смотрел поверх голов прохожих, положив руку в перчатке на эфес шашки. С румянцем на плоских щеках, с нахмуренными по-мальчишески бровями, он выглядел глупо и мило.
Пани Канарек наградила его чарующей улыбкой.
— Это художник, — поспешно объяснил Желеховский, — он говорит о картинах.
— Заложил, — добавил Фрыдек писклявым голосом.
Карч несся вперед, радостно трубя «Марсельезу». Отчаявшийся экскурсовод семенил рядом, как оруженосец, а за ним ошеломленные, запыхавшиеся учителя из Заглембя. Вокруг сверкали улыбки, и толпа на перроне начала двигаться в ритме веселого хоровода.
Оттиснутый далеко назад, Михал плыл по течению к выходу, стараясь не терять из виду то и дело исчезавшую в давке лохматую шапку. Он согрелся. Скука проведенной в поезде ночи сменилась приятным возбуждением. Он задел плечом красивого офицера и чуть не рассмеялся, хотя ему было немного обидно за молодецкие флажки в петлицах и серебряный звон шпор.
Из этой серости и холода пробился прозрачный весенний день. Когда они собрались в зале музея, свет, падающий сквозь стеклянный фонарь по выложенным желтым мрамором стенам, мерцал весело и спокойно, точно прозрачная вода.
Карч не явился, поэтому они начали осмотр под руководством Желеховского.
В картинах тоже была какая-то весенняя легкость и бодрость. Пейзажи Сислея и Утрилло, подернутые розовой и голубой дымкой, изображали мир удивительно нежный, ароматный и счастливый, как воспоминание о первых детских каникулах. Они не казались такими великолепно завершенными, как на глянцевых репродукциях — краска местами пожухла, прикосновения кисти оставили на краях засохшие утолщения, но именно фактура материала, присутствие человеческой руки глубоко волновали Михала. Почти все картины он уже знал по открыткам и альбомам Желеховского, и тем не менее каждая из них была неожиданностью. Все здесь было менее элегантным и менее буквальным, зато гораздо более индивидуальным, краски же зачастую оказывались совершенно отличными от полиграфической версии. Изумляла плоскостность и матовость полотен Гогена, грубая строгость сопоставления индиго и кадмия, соседствующих без переходов, как на набивном ситце.
Желеховский рекомендовал им подольше остановиться на искусных пятнышках Сера — это изображение воскресной сиесты на Гранд Жатт, сделанное из фиолетово-красно-зеленой каши, которое издали мерцало в сухом жарком воздухе, раскаленном лучами заходящего солнца.
Залы, которые были почти пустыми, когда они начали осмотр, понемногу заполнялись. Шелестели торжественно-тихие шаги, высокие стены отражали эхо приглушенных голосов.
Молитвенно-торжественная атмосфера вызвала в Михале чувство протеста. Он отстал от группки Желеховского, желая смотреть на все собственными беспристрастными глазами. Он ощутил что-то вроде облегчения, когда убедился, что ему не нравится ни коротконогая холодная «Олимпия» Мане, ни небрежный по композиции «Завтрак на траве» Боннара, перед которым Желеховский разыграл длительную пантомиму, изображающую восторг. Он то приближался, то стремительно отходил, причмокивая губами и выразительно потирая сложенные щепотью пальцы.
Глядя на автопортрет Ван Гога — тот, в меховой шапке и с забинтованным ухом, — он поймал себя на том, что его ощущения не имеют никакого отношения к живописи.
Застывшее в скорбной сосредоточенности лицо выражало постижение, неотвратимое и окончательное, воспринимающееся как призыв к нечеловеческим страданиям. Он почувствовал спазм в горле, слабость под ключицами. «Надо ли платить такую цену?» — подумал он трусливо.
Рядом с ним, засунув руки в карманы, стоял Фрыдек. У него было сосредоточенно сморщенное лицо человека, решившегося на все. Не сказав ни слова, они пошли дальше вместе. «О чем он думает?» — спрашивал себя Михал, внезапно придя к уверенности, что невысказанное мнение этого увечного мальчика должно быть правильным. Молча они перешли в следующий зал, молча ходили от картины к картине, как будто бы ища что-то единственное среди этих красот, и все не находили того, что им действительно было нужно.
Вдруг горбун остановился и положил руку Михалу на плечо.
— Здорово, да? — сказал он неожиданно низким голосом.
Это был натюрморт Брака. Темно-коричневая скрипка, насыщенный фиолетовый цвет виноградных кистей, какая-то нежная розоватость фона. Упрощенные, плоские формы, напоминающие настоящие предметы лишь благодаря капризу поэтического чувства, но по существу независимые, не требующие никаких других обоснований, кроме законов композиции.
Первой реакцией Михала было удивление: почему именно эта, а не «Подсолнечники» Ван Гога, не «Игроки» Сезанна? Но, удивляясь, он где-то в глубине понимал великую правоту Фрыдека. Здесь вопрос был поставлен явственней. Здесь была одна живопись: ее суть. И была в этом какая-то большая значимость, большая сила, умиротворенная действительность, целиком замкнутая в себе.
Взрыв скандала, полного ядовито шипящих звуков, вывел их из задумчивости.
— По какому праву вы делаете мне замечание? Какое нахальство!
— Нахальство — высказывать кретинские суждения о вещах, о которых вы не имеете ни малейшего понятия!
Это был голос Карча. Запальчивый, гневный, но вместе с тем бушующий радостью борьбы. Рокотом баса он перекрывал протестующие крики.
— У каждого может быть глаз из телячьего студня, — гудел он, — но этим не надо гордиться. Немного смирения, сударыня! Скажите про себя: «Я этого не понимаю» — и точка, но не надо паясничать: «Штукатурка!»
— Здесь есть кто-нибудь, кто мог бы защитить женщину? — Две тучные пожилые дамы с темными пятнами на толстых щеках стояли у одного из боковых стендов, у них был вид жертв, припертых к стене, но готовых к отчаянному сопротивлению. Над ними висела картина Руо — три квадратные головы, сконструированные из горизонтальных и вертикальных прямоугольников алого, фиолетового и голубого, обведенных толстыми контурами, как стекла витража. «Судьи», — вспомнил Михал по репродукции. Напротив стоял Карч, наклонив голову, как бык. Несколько мужчин медленно приближались, шаркая войлочными туфлями. С противоположной стороны во главе своей группы двигался Желеховский. Он нервно греб руками, и лицо его выражало крайнюю озабоченность.
— Франек, успокойся, Франек!
Он схватил разъяренного приятеля под руку и потянул в сторону.
Спасенные дамы яростным кудахтаньем выражали свое возмущение.
— Глупые балаболки, — ворчал Карч. — В конце концов кто-то должен был им сказать, как они неприличны!
Они быстро перешли в следующий зал, провожаемые возмущенными взглядами.
— Ты должен проспаться. Ты много выпил, — шептал Желеховский.
Карч делал вид, что не слышит этих уговоров. Он мрачно и вызывающе смотрел по сторонам. Вдруг он уперся ногами, вырвал руку.
— Смотри! — крикнул он. — Этот идиот Болтуть!
— Чем он тебе мешает?
— Ты видишь, как этот мерзавец улыбается? — Он без стеснения ткнул пальцем в высокую сутулую фигуру, стоящую перед полными радужных бликов джунглями Руссо [18]. Длинные седеющие волосы легкими волнами падали на плечи. Выразительное, изборожденное морщинами лицо бонвивана, монокль в глазу, на шее вместо галстука причудливо завязанная бархатная ленточка, так не идущая к твидовому пиджаку с разрезом, какие носят помещики-снобы, подражающие англичанам. Он как раз кончил осматривать картину. Вынул из глаза монокль и тщательно протирал его платком.
— Франек, оставь его в покое, — просил Желеховский.
Карч уже на шаг отошел от него. Пожал плечами.
— Не бойся. Я его только спрошу, что он здесь делает, вместо того чтобы сторожить свой дерьмовый Гевонт [19]. — И он с неожиданным проворством нырнул в самую гущу какой-то экскурсии. Желеховский беспомощно оглянулся по сторонам. Его взгляд упал на Михала.
— Пойдите, пожалуйста, за ним. Он сейчас хорош и неизвестно что натворит.
Седая голова Болтутя исчезла где-то среди стендов. Михал по пятам следовал за Карчем. Потерял его из виду, но вскоре увидел снова: Карч направлялся в вестибюль и, шатаясь, спускался по лестнице. Внизу, в раздевалке, Михал опять потерял его. Он сдал суконные тапочки и вышел на улицу. Ярко светило солнце, вокруг фонтана в сквере медленно прогуливалась воскресная толпа. Веселый ветер доносил запах воды с Вислы и металлический клекот трамваев с моста Понятовского. Он стоял на ступенях, глядя по сторонам и глубоко вдыхая весенний воздух, когда чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо.
— Он послал вас за мной, — сказал Карч с иронией. — Боялся, что я устрою скандал. Самому ему стыдно со мной препираться. — Михал испуганно молчал. Внезапно Карч рассмеялся. — Ну, идем, ангел-хранитель. Стереги меня.
Они пошли по Аллеям до перекрестка, свернули на Новый Свят. Карч впереди, Михал на несколько шагов сзади. В дверях небольшого бара Карч остановился, держась за ручку.
— Ну что, ангел-хранитель, что, трезвенник? Войдешь и будешь смотреть, как предаются пороку?
Михал в нерешительности переминался с ноги на ногу и с облегчением думал о том, что приехал не в школьной форме, но Карч и без этого знал, с кем имеет дело: он, без сомнения, помнил его румянец во время рисования натурщицы и вообще не мог относиться к нему серьезно.
— Ну что, войдешь?
Михал наклонил голову и, задев живот художника, вошел в полное дыма помещение.
Они сели за столик в углу. Карч заказал графин водки и бутерброды с брынзой. Михал сидел сгорбившись, спиной к залу. Ему казалось, что все смотрят на него. Он не смел поднять глаза, когда кельнер наливал им рюмки. Металлический вкус водки сдавил ему горло, глаза наполнились едкими слезами. Но когда в груди растеклось тепло, он почувствовал прилив смелости.
— А кто такой этот Болтуть? — спросил он. Карч язвительно засмеялся.
— Ты должен был видеть его картины. Если ты когда-нибудь был у дантиста, ты должен был их видеть. Они висят во всех приемных. Гевонт в лучах восходящего солнца. Гевонт на закате, заснеженный Гевонт, Гевонт под дождем, Гевонт в масле, Гевонт в томатном соусе. Озеро Морское Око во всех видах. В зеленой гамме, в желтой, всмятку, вкрутую. Сокровища родной природы. Открытки тоже имеются. Это расходится моментально. Послушай моего совета, закуси бутербродом, ангел-хранитель.
У брынзы был вкус мыла, поэтому Михал без возражений выпил вторую рюмку. Ему начинало это нравиться. «Вот жизнь богемы», — думал он.
— Не выношу таких типов, — сказал Карч, встряхиваясь после очередной рюмки. — Видишь ли, — начал он неожиданно серьезным тоном, — когда я сравниваю представление, которое вот такой Болтуть имеет о живописи, с тем, что я знаю и чувствую, тогда получается, что я должен быть Рембрандтом и Босхом одновременно. — Он свесил голову и громко вздохнул. — А между тем это не так, — добавил он страстно. — Не так, черт побери! И поэтому один вид этого типа, с его кретинским бантиком и моноклем, возмущает меня и оскорбляет. Ну что? Налить еще?
Михал отрицательно покачал головой.
— Ну, скажи что-нибудь. Будь вежливым. Скажи, что я гениальный художник.
Он смотрел на Михала внимательно, чуть враждебно. Потом поднес рюмку ко рту и выпил, но как-то рассеянно, как будто это была вода.
— Молчишь? Хорошо. Ценю твою честность. Я все равно бы не поверил. Потому что я знаю, как оно на самом деле. Когда тебе тридцать восемь лет, трудно верить в чудо. Уже все о себе знаешь.
Михала охватило странное чувство. Печаль и спокойный, тихий страх.
— Я всегда буду вам благодарен, — сказал он. — Вам и пану Желеховскому. Вы научили меня видеть.
— Спасибо и на том, — сказал Карч, слегка пожав плечами. Немного помолчав, он добавил тихо, как бы про себя: — Дело в том, что здесь ничем не поможешь. Я стараюсь работать хорошо, насколько это в моих силах…
— Может быть, Болтуть тоже старается работать хорошо, насколько это в его силах? — сказал Михал.
Графин и рюмки звякнули — Карч с размаху ударил кулаком по столу.
— В том-то и дело! — крикнул он так громко, что некоторые из близко сидевших оглянулись на него. — Это и есть плохо. Потому что в таком случае Какая между нами разница? Разве только та, — произнес он после минутной паузы, уже тише, — что Болтуть доволен собой, а я нет.
Привлеченный шумом, явился кельнер в белой куртке. Склонив голову набок, он ждал в услужливом полупоклоне.
— Чего изволите, сударь?..
Карч остановил водянисто-голубой взгляд на черных усиках, на бакенбардах, кокетливо доходящих до середины смуглых щек.
— Скажи-ка, дорогой, в чем, по вашему мнению, заключается суть живописи?
Усики дрогнули, обнажив блеск снисходительной улыбки.
— По всей вероятности, в рисовании картин, если позволите.
— Да ты философ. — Карч надул толстые губы. — Принеси мне, любезный, маленькую светлого.
— Кажется, это так просто, — сказал он, когда кельнер отошел раскачивающейся походкой. — Писать картины! Но зачем? Действительно, для чего все это? Знаешь, это борьба. Борьба за что-то, чего мы никогда не достигаем и чего мы даже не в состоянии по-настоящему понять. Я тебе что-то скажу… — Он привстал со стула, приблизил свое вспотевшее лицо к лицу Михала. — Если ты не уверен в своих силах, брось кисть. Брось, пока не поздно!
* * *
— Браво, Михал. Поздравляю тебя, мальчик. — Отец опустил газету на колени, он смотрел на сына сверкающими глазами, с недоверием, почти с удивлением.
Что все это значило? Почему он так возбужден?
— Ты уже читал, что написано о вашей выставке? — Он сложил газету вдвое и протянул Михалу, продолжая смотреть на него так, будто видел его впервые после многолетней разлуки, с большим интересом и ожиданием новых радостных открытий.
Это была местная газета, не очень солидная, которую отец, подняв брови, обычно бегло просматривал со снисходительной рассеянностью. На предпоследней полосе, заполненной мелкими репортерскими рубриками, название статьи выглядело даже несколько длинным — оно шло жирным шрифтом через три колонки. «Интересная выставка работ учеников художественной школы». Михал сразу заметил свою фамилию в начале одного из абзацев. Он ощутил хорошо знакомый ему жар в щеках. Испуганными глазами бегал он по строчкам, выхватывая отдельные слова и обрывки фраз. «Обещающий талант». «Благородный жемчужный колорит». «Серебристо-серые тона».
Отец встал и нежно похлопал его по плечу.
— Сядь и прочти спокойно.
— Можно взять с собой?
— Ну конечно. Спрячь ее на память. Это первая рецензия о тебе.
Михал побежал к себе на мансарду, хлопнул дверью, сел у открытого окна, залитого предвечерним светом, и принялся жадно читать.
Сначала шли слова благодарности двум предприимчивым художникам, не побоявшимся выступить с такой полезной инициативой в городе, который долгое время музы обходили стороной. А потом впечатления о самой выставке. Да, ему как раз посвящено больше всего строк. Эти «рафинированные» серебристо-серые тона, которые так восхитили рецензента, были — и он знал это — его робостью, следствием перебеления, усердного старания примирить цвета. Ему вдруг показалось, что он понимает бессильный гнев Карча. Его хвалили за то, что он не мог взять препятствия, в качестве добродетели выставлялся его невольный обман. «Обещающий талант». Как соблазнительно, как опасно звучали эти слова. Но ими награждена была также и несчастная старая дева за «смелость палитры».
С нарастающим беспокойством искал он упоминания о Фрыдеке. Его фамилия фигурировала среди дежурных комплиментов, которыми автор одарил в конце всех остальных участников выставки, перечисляя их в алфавитном порядке.
Михал спрятал газету в стол и лег на кровать.
Под закрытыми веками он чувствовал тепло отцовской улыбки, мучающей, как угрызение совести.
«Только самые лучшие принимаются в расчет, — думал он. — Только самые лучшие».
Капитан отдал приказ «Вольно, разойдись!» — и вышел из зала под грохот ломающихся шеренг. Те, кто получил лычки, стремились к своим шкафчикам, чтобы сразу же пришить к погонам серебряную ленточку. Те, кто не получил, мялись в проходе, и им казалось, что товарищи их бросили.
Михал поплелся на свою батарею, последнюю справа, и сел на койку, что, разумеется, было запрещено. Он злился, что у него горят щеки, и чувствовал, что чем больше он злится, тем краснев они становятся. Он прекрасно знал, что лычки не получит, однако перед самым построением позволил завладеть собой этой глупой надежде.
Теперь Михал сидел один, прислушиваясь к радостному гомону. Даже его сосед Мариан словно бы забыл о нем. Он нервно рылся в вещевом мешке, ища иголку с ниткой, и время от времени вмешивался в разговор львовян, болтающих под окном.
— На фуражку лучше приклеить, — кричал он. — От шитья околыш может сморщиться.
Львовяне не обращали на него внимания. Они считали его молокососом. Михалу это доставляло грустное удовлетворение. Он не мог скрыть от самого себя, что если он и хотел, чтобы кто-нибудь не получил лычки, так это Мариан. Они ехали в отпуск в один и тот же город. Если бы они оба приехали канонирами, он бы чувствовал себя гораздо лучше. Напрасно он убеждал себя, что ему безразлично. Он должен будет с глупым видом выслушивать вопросы: «А почему он, а не ты?» «Плевал я на все это, — думал он. — Плевал я на повышение. Плевал я на армию». Но такие мысли только бередили рану, так как он знал, что это неправда. Была суббота, и львовяне под окном договаривались об увольнительной.
— Надо это обмыть, — говорил маленький Матзнер.
Гулевич что-то шепнул, и все разразились смехом. Потом они совещались о чем-то приглушенными голосами.
— Сегодня, братцы, будет чертовски длинная очередь.
— В «Красный Домик»?
— А где же?
— Девочкам придется поработать!
— Ту, черную, видел? Мировая — верно?
Михал встал с кровати, перетряхнул матрас, поправил одеяло, взял выходную фуражку и пошел в столовую. Учебный плац блестел большими лужами, розовыми от заката. Столовая помещалась в кирпичном бараке рядом с баней. В тесных сенях пахло кофе, табачным дымом и мокрым сукном. Из зала доносился гул голосов. В дверях Михал звякнул шпорами, выпрямившись, сделал быстрый поклон.
Дым серыми слоями собирался под крутым дощатым потолком, поддерживаемым двумя рядами столбов. Здесь любое помещение — даже столовая, украшенная бумажными гирляндами и претенциозными фигурками из папье-маше, — ничем не отличалось от конюшни.
Наголо остриженные головы, темные и светлые, смешно торчали вокруг столиков, но в звучании голосов, в улыбках было что-то цивильное, какая-то атмосфера не то студенческого клуба, не то кафе.
Сюда ходили не все. Такие, как Гулевич или Матзнер, забегали только за сигаретами. В сидении и беседах за столиками они не находили никакого удовольствия. Из его батареи редко кто заглядывал сюда, именно поэтому он здесь и оказался. В углу под столбом Михал заметил свободный столик. Он взял в буфете стакан, прикрыл его блюдцем, положил на него ореховое пирожное и сел один, лицом к выходу. За соседним столиком сидели четыре помещичьих сынка из дивизиона конной артиллерии в мундирах с такими тесными воротничками, что жилы набухли на шее. Они с грубоватой вежливостью спорили о том, какая высота препятствий полагается на конных состязаниях. Один из них с наслаждением шепелявил названия знаменитых английских ипподромов. У всех четырех на погонах блестели серебряные лычки. Михал неожиданно почувствовал к ним такую ненависть, что невольно сжал кулаки, лежащие на стеклянной поверхности столика. Ему захотелось плеснуть им в лицо кофе. Он с мрачным наслаждением представлял себе их рожи, их возмущенные крики. «Кретины, — повторял он про себя. — Кретины!» Он жалел, что пришел сюда, но не знал, куда себя девать. Он быстро съел пирожное и совсем уже собрался уходить, но увидел в дверях Стефана, который стоял с книгой под мышкой и осматривал зал, щуря глаза в вежливой и равнодушной улыбке.
Стефан был из седьмой батареи. Они знали друг друга по городской библиотеке, встречаясь там почти каждую неделю. И так получилось, что Стефан стал руководить его чтением. Благодаря ему он узнал «Лавку пряностей» Бруно Шульца, «Фердыдурку» Гомбровича, стихи Чеховича и Либерта. Стефан был старше его. Он уже кончил один курс юридического факультета, но никогда не кичился этим. Своим занятиям он не придавал особенного значения. Он говорил, что в жизни надо делать что-нибудь практическое, если ты не художник. Но только искусство казалось ему делом действительно серьезным. Несмотря на это, он был одним из первых на своей батарее. Просто потому, что все давалось ему легко.
Иногда Михалу казалось, что между ним и Стефаном дружба, но до конца он не был в этом уверен, потому что Стефан ко всем относился по-дружески. Даже к лошадям он относился так, будто каждой хотел оказать особое внимание. В этом было что-то неприятное. В конце концов начинало казаться, что это такая манера, за которой скрывается холодный человек, ни в ком особенно не нуждающийся. Но метод его был великолепным. Все чувствовали себя обязанными Стефану за его учтивость и доброжелательные улыбки, в его присутствии никто не вел себя нагло, и даже рычащие с утра до вечера унтер-офицеры при нем понижали голос, обращаясь к нему с какой-то почтительной робостью.
Вот и сейчас Стефан смотрел в зал, но можно было поклясться, что он никого не ищет. Он только проверял, нет ли кого, с кем можно было бы приятно поговорить, если же он не найдет собеседника, ему будет одинаково приятно почитать книгу или сыграть партию в шахматы.
Повинуясь первому побуждению, Михал едва не поднял руку, чтобы обратить на себя его внимание. Но вовремя сдержался. Собственно говоря, он не хотел встречаться со Стефаном. У него не было желания говорить о живописи или литературе. У него было совсем неподходящее настроение для общения со Стефаном. По сравнению с олимпийским спокойствием Стефана его взвинченность могла произвести впечатление детского каприза.
Но Стефан заметил его. Немного женственным движением он поднял открытую ладонь на высоту плеча и своей мягкой кошачьей походкой стал пробираться к нему среди столиков, раздавая направо и налево сердечные улыбки.
— Как хорошо, что ты здесь, — сказал он, садясь напротив. — Мне как раз хотелось с тобой поговорить.
Он осторожно положил руку ему на ладонь, и Михал, несмотря на сопротивление, идущее от его сегодняшнего настроения, сразу почувствовал себя менее одиноким, почти успокоенным.
Стефан подвинул к нему тонкий томик.
— Знаешь стихотворение Лесьмяна «Луг»?
— Нет, не знаю.
— Возьми и прочти, это прекрасно.
Михал рассматривал его погоны, на которых не было никаких знаков различия.
— Где твои лычки? — спросил он.
Стефан вяло улыбнулся.
— Я ужасно не люблю шить. Пришью завтра перед построением.
— А я не получил, — сказал Михал голосом, которому он не смог придать желаемого равнодушия.
Стефан пожал плечами.
— Ты огорчен?
— Нет, — сказал Михал уныло. — Плевал я на это.
— Какие удивительные вещи есть у Лесьмяна, — переменил тему разговора Стефан. — Это такой замаскированный мистицизм, который скрывает в себе подлинный мистицизм. Как бы это сказать? Современный человек, когда ему нужно что-то сказать, что для него действительно важно, часто надевает на себя маску, являющуюся карикатурой на его откровение. Но здесь у него нечто большее. Здесь высказана уверенность, что к некоторым вещам, слишком уж приглаженным фальшивыми языками различных умников, можно приблизиться только посредством болезненной неуклюжести, просторечного бормотания, наивной лирики, чудачества. Это совсем не поза. Это та гениальная художественная хитрость, безошибочно выбирающая правильную дорогу. К тому же книга мастерски написана. Увидишь. Здесь нет ничего случайного.
Михал рассеянно перелистывал книгу. Внезапно он закрыл ее и отодвинул.
— Знаешь, — сказал он, — меня больше всего бесит, что все совсем не так, как я хотел. Мне бы на это наплевать, а я чувствую себя так, точно мне дали по морде.
Стефан посмотрел на него со снисходительным удивлением. Брови его были приподняты. В продолговатых карих глазах таилась недоверчивая улыбка.
— Ты все об этих лычках? Да? Михал кивнул головой.
— Я знаю, что это глупо…
— Человече, — сказал Стефан. — Человече. — А потом, смешно морща нос, проскандировал: — Бом-бар-дир. Бомбардир с дипломом. Бомбардыр.
Он засмеялся. И действительно, это слово в его устах звучало так комично, так глупо, что в конце концов рассмеялся и Михал.
— Значит, это является целью твоих честолюбивых мечтаний?
— Нет, конечно, нет, Я сам не понимаю, почему…
— Слушай, — сказал Стефан серьезным тоном, — в жизни весь фокус заключается в умении отличать важное от неважного.
— Я знаю, — признался Михал и впервые за этот день почувствовал вкус искренности на губах.
Ему стало приятно. Даже эти коноводы из дивизиона конной артиллерии не казались ему такими омерзительными.
— Мне очень интересно, что ты скажешь о «Луге», — сказал Стефан. — Именно об этом стихотворении. — Он стал искать его.
Они оба склонили головы над книгой.
Вся батарея чувствовала себя униженной тем, что ей в учениях отвели роль пехоты. Накануне прошел большой снегопад, через учебный плац можно было пробраться только по узким утоптанным тропкам. Но дело было не в этом. Все восприняли приказ начальства как дискриминацию. В глубине души каждый презирал пехоту, несмотря на то, что преподаватели лицемерно называли ее «королевой войск». Жалели даже своих мордастых унтер-офицеров, которых по этому случаю должны были замещать пехотинцы в куцых шинелях и обмотках.
Подготовка к маршу происходила в обстановке всеобщего уныния.
При проверке снаряжения старший унтер-офицер спросил: «Кто ходит на лыжах?» Несколько секунд длилось замешательство. В армии никогда не известно, что заключают в себе вопросы такого рода. В любом из них может быть ловушка, и служаку, который признается в знании ботаники, в результате пошлют набивать матрасы. Но Михал рискнул и вышел из шеренги. За ним еще несколько человек. Их послали на склад, где им выдали неимоверной длины лыжи, выкрашенные в белый цвет, ореховые палки и белые комбинезоны с капюшонами. Ботинок не оказалось. Они должны были приспосабливать крепления к сапогам. Командование патрулем лыжников поручили Гайде, старшему бомбардиру.
На рассвете следующего дня они стояли на правом фланге спешенной батареи, среди засыпанных снегом полей, расплывающихся в дымке до самого края виднеющихся вдали лесов.
Над сугробами торчали деревянные стены последних домиков предместья, придавленные огромными белыми шапками. Покосившийся православный крест торчал из снежного бугра, свидетельствуя о развилке дорог, видимой только на карте. Они были ротой боевого охранения и получили задание захватить переправу через реку, скрытую в одном из оврагов в нескольких километрах впереди. Сухие хлопья снега щекотали им лицо, ветер забирался за воротник и рукава, а мир вокруг медленно кружился в вихре белых мерцающих пятен. Крики команд отлетали куда-то в сторону, как вспугнутые ветром птицы.
Лыжный патруль двигался впереди, в качестве головного дозора. Они сразу затерялись, растворились в перемещающейся сыпкой стихии, целиком полагаясь на карту и компас Гайды. Им было трудно в сапогах, но, несмотря на это, они ушли далеко вперед от пешей колонны. Время от времени они останавливались и Михал возвращался по исчезающему под свежей порошей следу, чтобы подождать, пока не замаячат бредущие сквозь снег тени.
С удивлением приветствовали они вынырнувший из снежной мглы темный, огромный — как им показалось — остов бескрылой мельницы. Они знали, что она должна была попасться им на пути, но не могли и предположить, что так точно выйдут на нее. Мельница ворчала, завывал процеживаемый сквозь доски ветер, скрипели соединения старых балок. И еще долго слышали они позади себя ее печальную затихающую песню. А потом их окружила тишина. Белое мелькание перед глазами затихало, отдельные крупные снежинки, медленно паря, опускались на землю. Все вокруг прояснилось, а сверху пробивалась неясная улыбка света.
Они остановились на небольшой возвышенности, возле засыпанного плетня, неизвестно что огораживающего в этой пустыне. Гайда, склонившись над картой, моргал залепленными снегом ресницами. Внезапно молочный мир осветился, повеселел, как будто с него сняли покрывало. Еще некоторое время их окружала мгла, но уже прозрачная, слепящая глаза теплом. И вот перед ними открылся широкий простор. Снег сверкал морозными искорками под высоким синим небом; за плетнем среди кривых фруктовых деревьев виднелись постройки одинокой усадьбы, окруженной белыми волнистыми полями. Со стороны мельницы, мимо которой они недавно проходили и черный силуэт которой теперь резко вырисовывался на горизонте, приближался всадник. Его лошадь по брюхо проваливалась в снег. Отчаянными рывками она выбивалась на вершины сугробов, поднимая фонтаны снежной пыли. Уже издалека был слышен ее тяжелый храп. «Головной дозор, стой!» — крикнул капитан, хотя они уже давно стояли. Капитан подъехал к ним вплотную. У гнедой кобылы тяжело ходили бока, а морда была вся покрыта бахромой инея.
— Разведать берег реки в районе деревни Слобудка, — приказал капитан. — В случае встречи с неприятелем сковать его огнем, вплоть до подхода пехоты. Выполняйте!
Он повернул пышущую паром лошадь и двинулся назад, а они заскользили вперед, перестроившись по приказу Гайды в цепь.
Михал опередил товарищей. Он бежал длинным скользящим шагом, выбрасывая палки далеко вперед. Ему казалось, что его со всех сторон окружает радостный звон маленьких стеклянных колокольчиков. С плоской вершины холма он увидел открывающуюся перед ним широкую долину, ограниченную с противоположной стороны обрывистым речным берегом, и соскользнул в нее. Его несло плавно, мягко и быстро. Он остановился возле группы старых деревьев, поднимавших к небу кривые черные ветки в сверкающем нимбе из кристаллов. Опершись грудью о палки, он глубоко вдыхал морозный воздух. Как он был счастлив, ощущая этот бодрящий морозец. «Я существую!» — кричало все в нем. Он знал, что угадал или понял что-то очень важное, но не мог этого объяснить. Я существую. Если мир таков и я могу это узнать и это испытать, значит, я действительно существую. Он не задумывался, не пробовал формулировать, но его насквозь пронизывало чувство, подобное радости полета и огромного покоя, в нем была вера в бесконечность собственного существования, вне пределов несовершенства.
Он оглянулся. Белые силуэты товарищей едва показались из-за откоса. Вот они съезжают вниз. Шатаются, неуверенно присев на широко расставленных лыжах. Ему был виден собственный узкий след, наполненный светлой голубизной. Незаметно радость трансформировалась в маленькое обычное чувство удовлетворенности. Он получил звание бомбардира во вторую очередь, но на батарее не было лучшего лыжника, чем он.
Не ожидая остальных, Михал побежал к краю обрыва и упал в пушистый снег. Внизу лежала река, большую часть ее покрывал голубоватый лед, но на изгибах она была еще живой, сверкающей темными пятнами течения. На той стороне виднелись покрытые снегом крыши небольшой деревеньки, плетни, желтые от навоза дорожки, пригоршня церковных луковиц в глубине небольшой треугольной площади. Далеко за горизонт уходили плоские поля, глубоко ввалившиеся, как будто на них смотрели с высоты птичьего полета, с шеренгами наклоненных деревьев и с разбросанными повсюду кубиками домов.
Он сдвинул винтовку на грудь, выставил вперед ствол. Какая-то сгорбленная фигурка перебежала от одной избы к другой. За ней еще одна, и еще, и еще. Он прицелился и выстрелил. Грохот потряс тишину гулким эхом. Гайда упал в снег рядом с ним.
— Где?
— Там!
Снизу грянули беспорядочные, торопливые выстрелы. Из-за плетней тянулись цепочки отделений, они рассыпались вдоль реки, исчезали в седой щетине лозы. Лыжники стреляли с обрыва.
— Ты представляешь, — сказал Гайда, вытирая вспотевший лоб, — если бы это было на самом деле, как бы они у нас заплясали, черти!
Застрочил пулемет. Они прицеливались и стреляли, счастливые, как дети.
— Наши идут! — закричал кто-то в конце цепи. Склон холма за ними почернел от идущих по глубокому снегу фигур.
Михал радовался. Все радовались. Это было как в военном романе, как в кино. Они не должны были изображать из себя взрослых. Игра в войну. Игра, возбуждающее удовольствие которой никогда не перестает быть соблазнительным. Пехота достигла обрыва. Теперь выстрелы гремели дружными залпами, с обеих сторон стрекотали пулеметы. Телефонисты тянули линию через долину. Из-за холма вылетели конные разведчики. Перед позициями пехоты они соскользнули с седел — наблюдатель с капралом-пехотинцем бежали к обрыву, придерживая болтающиеся спереди бинокли. Потом в яркое небо взлетела с шипением красная ракета. Наблюдатель спрятал дымящуюся ракетницу в кобуру и, опустившись на колени, стал крутить ручку полевого телефона.
Огонь слабел, потому что большинство уже израсходовало свои холостые патроны. Но вскоре за бугром раздались четыре артиллерийских выстрела. Опять вверх взлетела ракета, на этот раз зеленая с длинным хвостом белого дыма. А потом веселым медным голосом запела труба и после нескольких запоздалых выстрелов наступила тишина. Из деревни чуть пониже выползали в поле черные змейки отделений. Теперь был слышен только бодрый звон топоров из-за поворота реки, где передовые подразделения сооружали мост, и команды офицеров, собирающих свои взводы.
Обедали они в «захваченной» деревеньке. На крестьянских дворах дымились полевые кухни. Из сеней высыпали бородатые мужики в кожухах, закутанные в платки бабы. Маленькие окошки были облеплены любопытными детскими мордашками. На главную улицу въезжали артиллерийские упряжки, лошадиные бока поросли серебряной косматой шерстью. Солдаты подставляли котелки под разливательные ложки с горячим гороховым супом.
— Хорошо повоевали, да? — сказал Гайда, стоящий перед Михалом в очереди.
— Ага, — согласился Михал.
Он силился что-то вспомнить. Какое-то мгновение этого дня, отблеск которого он еще ощущал в себе, но никак не мог выловить среди других впечатлений. «Это было что-то очень важное, — думал он. — Надо обязательно вспомнить. Обязательно».
Михал качнулся, инстинктивно ища ногой опору на влажной соломе. Спугнутая им лошадь била копытом в стойле. «Заснул, черт побери». Он быстро вскочил с цимбалины, одернул шинель.
— Стой, дурачок, — сказал он Эмиру, который храпел и звенел недоуздком.
Беспокойство коня передалось другим лошадям, и по конюшне пробежал нервный топот копыт и звяканье цепочек.
— Но-но! Спокойно!
Михал вышел в мощеный проход, посмотрел налево, потом направо. Ни души. Слабый свет лампочек, висящих под кровлей, стекал по отполированным лукам седел и ремням сбруи. Воздух был густой от теплых паров аммиака.
Левой рукой придерживая шашку, Михал неторопливо двинулся вдоль стойл. Под подбородком он ощущал давление ремешка. Некоторые лошади лежали, поджав ноги. И хвосты их разметались по соломе, как волосы спящих женщин. Другие стояли в задумчивости, низко опустив морды. Внезапная дрожь пробегала по их гривам. Сивые и гнедые, каштановые и вороные крупы. Он шел мимо спящих животных, по временам издающих глухие стоны. Едва слышно позвякивали шпоры — стеклянное эхо одиночества.
«Наверно, спят», — подумал он с обидой о ездовых. Он прошел всю конюшню и вернулся. Помещения взводов были разделены темными и сырыми сенями. Там стояли большие лари с фуражом. Он заглянул в сени. Оба ездовых сидели на ларе. В темноте светились красные точки сигарет.
— Вынести навоз, — сказал он в сторону съежившихся теней.
Он, собственно, хотел поговорить с ними, но когда увидел их перед собой, то опешил от их враждебности и не нашел ничего лучшего, как отдать приказ. Они неохотно задвигались, но с ларя не слезли. Он расценил это как неуважение.
— Вы слышали? — повторил, он повысив голос. — Вынести навоз.
Они молчали, презрительно и враждебно, как ему казалось, а он ждал, подавленный собственным бессилием. «Я должен «взяться» за них, сказать им что-нибудь о их матерях, пригрозить рапортом», — подумал он и устыдился. Ведь он хотел только по-приятельски поговорить с ними.
— Ща, — отозвался наконец ворчливый крестьянский голос. — Вот докурим.
Михал буркнул что-то и возвратился во взвод. Цимбалина возле Эмира еще слегка покачивалась. Он грустно посмотрел на коня. Веки воспалились, чесались. Было только около двух. Теперь он не мог даже присесть. Ездовые окончательно перестали бы с ним считаться.
Они не видели его со своего ларя, но он все время чувствовал их присутствие. Он ходил взад и вперед, все больше расстраиваясь. Ездовые уже давно должны были докурить свои сигареты. Что же делать? Вернуться и обругать? А если не послушаются?
«Это не только неуважение, — думал он. — Это ненависть. Они ненавидят меня за бело-красные шнурки аксельбантов и за то, что я имею право им приказывать, хотя и вдвое меньше служу в армии. Но ведь я тоже убирал Навоз в конюшне и выносил его. Да, но я это делал, только «проходя науку», а они будут всегда возиться в навозе. Даже когда вернутся в свои деревни. Они ненавидят меня за легкую судьбу и презирают за мягкотелость».
Михал ходил тяжелыми неторопливыми шагами, звеня шпорами, сжимая в руке скользкие ножны шашки. Ряженый. Вся эта бодрость ненастоящая.
Борута не спал. Он переминался с ноги на ногу, грыз ясли и икал, глотая воздух.
— Ну, Борута, успокойся!
Михал вошел в стойло, тыльной стороной ладони потрепал коня по шее, погрозил ему кулаком, когда тот, подняв верхнюю губу, потянулся к нему желтыми зубами.
— Я тебе покажу, негодяй.
Выходя, он оперся о костлявый зад, чтобы конь не ударил его копытом.
В конце прохода под стеной стояли носилки с навозом.
Он опять направился в сени, повторяя про себя слова, которые он сейчас скажет ездовым из учебной батареи. Он не будет на них кричать. Он обратится к ним спокойно и холодно. «Может быть, вы потому меня не слушаете, — скажет он, — что я не ору на вас? Не запрещаю вам курить? Но когда придет дежурный офицер, он взгреет меня, а не вас. — А под конец добавит резко, но не повышая голоса: — Ну, давайте, берите носилки».
Михал заглянул в сени. Ездовых не было. Он ощутил разочарование, смешанное с чувством облегчения. Наверно, ушли трепаться в другой взвод. Плохо освещенный проход во второй половине конюшни казался пустым. Матово-блестящие крупы, седла, вороха упряжи на крючьях. Ни души. С возмущением, не лишенным зависти, он подумал, что солдаты залезли, наверно, в какое-нибудь стойло и дремлют.
Скрипнули ворота. Повеяло сырым тающим снегом. Ездовые, с шумом поставив в угол лопаты, топали, хлопали рукавицами по бокам.
Михал не подумал об этом. Ездовые очищали поилки от снега. Они действовали без приказа, может быть, наперекор ему, чтобы доказать, что не нуждаются ни в чьей указке. Они могли очистить их позже, но, видимо, хотели подчеркнуть свою независимость.
Он ничего им не сказал и вернулся назад в конюшню еще более расстроенный. «А может быть, это я их ненавижу, — подумал он. — За их трудную судьбу, за их твердость».
Он перестал считаться с условностями.
— Эмир, подвинься!
Он толкнул сивый круп, сел на цимбалину. Конь повернул голову и посмотрел на него влажным коричневым глазом.
— Чего уставился? Спи!
Цепи, на которых висела цимбалина, тихо поскрипывали. Запах конюшни действовал одуряюще, ел глаза. Время, погрузившись в сон животных, стояло на месте. Когда Михал открывал глаза, он видел все тот же нереальный мир. Сивый бок Эмира, рядом на крюке седло с подтянутым на луке стременем и свисающей подпругой, а с другой стороны прохода — лежащие на соломе конские крупы. Ему казалось, что он бодрствует, что улавливает ухом каждый шорох и готов вскочить на звон шпор дежурного офицера, но топот тяжелых ботинок, покашливание и сонные ворчливые голоса захватили его врасплох.
— Недоносок, — говорил один.
— Антихрист, браток, — говорил другой.
Ездовые несли носилки. Он замер на своей цимбалине. Пройдя два стойла, они остановились, опустили носилки на землю. Он видел над лошадиными хребтами их головы в мятых фуражках. Один из них, с красной рябой рожей, закашлялся.
— А Чепелю, брат, взяли в санитарный барак, — сказал второй, с усиками и острым носом, как у крысы. — Вся его болезнь — чирей на заднице.
Рябой снова закашлялся, на этот раз как-то демонстративно.
— Уже ощипали, — сказал он.
Кряхтя, они подняли носилки и пошли дальше. Даже не посмотрев в его сторону.
Михал облегченно вздохнул. Они говорили о гарнизонном враче. Его же не удостоили даже ругательством.
Когда они вышли в сени, он встал и продолжил свою скучную прогулку. Делая очередной поворот, он заметил у входа фигурку в длинной шинели и конфедератке. Это был Ошацкий, из соседнего взвода. Он потягивался и зевал.
— Ну, как дела, старик? — спросил он, заикаясь от зевоты.
— Дьявольская скука, — ответил Михал. — И спать хочется.
— Я выспался, — сказал Ошацкий. — Часа два покемарил в яслях. У меня мировые ангелы-хранители. Я дал им по пачке махорочных, и они ходят как по струнке. Ничего им не надо говорить. Если придет поверка — вовремя разбудят.
Он протер глаза кулаками в перчатках, на его веснушчатом детском лице сияла улыбка.
— К тому же, брат, — добавил он, — сегодня опасаться нечего. Дежурство по дивизиону несет майор Гетт. Я слышал, как на манеже он договаривался с капитаном сыграть в бридж. Теперь он заявится только к раздаче кормов.
— А где же твои ангелы-хранители? — спросил Михал с раздражением. — Что-то их не видно.
— Сейчас они спят, а я отдуваюсь. Для чего всем мучаться?
— Если бы тебя накрыли, губа обеспечена.
Ошацкий рассмеялся.
— Э, брат! Губа тоже для людей, — он отряхнул с шинели остатки сена и ушел к себе.
«Ошацкий прав, — думал Михал. — Прав, черт побери!» Некоторое время он раздумывал, не пойти ли к ездовым и не сказать, чтобы поспали. Пожалуй, уже поздно. Подумают, что подлизывается. Ну что ж, надо заканчивать так, как начал. До раздачи кормов еще два с половиной часа. Он расхаживал все медленнее, распираемый зевками и тревогой. Кости, словно плохо подогнанные, давили на мышцы. Посмотрел на часы. Ему показалось, что они стоят. Приложил часы к уху и услышал настойчивое тиканье.
Он опять сел на цимбалину возле Эмира. «Только на минутку», — подумал он, позволяя векам сомкнуться.
— Пан подхорунжий…
Михал вскочил. Перед ним стоял тот рябой с красной рожей, ездовой Петрас, и забавно моргал белесыми ресницами.
— Не вставайте, пан подхорунжий. Я к вам с просьбой. Вы не рассердитесь?
— Что вам угодно?
Солдат кротко улыбнулся, полез в карман шинели и что-то с шуршанием извлек из него.
— Я письмо получил. Из дому. От брата. Вы мне не прочитаете?
— Давайте.
Михал подвинулся, освобождая место рядом с собой. Письмо было написано на вырванном из тетради листке. Аккуратные круглые буквы со старательно выведенными завитками, маленькие фиолетовые пятнышки разбрызганных чернил.
«Дорогой брат Марцин! Во первых строках моего письма кланяюсь Тебе и сообщаю, что все мы здоровы, чего и Тебе желаем. — Петрас глубоко вздохнул, точно после вступления ксендза к проповеди в костеле. — У нас ничего нового. В нашей деревне никто не умер, не было ни одного несчастного случая и ни одного пожара. Матушка наша страдала грудью, и мы ее натирали собачьим салом, но теперь она, слава Богу, здорова, как всегда, ходит за скотиной и в прошлое воскресенье ходила к обедне. Крестины у Бронков будут в Страстной Понедельник. Хотят Тебя просить быть крестным, да не знаем, будет ли Тебе отпуск, потому что у нас люди много о войне говорят, что она должна быть, а если будет война, то никого не отпустят. Так Ты нам, дорогой брат, напиши, как там оно есть, потому что Тебе там в армии виднее. Это моя главная к Тебе просьба, чтобы я знал, что Бронкам сказать, и чтобы Матушку нашу порадовать, потому что она сильно по Тебе плачет, что как война будет, то Ты погибнешь и станешь Неизвестным Солдатом.
Кланяюсь Тебе, брат Марцин, и все Тебе кланяются, сестры, Марыська и соседи, а Матушка Тебя благословляет. Здесь, где этот крестик, она поцеловала. Ответь поскорее, как там с отпуском и с войной. Пусть Тебе кто-нибудь сделает милость напишет. Оставайся с Богом.
— Всё, — сказал Михал.
Ездовой несколько раз кашлянул, потом отхаркался.
— Вот здесь этот крестик. — Михал, показав пальцем, протянул ездовому письмо.
Тот взял его в красные потрескавшиеся руки, прикрыл крестик грязным большим пальцем. Оба смущенно молчали.
Через некоторое время Петрас заерзал, спрятал письмо в карман, достал смятую пачку сигарет и робко тронул Михала за локоть.
— Здесь нельзя, — сказал Михал и сейчас же пожалел о сказанном. «Что я за чертов службист?» — Если хотите, курите в сенях, — уступил он.
Но Петрас спрятал пачку в карман.
— На ксендза будет учиться, — сказал он.
— Кто?
— Брат. Он умный, все понимает.
— Ага.
— Пан подхорунжий…
— Да?
— Почему все о войне говорят? Будет война?
— Не знаю. Это, наверно, в связи с аншлюсом.
— А это кто такой?
— Кто?
— Этот Айшлюс, о котором вы говорили.
— Нет, это не фамилия. Это значит «присоединение». Гитлер силой присоединил Австрию к Германии. Вы должны были об этом слышать. Отсюда и это беспокойство.
— И через это должна быть война?
— Нет, не должна. Я думаю, что не будет.
Петрас вздохнул, опустил голову, уйдя в свои думы.
— А далеко эта Австрия? — спросил он через минуту.
— Порядочно.
— За морем?
— Нет. За третьей границей. Сначала Чехословакия, потом Венгрия, а потом Австрия.
— Спасибо, пан подхорунжий.
— Не за что.
Михал с грустью подумал, что сейчас канонир уйдет и опять вернется одиночество среди спящих коней. Но Петрас продолжал сидеть на цимбалине, почесывая голову. Его что-то беспокоило.
— Пан подхорунжий, — сказал он, немного помолчав, — объясните мне, пожалуйста, я ведь неученый… Как там с этими странами?
— Ну что, например?
— Ну, граница. Это что, ров такой выкопали или плетень поставили, чтобы человек не перелез?
— Нет. Эхо такая линия на местности. Иногда государства разделяют горы, иногда реки, а иногда ничего. Линия такая, она идет через поля, леса. Ее охраняют заставы.
— А там, с другой стороны, уже другие люди?
— Такие же самые. У них другой язык, другие законы. Но не всегда.
— И у них тоже хозяйства есть? В поле работают? В костел ходят?
— Да.
Петрас улыбнулся, заморгал белыми ресницами.
— Так, значит, войны не будет?
— Думаю, что нет.
— Спасибо, пан подхорунжий.
— Что вы, не за что.
— Послушайте, — добавил Михал, видя, что Петрас собирается уходить, — кто вам напишет ответ?
— Да я еще не знаю. Может, капрал Брыла. За сигареты.
— Если хотите, я могу написать. Приходите вечером на пятую батарею.
— Благодарю.
— Пустяки.
Петрас тяжело поднялся с цимбалины.
— Пан подхорунжий…
— Да?
— Старший унтер-офицер говорил, что если будет война, то все, что пропадет, с человека не взыщут. Что это будто бы идет в убытки.
— Не знаю. Может быть, это каптенармусы ловчат. Ездовой неуклюже переминался с ноги на ногу.
— А то я простыню порезал. На портянки. Портянки у меня украли, ироды, так я взял простыню и порезал.
Михал развел руками.
Петрас, опершись о круп Эмира, на минуту задумался о чем-то, — может быть, о выгоде и убытках войны, наконец пожал плечами.
— Покличу Гавдзёха, выберем из-под лошадок.
Он удалился, покашливая и тяжело стуча сапогами.
Михал вышел из стойла. Дышалось как будто немного легче. Маленькие окошечки над яслями посерели. Что-то вверху прошелестело. Под сводами конюшни прошмыгнул воробей. Михал направился в сени, толкнул ворота. За коновязью на бесцветном холодном небе вырисовывались голые ветки тополей. Он глубоко вздохнул и помотал головой, отряхивая густой чад ночи.
Они маршировали через город в костел. Затянутые в гладкое сукно, со скрипящими портупеями, в кожаных «парадных» перчатках. Левой рукой они придерживали ножны шашек, а правой свободно и ритмично размахивали. В ритме их шагов колыхались длинные шинели и звонко бряцали шпоры. Загоревшие щеки пружинисто вздрагивали в такт шагам. Каждое лицо было подрезано полоской белоснежного подворотничка.
Они шли по широкой улице, скользкой от размокшего конского навоза. За заборами, где таяли остатки снега, виднелись деревянные домики с крылечками. Стекла в окнах дрожали от ударов сотен сапог о мостовую.
На деревянных тротуарах останавливались прохожие. Чиновники в вытертых демисезонных пальто, купцы, врачи и адвокаты в шубах с меховыми воротниками, бабы в клетчатых платках и мужских сапогах и хилые бородатые евреи в черных халатах. Все приветствовали подхорунжих улыбками, а офицеры и солдаты других частей гарнизона вытягивались и отдавали честь.
— Батарея, запевай! — крикнул ведущий колонну старший унтер-офицер.
— Три… четыре!
Я ходил по полю,
— затянули в первой четверке.
Залитом росою,
— гаркнули сотни голосов.
Полюбил девчонку, полюбил девчонку
С золотой косою.
Песня взлетала в небо громкими, четко рубленными фразами, в блестящее водянистое небо, раскинутое над большой равниной. Вскоре они, перешептываясь, будут стоять, как дети, на коленях на пахнущем плесенью и ладаном полу, во мраке костельных сводов, склонив бритые головы. Но сейчас они пели во всю мощь молодых легких:
С золотой косою,
Синими глазами…
Михалу казалось, что в его горле вибрирует голос всей батареи. Он пел громко, как только мог, размахивая рукой, четко печатая шаг и втайне мечтая, чтобы кирпичный костел был на краю света. Он не выносил этого возбуждения и всегда старался его скрыть от себя, замаскировать искусственной серьезностью. Ему вспомнилась сладкая овсяная каша — кошмар детских лет, и скучные визиты, полные тошнотворной вежливости. Напрасно он убеждал себя, что в этом нет никакого смысла. Когда он пробовал принудить себя к покорности, то сразу чувствовал, как в нем вырастает гипсовый святой со сложенными ручками и глазами, поднятыми к небу в слащавом экстазе. Когда он пытался уловить слово правды, то не мог пробиться сквозь хриплый фальцет ксендза Пщулки, вещавшего с амвона. Иногда его охватывал какой-то ужас, когда он осознавал размеры этой лжи. Несчастный проповедник, плетущий гирлянды риторики полным пафоса писклявым голосом, болтающий о добродетели, любви и искуплении, и шеренги крепких солдатских голов, в которых вынашиваются планы воскресных развлечений, жадное ожидание утех в «Красном Домике», водочного веселья, возбуждающих кабацких споров. А над всем этим, во всем этом какая-то непостижимая действительность, для выражения которой еще не найден язык. За столько веков, думал он, и все еще не найден. А может быть, его просто забыли? И совершенно невозможно было вынести, когда капеллан, как будто бы охваченный теми же сомнениями, отказывался от проповеднического тона и пробовал «покорить» свою паству крепким словцом, грубой шуткой, вызывающими еле сдерживаемый смех. Михал краснел со стыда. Но себе он говорил, что это так защищается его гордыня, что это она критикует все и презирает.
И теперь, когда с песней на устах они маршировали к пасхальной исповеди, он думал о том, что прежде всего долгой покаяться в своей гордыне. Но к ксендзу Пщулке он не пойдет. Этого ксендз от него не дождется. И Михал пел во все горло:
Сладко поцелует,
Прижмет, приголубит…
— Отставить! — крикнул старший унтер-офицер.
Колонна сворачивала в обсаженную липами аллею, ведущую на вершину небольшого холма. Громче зазвенели шпоры, правофланговые увеличили шаг, и четверки четко поворачивали, словно прикрепленные к оси.
На липах уже появились почки, и небо сквозь сетку красноватых точек казалось чище и мягче.
На костельном дворе дали команду разойтись. «И чтобы никто не пикнул, — наставлял их старший унтер-офицер, — здесь не кабак. Сосредоточиться, думать о своих грехах, а не о Маруськиной заднице».
Большая часть седьмой батареи, которая прибыла раньше их, уже ждала построения, куря и приглушенно разговаривая.
Михал сел на теплую каменную кладбищенскую ограду. Солнце приятно согревало его лицо. Он сдвинул шапку на затылок, прищурил глаза. Отсюда, с высоты, виднелись сельские домики пригорода, беспорядочно разбросанные вдоль тракта, а за ними — обширные поля, разделенные на черные и белые полосы, сверкающие лужами в бороздах, с нежными облачками молодой зелени на межах. Блестела петляющая река, уходящая к далекому холму с пучком куполов-луковок монастыря базильянцев. На горизонте виднелась черная полоса леса.
В нежной свежести этого первого весеннего дня было предвестие пасхи, и Михал думал о доме, пахнущем куличами, полном радушия и покоя.
Неподалеку, на штабеле досок, грелись львовяне из третьего расчета.
— Ты к кому пойдешь, Тадзик?
— Да все равно. К кому меньше очередь.
— Я к Пщулке, — сказал Гулевич.
— Пщулка — болван.
— Что ты от него хочешь? Мировой ксендзуля.
— Грех — это еще ничего, мои дорогие, — запел Матзнер, имитируя гнусавые дрожащие модуляции ксендза, — но не забывайте, дорогие, что при этом Можно схватить кое-что на всю жизнь.
Они засмеялись. Гулевич сверкал большими зубами, выпуклые голубые глаза его покрылись влагой. Он разбух от красок, как спелая слива. В самом центре его красных щек были бледные пятна, словно источники, излучающие здоровье и жизнь.
— Этот совет лишь для фраеров, — изрек он. — Надо знать, с кем получаешь удовольствие. Я, когда приезжаю в отпуск, иду к тете. Тетя — молодая соломенная вдова, пухленькая блондиночка. По квартире ходит в халатике, а под халатиком — ничего. В буфете всегда имеется вишневочка, модные пластиночки…
— Заткни ты свою поганую пасть, — буркнул Цвалина. — Перед самой-то исповедью!
Гулевич опять ощерил зубы.
— А чего тебе надо, браток? Именно перед исповедью — как рукой снимет.
Сидящий одиноко возле группы львовян подхорунжий повернул голову, и Михал только сейчас заметил Стефана. Он слегка улыбался своими ореховыми, немного раскосыми глазами, с выражением холодной снисходительной веселости. Заметив Михала, он по-приятельски поднес к козырьку палец. Встал, с вежливым поклоном обогнул сапоги Гулевича и подошел, протягивая руку.
— Привет, Михал.
Его приветствия всегда заключали в себе начало доверительной беседы. Даже о погоде он говорил, как о тонком и таинственном деле. Они завернули за кладбищенскую ограду, где никого не было.
— Надо будет обязательно посмотреть монастырь базильянцев, — сказал он. — Наверно, там есть прекрасные старые иконы.
— Я тоже об этом думал, — сказал Михал.
— Отлично. Если ничего не имеешь против, пойдем вместе.
Некоторое время они смотрели на медные луковицы, увенчанные золотыми искрами маленьких православных крестов.
— Ты идешь на исповедь? — спросил неожиданно Стефан.
Михал удивленно посмотрел на него.
— Почему ты спрашиваешь.
Стефан слегка, словно в рассеянности, пожал плечами.
— Да так. Потому что ты мне нравишься.
Михал посмотрел на далекие луга. Он чувствовал за этим вопросом десятки других, требующих ясного «да» или «нет». Он попал в ловушку.
— А ты? — спросил он.
Стефан отрицательно покачал головой.
— Почему?
— Пытаюсь быть честным.
— Ты неверующий?
Теперь глаза Стефана блуждали над блестевшей в весеннем солнце равниной. Он задумался.
— В том-то и дело, — сказал он наконец. — Что значит быть верующим? Если веришь в таинство, надо верить во все. Это логическое единство. Здесь нельзя притворяться. Ты понимаешь, что я имею в виду: «И то и другое беру под сомнение, но на всякий случай использую систему». В конце концов наступает момент, когда надо нести ответственность перед самим собой…
Михал молчал. Носком ботинка он рыл канавку во влажном гравии.
— Прости меня, что я об этом говорю… Михал очнулся.
— Ну, разумеется. Нужно. Эти вопросы всегда стыдливо обходят, как будто в них есть что-то неприличное.
— В конце концов они становятся неприличными, — сказал Стефан. — Как всякая механическая привычка. Почистить зубки, пописать, помолиться…
Со стороны штабеля досок донесся новый, быстро подавленный взрыв смеха.
— Это, наверно, одна из форм невинности, — сказал Стефан, поглядывая на львовян, — но тот, кто начинает думать, перестает быть невинным.
Двор наполнился радостным гомоном исповедавшихся. Запах нагретой земли смешивался с запахом сукна и начищенной ваксой кожи.
— Седьмая батаре-е-я!
Вслед за предупреждающим криком послышался топот торопливых шагов.
— Ну, пока. — Стефан протянул руку. — В монастырь соберемся как-нибудь в воскресенье после отпуска.
— Хорошо. Можно нанять лодку на пристани.
— Это идея.
Стефан небрежной походкой подошел к выстраивающейся колонне. Михал вернулся на свое место. Львовян на досках уже не было. Они вошли в костел. Толпа в дверях густела. Поодиночке протискивались из костела те, которым уже было дано отпущение. Михал расстегнул воротник, снял шапку и подставил лицо солнцу.
— Батарея, запевай! — крикнул старший унтер-офицер, когда из обсаженной липами аллеи они свернули на улицу.
Хлопцы, э-гей!
— грянула первая четверка.
Синеет моря даль,
И в мачтах ветер песню поет…
Шли молодые, затянутые в сукно, звеня шпорами. Шли полные веры в себя, полные надежды и любви к жизни.
Когда он последний раз видел Варшаву, все окна были заклеены крест-накрест полосками бумаги. Это должно было предохранить их от взрывной волны. Но тогда никто не верил во взрывы. Казалось, что окна весело подмигивали этими скрещенными белыми линиями. Дома выглядели нарядными. В новых кварталах бегонии, настурции и астры струились с балконов. Осенний конкурс цветов. Везде висели огромные плакаты: маршал Рыдз-Смиглый с протянутой булавой на фоне неба, полного самолетов. Люди толпились на тротуарах в радостном возбуждении. Они хотели показать, что ничего не боятся, и действительно ничего не боялись в этой толпе, под этим августовским солнцем, под гирляндами цветов, под окнами, изрезанными веселыми треугольниками. Такой он представлял себе Варшаву во время жарких маршей, во время боя на опушке затянутого дымом леса, среди плетней опустевших деревушек, черпая котелком воду для своего коня с илистого дна выпитых колодцев. Из земли выжали весь сок, высосали ее грудь. Осталась влажная зловонная грязь, и конь печально отворачивал дрожащие ноздри. Но воспоминание о Варшаве, живой, нарядной, бурлящей жизнью, как огромный источник, осталось неизменным.
Удивительно: и все-таки это была она. Слепая, темная, с окнами, забитыми фанерой, или зияющая чернотой пепелищ, без цветов, без радости, с пустыми балконами, прикрепленными к мертвым стенам, с серым холодным небом в рваных ранах стен, с могильными крестами, криво торчащими в снегу во дворах и скверах. Эти кресты сколачивали из старых гнилых досок, валявшихся в подвалах, из штакетника, из оконных рам. Веселые варшавские окна опустились на землю. Многие годы никто не подозревал, что их форма имела свое предназначение. Это было висевшее в пространстве кладбище, ожидающее своего часа.
Теперь этот час настал. И уже проходил. Проходил вместе с уходящим годом — правда, непохожим на другие, но уже прожитым, уже костенеющим среди могил и руин.
В другие времена в эти часы тротуары и мостовые были скользкими от огней. Люди толпились в магазинах, покупая пирожные и вино на рождество. На мужчинах белели шелковые шарфы. Продавщицы, нарезая тонкие розовые ломтики ветчины, ловили рассеянными взглядами отражения своих лиц в стеклах витрин, украдкой поправляя волосы. Все спешили. Уже можно было увидеть на улицах первые бальные платья, видневшиеся из-под меховых манто. Садясь в такси, женщины бережно подбирали их узкими руками в перчатках, в то время как мужчины с поклоном открывали дверцы.
На перекрестках даже в дождь или снежную метель стояли продавцы воздушных шаров. Огромные цветные гроздья колыхались, поскрипывая, над втянутыми в воротники головами.
Но это не могло длиться вечно. «Те года» прошли, и ничто уже не могло быть таким, как прежде. Вино, шары, бальные платья перестали существовать. И те люди тоже перестали существовать, даже если уцелели от бомб. Они носили теперь — неизвестно зачем — синие лыжные шапки и толстые ботинки, женщины же охотно надевали на голову шерстяные шлемы или пилотки, никогда не виданные раньше на улицах Варшавы. Прохожие, робко пробирающиеся вдоль стен, большей частью вообще не были похожи на городских жителей. Грубые крестьянские поддевки, куртки из военного сукна, бараньи воротники, шерстяные платки, сапоги.
Они тоже спешили. Как будто что-то искали. Иногда кто-нибудь из них держал под мышкой какой-то сверток или полбуханки хлеба. И тогда в его взгляде можно было заметить отблеск того прежнего, праздничного, полного надежды возбуждения, какое было написано когда-то на лице человека в белом шарфе, с бутылкой вина в руках.
Все было совсем иным, но не чужим. Как хорошо знакомое лицо, измененное болезнью. Измененное почти до неузнаваемости, но все же — и, может быть, тем более — близкое.
Было еще довольно светло. В другие времена в эту пору огни окон, огни фонарей и неоновых реклам ускоряли наступление ночи. Теперь желто-синие сумерки долго цеплялись за стены домов, за протоптанные в снегу среди развалин тропинки на больших пустынных улицах, с которых уже убрали горы щебня.
Чуждость кружила по этим пустым пространствам, не связанная с жизнью города. Серые автомашины победителей проносились по мостовым, с грохотом подскакивая на вырытых снарядами воронках. Иногда едущие на машинах солдаты — каска к каске, между колен винтовки — пели хором. И песня, скандируемая хриплыми голосами, смешанная с ревом мотора, прерываемая икотой встрясок на выбоинах мостовой, неслась без эха, до ужаса одинокая. Никто с тротуаров не оглядывался ей вслед. Редкие велосипедные тележки да крестьянские повозки на резиновых шинах — единственный транспорт побежденных — уступали ей дорогу. Город не принимал эти голоса. Его слух был настроен на иную волну. Он не обращал внимания и на плакаты, расклеенные на стенах.
Еще видимые в сгущающихся зимних сумерках, они изображали обтрепанного солдата с диким заросшим лицом, с безумным взглядом и ртом, перекошенным криком отчаяния. Окровавленная повязка поддерживала его правую руку, левая указывала на горящие руины, перевернутый поперек улицы трамвай, валявшиеся на мостовой трупы женщин и детей. «Англия — это дело твоих рук!» — взывал он черными, наклонными буквами.
Солдат был плохо загримированным провокатором. На нем была конфедератка, какой в польской армии не носили уже много лет. Его отчаяние было наигранным, его крик фальшивым. Даже руины и трупы лгали — больше чем несуществующие эскадрильи Рыдза-Смиглого. Те по крайней мере выражали подлинную волю к сопротивлению. Здесь все было наигранным. Лицемерно горькая картина поражения, нарисованная победителем, фальшивое обвинение, вложенное в уста побежденных, в уста, которые были лишены голоса.
Взгляд людей обходил эти афиши. Город не хотел отчаиваться. Он никого не обвинял. Тихий, сурово задумавшийся над своей судьбой, он был подлиннее, чем когда бы то ни было. Теперь в нем не было никакого притворства, никакого чванства. Его недавняя веселость была пустячной и внешней, его уверенность в себе — по-детски легкомысленной. По сути, ему всегда было известно, что никакой он не шампанский «Северный Париж», блестящий издали, завоевываемый во имя любви и обезоруживающий захватчиков своим бессмертным обаянием. У него были свои воспоминания. Не впервые заставляли его говорить чужим голосом, не впервые ослепляли. Его настоящую силу можно было постичь только через глубокие раны.
Теперь это чувствовалось. Эта неистребимая сила была опять обнажена. Среди опустошения, среди сплошной серости каждая деталь находила свое выражение, и не было ничего мелкого, тривиального, ни даже красивого или уродливого, потому что город погрузился в глубь предметов, достиг твердой почвы своего существа.
Гипсовые кариатиды, поддерживающие декадентские балконы над подъездами зданий, получили наконец героическое содержание, которое до этого было только позой. О их обнаженные груди разбивались настоящие шквалы, как о торсы фигур на бугшпритах старинных кораблей.
Они имели такое же право на уважений, как полуразрушенные башни костелов, как пробитые пулями памятники героям.
Символы вернули себе свое прежнее значение. Христос, согнувшийся под тяжестью каменного креста у входа в костел Святого Креста, говорил о подлинном страдании, и прохожие, снимающие перед ним шапки — эти дурацкие лыжные шапки, — преклонялись перед ним искренне, потому что формальные жесты, потому что привычки savoir-vivre [20] не имели уже применения.
Наверно, кто-нибудь из этих обшарпанных лыжников без лыж написал мелом рядом с одним из плакатов, на стене, побитой оспой выстрелов: «Мы войну выиграем». Без восклицательного знака, как будто сказал это вполголоса, сквозь стиснутые зубы.
Никто в этом не сомневался. Хотя никто также и не задумывался, как это должно произойти. Тот, кто писал мелом лозунг на стене, говорил «мы», так его и понимали. «Мы», то есть оборванные, голодные, безоружные люди, щелкающие зубами в холодных квартирах. Единственной логической посылкой было убеждение, что несправедливость не может удержаться. Верили странным расчетам. По рукам ходили истрепанные затертые листки с текстом, напечатанным на машинке. Это были копии коммюнике, опубликованного и подписанного неким майором Хубалой, который все еще не сложил оружия и якобы воевал где-то в Свентокшиских горах. С ним было несколько десятков человек — может быть, сорок, а может быть, пятьдесят. Они передвигались на лошадях по лесам и устраивали засады. «Вооруженная борьба продолжается», — писал майор Хубала в своем коммюнике. Это означало лишь одно: эти сорок кавалеристов выступили против десятков моторизованных дивизий, против тысяч орудий, танков и самолетов. Но, видимо, это означало еще нечто большее, потому что никто не пожимал плечами, читая это коммюнике, не смеялся, не плакал. Наоборот, говорили: «Мы не перестали сопротивляться» — и верили в победу.
В этот последний день года — года поражения — Михал видел Варшаву впервые за четыре месяца. Он приехал в грязном переполненном поезде, забитом чемоданами, в которых булькала водка. Он тоже привез две пол-литровые бутылки и сразу же продал их на вокзале какому-то заросшему типу в потрепанной кепке. Он продал водку в два раза дороже, чем за нее уплатил, но теперь это было в порядке вещей. Так делали все.
Потом Михал отнес по указанному адресу записку, написанную одним знакомым капитаном артиллерии, и навестил уцелевших родных и приятелей. Но самое главное — он ходил по городу, ходил до изнеможения, пока не заболели колени и не стали гореть ступни в тяжелых сапогах. Он смотрел на руины, на людей, вдыхал, впитывал, стараясь понять все, услышать сокровеннейший голос минуты, набраться сил у самого источника. Он знал, что спазм горла, с каким он осматривал картину опустошения, не имеет значения.
* * *
— Что ты собираешься делать? — спросил его Томаш.
Теперь все задавали этот вопрос. Было ясно, что надо за что-то приниматься, за что-то такое, чего человек до этого никогда не делал и что раньше вообще не пришло бы в голову.
Томаш, например, стеклил окна. У него была замазка в жестяной коробке, алмаз и деревянный ящик с оконным стеклом. Но этим он занимался временно. Кроме того, «делать что-то» не означало зарабатывать только на хлеб по карточкам.
У Михала было большое желание сказать приятелю, что этот вопрос для него уже решен, потому что до того, как они встретились с Томашем, записка капитана артиллерии возымела свое действие и на квартиру теток, у которых Михал остановился, пришел неизвестный мужчина в лыжной шапке, некий «Анджей» (как он представился), и между ними произошел разговор с глазу на глаз в неотапливаемой теперь гостиной. Но содержание разговора было строго секретным, поэтому Михал отвечал сейчас с уклончивой, хоть и многозначительной улыбкой, что «ведь война еще не кончилась». К тому же ему казалось, что на нем мундир, который каким-то образом освобождает его от повседневных забот. Этот невидимый мундир он надел во время разговора с Анджеем и с той минуты постоянно чувствовал его на себе.
— Не кончилась и скоро не кончится, — ответил Томаш деловым и, как обычно, ворчливым тоном.
— Ты действительно так думаешь? — спросил Михал. В его голосе звучал легкий упрек. Повсюду твердили, что война кончится весною, если не раньше.
— Действительно, — сказал Томаш.
Они разговаривали в небольшой комнатушке Томаша, окно которой выходило на заснеженный садик. Комната мало чем изменилась, разве что появилась трещина на потолке, идущая зигзагами, как молния. Комната по-прежнему напоминала «детскую», неприбранную, полную странных поломанных предметов — типичных «сокровищ», не представлявших для взрослых никакой ценности, но что-то в ней уже было от студенческой холостяцкой каморки: тахта, покрытая грубошерстным одеялом, пепельница, до краев наполненная окурками, и прогибающиеся под тяжестью книг полки. Книг стало даже больше, так как Томаш притащил снизу все, что было поинтересней, из остатков разграбленной библиотеки родителей.
В сгущающихся сумерках они едва различали свои лица, но свет не зажигали, потому что его не было. Теперь он был только в тех районах, в которых находились важные для немцев объекты.
— Ты должен переехать в Варшаву, — сказал Томаш. — Здесь скорее ты устроишься учиться.
Михал пожал плечами.
— Учиться будет время и потом.
Они замолчали. Томаш взял с белевшей на столе бумаги щепотку измельченных табачных листьев — их покупали у крестьян в подворотнях возле вокзалов, — набил трубку, раскурил ее усердным посасыванием. Потом вытер чубук рукавом и протянул трубку Михалу.
— Ты помнишь Флешара? — спросил Томаш. — Он писал стихи и учился в параллельном классе, одно время он ходил с нами.
— Помню. Такой высокий.
— Его убили на прошлой неделе, при попытке убежать в Венгрию. С ним было пятеро ребят из нашей школы. Всех убили.
— Это рискованно, — тихо ответил Михал. — Одним удается, другим нет.
— Всю зиму он мастерил лодку, — продолжал Томаш. — Хотел спуститься к Дунаю. Он любил одну девушку с нашей улицы. И писал по-настоящему хорошие стихи.
— Я думаю, что многие из тех, кто погиб, писали стихи, — сказал Михал.
Томаш протянул руку за трубкой.
— Зачем ты об этом говоришь? — сказал он. — Этим ничему не поможешь.
— А ты зачем сказал мне об этом? Хочешь меня напугать?
— Нет. Просто я все время об этом думаю. Я не очень хорошо его знал. Как остальных. Я часто видел его вечерами, когда он провожал эту девушку. Всегда, когда я смотрел на него, мне казалось, что я смотрю в будущее. Вернее, вижу перед собой прошлое великого поэта. Но от этого ничего уже не осталось. Лодка сгорела на пристани, а что случилось с девушкой — не знаю. Она с сентября не появляется.
— Я должен идти, — сказал Михал. — В госпитале у Моники устраивают какую-то вечеринку. Что-то вроде встречи Нового года. Она просила меня прийти.
Томаш не двинулся, он продолжал сидеть, о чем-то задумавшись.
— Мне кажется, — сказал он через некоторое время, — что их несбывшееся будущее легло на нас. Нужно что-то сделать, чтобы оно сбылось. Здесь, где оно остановилось. Мы должны учиться, любить, мужать…
«А не уловка ли это? — подумал Михал, но ничего не сказал; он слишком хорошо знал Томаша, чтобы подозревать его. — Разница в том, — подумал он, — что ты не был в армии, а я был». Но и этого он не сказал. Только опять почувствовал всем телом жестокость невидимого мундира.
Он встал и протянул Томашу руку.
— Ну, я должен идти. Будь здоров, Томаш!
* * *
Квартира теток состояла теперь из одной комнаты. В трех остальных, выходящих окнами «на улицу», стекол не было. Их по бедности заделали картоном и фанерой, поэтому там царил полумрак и пронизывающий холод. Несмотря на это, рояль блестел чернотой на своем обычном месте в опустевшей темной гостиной, бидермейеровские диванчики и креслица в ситцевых чехлах доверчиво ожидали лучших времен, а от пола шел знакомый с детства запах скипидара и воска. Запах безопасности, чистоты, запах мещанской удовлетворенности жизнью. Его не выдул сквозняк, проникающий сквозь щели, его не поглотил запах гари и зловония, идущий из лопнувших труб.
Маленькая комната с окнами во двор — единственная сейчас жилая — напоминала склад мебели. Две массивные красного дерева кровати теток, овальный стол на резных ножках, буфет, кушетка, кожаные кресла, горки, полные фарфоровых безделушек, полки с книгами, подставки для цветов в зеленых облаках вьющихся растений. А на ночь в этой тесноте ставили еще раскладушки для двоюродных сестер и где-то стелили — может быть, под столом — матрас для Моники, когда случалось, что ни у одной из них не было дежурства в госпитале.
— Тогда нам немного тесновато, — говорила тетка Гелена, — но я за то, чтобы быть всем вместе. Вместе веселее, а девчонки такие смешные. Как начнут сплетничать, шалить, мы прямо лопаемся со смеху, хоть времена как будто не очень-то веселые.
От одного воспоминания об этих «шалостях» ее темно-коричневые глаза светились нежностью, лицо становилось почти молодым. Вторая тетка, Рената (сколько же лет она стучала на машинке в разных учреждениях, ожидая «своего счастья», постепенно старея и толстея), тоже казалась моложе. В ее глазах тоже играли давно не загоравшиеся огоньки.
«Они счастливы, — удивился Михал. — Почему? Может быть, они и не знают об этом».
Траур первой и обманутые надежды второй, с которыми Михал уже давно свыкся, как если бы это были их природные черты, уже не имели над ними прежней власти. Запах дома теперь сосредоточился в этой свалке. Пахло не только скипидаром и воском, землей в цветочных горшках и пылью плюшевой обивки. Тут был еще аромат спрессованных воспоминаний — этот трудно уловимый запах, выделяемый альбомами с пожелтевшими, выцветшими фотографиями.
Время отступало, исчезая само в себе. Михалу казалось, что он находится в другой квартире — в обширной темной дедовской квартире, где во времена его детства стояла вся эта мебель, уже тогда полная воспоминаний, о которых он знал только по запаху. Какие-то таинственные поверил, сторож в тулупе, предостерегающе стучащий в двери, вечерние чтения «Дзядов» Адама Мицкевича, старые знакомые, приходящие побеседовать за самоваром, и среди них чудаковатый бородач (Михал представлял его себе так ясно, словно видел перед собой), режущий хлеб складным ножом, который он доставал из-за голенища по привычке, сохранившейся после Сибири.
Та Варшава — Варшава чужих воспоминаний — казалась ему полной таинственного очарования. Ребенком он часто жалел о том, что знал ее уже обычную, деловую и реальную, похожую на все другие города. Ему говорили, что он относится к счастливому поколению, потому что тогда было время скорби и гнета. Но в рассказах взрослых звучала нотка ностальгии.
Он внимательно наблюдал за двумя старыми женщинами, как они почти с радостным волнением суетились среди составленной мебели, готовя ему чай, доставая из разных тайников остатки каких-то скромных запасов. Они стали смелыми и легкомысленными, острыми на язык, как гимназистки. Было ясно, что их что-то перестало мучить, от чего-то они освободились — от какого-то принуждения, какой-то скуки, которая убивала в них вкус к жизни. Да. Это счастье свободы, о котором они так восторженно говорили молодым, для них было потеряно. Все самые прекрасные движения души они оставили там, в Варшаве воспоминаний. Может быть, теперь им казалось, что они возвращаются к ней, а может быть, она возвращалась к ним вместе с молодостью.
Моника прибежала из госпиталя незадолго до комендантского часа. Она была в ботах, ее пальто пропахло лизолом, на черных волосах таяла мелкая пыль инея.
— Я не могла раньше. Я репетировала. Идем. Мы еще успеем, но поторапливайся.
Тетки обнимали ее, целовали, с беспокойством глядя в глаза. Они не хотели ее отпускать, но не говорили этого. Они знали, что «этой малышкой» командовать уже нельзя.
Моника смеялась. Она даже не расстегнула пальто.
— Успеем, успеем, — защищалась она от нежностей теток. — Только пусть он не копается.
Они вышли, благословляемые крестным знамением тетки Гелены.
Было уже совсем темно. Люди на тротуарах горбились и торопливо перебирали ногами. Казалось, что они убегают от кого-то, каждую минуту ожидая удара. С угла доносился хриплый мужской голос, монотонно повторяющий какое-то объявление.
— На Прагу! На Прагу! На Прагу! [21] — услышали они, когда подошли поближе.
Там стояла длинная подвода на резиновых шинах — на таких огородники из пригородов Варшавы возили когда-то овощи на базар. Извозчик в тулупе до пят и бараньей шапке притоптывал тут же на тротуаре. Руки он всунул в рукава, а кнут держал, как ребенка. На подводе виднелось несколько сгорбленных фигур, сидящих неподвижно, в полных безразличия позах.
— Это не наш «автобус», — сказала Моника и опять засмеялась.
— Почему ты все время смеешься? — спросил Михал.
— Не знаю. В госпитале мы тоже смеемся. Вот увидишь. Будет весело.
Моника шла, наклонив голову. Он взял ее под руку. Его мучила мысль, что он уже не знает ее так хорошо, как раньше.
— Не думай, что это истерика, — сказала она через некоторое время. — Каждый человек пытается что-нибудь сделать, чтобы ему было легче. Ты только подумай: стольким людям хуже, чем нам.
Уцелевшие дома кончились. Теперь Михал и Моника шли по краю огромного поля руин и ветер бил сбоку, покалывая их холодными иголками.
— Ты помнишь, — говорила Моника, — я всегда не переносила вида крови. Я боялась войти в кухню, когда Вероника чистила рыбу. Вначале мне было очень трудно. Теперь я ассистирую во время операций. Когда город был осажден, приходилось ампутировать руки и ноги без наркоза…
Она опять засмеялась, как будто вспомнила что-то смешное. Это был смех ни горький, ни нервный. Он звучал так же по-девичьи, как когда-то, когда достаточно было показать ей палец, чтобы она рассмеялась.
— Ах, ты не знаешь, за несколько дней до капитуляции нам привезли целый транспорт евреев из разбомбленного дома на Новолипках или на Генсей. Видимо, они спали под перинами, потому что были все в перьях. Все в крови и в перьях. Нам пришлось ощипывать их, как цыплят. — Она потянула его за руку. — Идем быстрее.
На пересечении Маршалковской и Иерусалимских аллей стояли ряды подвод. Извозчики выкрикивали сквозь метель:
— На Волю, на Волю! На Жолибож! [22]
Вдалеке бежали опоздавшие пассажиры. Приближался комендантский час.
* * *
Госпиталь помещался в бывшем купеческом клубе. Когда-то это был небольшой дворец — один из варшавских особняков с неоклассическим фронтоном, отступившим в глубь двора, и флигелями, выдвинутыми к улице, как гостеприимно протянутые руки.
Пурга утихла. Над бело-черным, лишенным огней городом, среди чернильных облаков плыл большой месяц, холодный и прозрачный.
У одного из флигелей зияла дыра на крыше, но снег смягчал очертания пролома.
В стиле колонн у входа, в пропорциях окон было что-то такое, что Михал совсем не удивился бы, если б у ворот увидел часового времен Варшавского княжества в белых лосинах, черном колпаке и с портупеей. Но вместо него стояла серая массивная фигура в тупорылой, сплющенной с боков каске.
— Na, gut, gut, [23] — пробурчал часовой добродушно, когда Моника полезла в сумку за пропуском.
Между козырьком каски и кашне, которым были обмотаны его щеки, виднелись уставшие от всего чужого глаза.
В зале было тепло. Тяжелый больничный воздух казался неуместным здесь, среди этих темных деревянных панелей, среди причудливой резьбы дверных наличников.
По лестнице, идущей прямо от входа, сбегала Кася. На ней был накрахмаленный белый фартучек, завязанный высоко под шеей, и маленький чепчик с поперечной черной тесьмой. Все это представляло собой такое яркое зрелище, что Михал прищурил глаза. Когда-то он любил подшучивать над ее чересчур розовыми щечками, чересчур голубыми глазами, чересчур светлыми волосами.
«Девушка с вишневыми губами», идеал идиллических поэтов. Теперь она была сама чистота, само тепло жизни в этой безупречной упаковке, способной уберечь ее от всякой грязи этого мира.
— Ты еще никогда не была такой красивой, — сказал он.
Кася покраснела до самых бровей и быстро подставила ему щеку для поцелуя.
— Вас уже ждут. Идите в зал. Я сейчас приду.
Эти слова, быстрые, пугливые, были произнесены низким мальчишеским голосом, и Михал, едва коснувшись губами ее мягкой щеки, тоже смутился, словно эта братская фамильярность приобрела вдруг новый, неожиданный смысл.
— Эва сейчас занята, у нее обход, — добавила Кася, исчезая в одной из боковых дверей.
В зале — а это был настоящий клубный зал, а совсем не больничное помещение — с портретами каких-то напыщенных вельмож и огромной хрустальной люстрой, неуверенно свисающей с покрытого трещинами потолка, Моника оставила Михала на произвол судьбы, велев до этого пожать руки нескольким неизвестным особам. Ее сразу же увлекли куда-то под восклицания шутливого нетерпения.
— Все сама приготовила, — объяснил Михалу молодой, совершенно лысый врач в фартуке. — Сама песенки сочинила, сама куклами управляет.
Загородка стояла в глубине, между двумя колоннами, на фоне развешанных на веревке простынь. Для зрителей были поставлены стулья — разномастные, начиная со стильных кресел, оставшихся, видимо, еще от клубной мебели, и кончая кухонными лавками и табуретами.
Михал отошел к стене. Он не мог отважиться смешаться с этой толпой, которая вызывала в нем страх, и уважение, и какое-то недоверие.
Мундиры выздоравливающих — да, военные мундиры со знаками различия и наградами, словно какая-то невидимая стена охраняла здание госпиталя от законов действительности, — белые халаты санитарок и врачей, штатские костюмы, пижамы, пропитанные тошнотворным запахом медикаментов. Забинтованные головы, повязки, костыли. В центре первого ряда сидела дама в черном вечернем Платье. В ее тени увядал, небрежно опершись о спинку кресла, худощавый мужчина с гладко прилизанными прядями черных волос и тоненькими усиками. Он тоже был торжественно черен. Длинные ноги в блестящих лакированных туфлях он вытянул далеко вперед, но в этой его ленивой расслабленности была такая властность, как, впрочем, и в энергичной настороженности его спутницы. В зал входили все новые и новые люди. Михала оттеснили от стены к стульям. Кто-то коснулся его плеча.
— Садитесь, пожалуйста.
Кисть руки, показывающая ему на свободный табурет, росла как будто прямо из плеча, двигалась, как плавник, возле затянутой в зеленое сукно груди. Михал наклонился, чтобы сделать шаг, но тут же остановился. Из-под мышки офицера торчал кончик отполированного дерева, большим пальцем он придерживал костыль. Михал опустил взгляд. Пустая выглаженная штанина не доставала до земли, она была подвернута на высоте колена.
— Пожалуйста, садитесь, — сказал Михал поспешно.
— Ни в коем случае. Вы здесь гость.
— Но вы…
На них начали шикать, потому что из-за простынь раздались звуки фортепьяно. Это была коляда: «Три царя-рыцаря, куда вы спешите?»
Михал с благодарностью принял предложение. Он медленно поднял глаза, делая вид, что не заметил увечья.
— О, я прекрасно могу постоять. Мне так даже лучше.
— Мне тоже…
Опять раздалось шиканье. Занавес раздвинулся, и на сцене задергались три куколки в позолоченных коронах. Их приветствовали аплодисментами и смехом.
— Сядьте же наконец, — сказал раздраженный голос сзади. — Ничего не видно.
Михал умоляюще посмотрел на подпоручика. Кисть-плавник продолжала шевелиться в приглашающем жесте.
Куклы пели какие-то куплеты, но Михал, покорившийся и смущенный, ничего не понимал. Пригнувшись, задевая сидящих, добрался он до табурета. Сидевшая рядом женщина-врач повернула к нему голову. У нее были дивные пепельные волосы. Из-под широких черных бровей строго глядели синие глаза.
— Он все равно не сел бы, — сказала она. — Он может только лежать, да и то на левом боку.
Михал хотел поблагодарить ее за эти слова, но она с прежней суровостью смотрела уже на сцену.
Только теперь он заметил, что у одной из кукол пышный бюст и очки на носу, у другой приклеены к черепу редкие прядки и маленькие усики над губой, а у третьей, пузатой, в белом кителе, в руках вместо скипетра большой шприц. Итак, это был правящий госпиталем триумвират, но заключавшиеся в куплетах остроты и намеки, которые время от времени вызывали громкий смех в зрительном зале, ничего Михалу не говорили. Он смотрел, сконфуженный, остро чувствуя свое одиночество.
Сцену заполняли все новые фигурки. Они неуклюже подскакивали, пели и говорили, кувыркались и раскланивались. У некоторых были забинтованы головы, в гипсе руки или ноги, а у одной, с пышным чубом и круглым розовым лицом, был под мышкой костыль.
Михал посмотрел на подпоручика. Подпоручик смеялся вместе с другими. Какой-то стоящий возле него выздоравливающий добродушно похлопал его по плечу.
По странной ассоциации Михал вспомнил свою батарею на песчаной дюне возле леса. Небо, дрожащее от гула, как огромный раскаленный гонг, полосы порохового дыма, ползущие среди красных стволов сосен, и страх. Страх, который он почувствовал впервые именно тогда. Еще за минуту до этого он лежал в окопе вместе с тем самым парнем, бездыханное тело которого они несли сейчас втроем за руки и за ноги. Голова его свисала к земле, из открытого рта, сквозь пузыри липкой пены, пробивались глухие стоны, левая рука в окровавленных лохмотьях тащилась по песку, чертя на нем бессильной красной ладонью влажный след. Страх. Почему так случилось, что именно он лежал с той стороны? И Михал почувствовал не облегчение, а изумление перед необъяснимой слепотой судьбы.
Неужели сидящие в этом зале, глядя на свои смешные, очищенные от страданий миниатюрные подобия, уже все забыли? Неужели даже демонстрация их увечий не напоминает им о боли? Неужели их перестал мучить вопрос: почему именно я?
Под влиянием внезапного волнения Михал наклонился к печальной врачихе.
— Не нужно бы этого показывать, — шепнул он.
Врачиха посмотрела на него с удивлением. Подняла темные брови.
— Не понимаю. Что показывать?
— Ну… все их…
Он сделал жест, как будто бы заботливо бинтует левую руку.
Она некоторое время смотрела на него без всякого выражения, потом верхняя губа ее слегка приподнялась в каком-то подобии улыбки.
— Вам бы хотелось, чтобы в этом спектакле все было, как когда-то?
Михал вздрогнул, задетый ее иронией и тем, что он увидел на сцене.
— Никто не любит сострадания, — сказала она, уже не глядя на него.
На сцене куколки выстроились в ряд перед рампой и пели хором на мотив рождественского краковяка; прощаясь со старым годом, они перечисляли все его провинности и приветствовали новый словами, полными надежды. И вот новый год появился на сцене в солдатской шинели, с развевающимся бело-красным знаменем в руках.
Все аплодировали. Кричали: «Автора, автора!», «Сестру Монику!» Моника высунула из-за простынь раскрасневшееся, улыбающееся лицо. Мужчина в черном костюме из первого ряда подошел к ней, благосклонно протянув руку. Она подала ему из-за ширмы свою (Михал представил себе, как она с той стороны поднимается на цыпочки), что вызвало новый взрыв аплодисментов и смеха. Стуча костылем, кудрявый подпоручик пробирался к сцене. В другом конце зала, в дверях, Михал заметил Касю, уже без фартучка и чепца, а рядом с ней Эву, все еще в халате. Они с трудом несли бельевую корзину, полную перевязанных цветными ленточками кульков.
Михал поднялся, чтобы пропустить к выходу свою соседку. Проходя мимо, она с укором посмотрела ему в глаза.
— Вот видите, — сказала она.
Он задумался над смыслом этих слов и вдруг обнаружил, что остался один во внезапно опустевшем зале.
* * *
Они остановились на повороте холодного коридора.
Сквозняк ударил сверху, словно из высокого темного окна.
— Осторожно, — предупредила Эва и зажгла фонарь.
Лестничный марш обрывался в пустоте. Сверху свисали искаженные стальные прутья, ослепленные комьями бетона. Из пустоты наискось торчал фрагмент балюстрады, отбрасывая странные лучистые тени на осыпь щебня.
— Бомба? — спросил Михал.
— Да. Несмотря на знаки Красного Креста на крыше.
Он вспомнил, что ему рассказывали тетки.
— Ты ассистировала тогда во время операции?
Она засмеялась. В свете фонаря на мгновение показался ее бледный тонкий профиль со слегка приподнятой верхней губой.
— Да. Иди вдоль стены, а то можешь упасть.
Он поднялся на одну ступеньку и остановился.
— Как прошла операция?
— Хорошо. Больной умер неделю спустя, но не по этой причине. — Опять мимолетные, как будто непроизвольные нотки смеха в голосе. — Можно сказать, ему повезло.
— Ты имеешь в виду люстру?
— Да. Эта проклятая люстра. Тебе уже рассказывали?
— Тетки.
Он мог себе это представить. Должно быть, люстра была такая же, как в зале. Несколько сот килограммов хрусталя на жилах вырванного из стены кабеля. Потолок, свисающий, как вымя, с осыпающимися кусками штукатурки. И вся эта стеклянная масса, позвякивающая, раскачивающаяся над головой хирурга, над склоненными спинами санитарок, над кровавыми недрами вскрытой брюшной полости.
Эва поднялась наверх.
— Делают из этого бог знает что, — сказала она. — Просто я не могла подвести. Сам главный врач оперировал. Знаешь, тот толстый. Если бы ты слышал, как он бурчал из-под маски: «Сестра, тампон», «Сестра, пинцет».
На этот раз она засмеялась громким гортанным смехом. Снизу до них донеслись голоса Моники и Каси. Эва направила в коридор луч света. Они подняли головы — светлую и темную, и Михалу вдруг показалось, что все это происходит во сне. После вместе проведенного детства, после длинной полосы солнечных каникул — вдруг этот холодный мрак, эта разрушенная лестничная клетка и так хорошо знакомый, но неожиданно тревожащий своим истинным содержанием смех.
С висящей над бездной площадки в коридор верхнего этажа была переброшена доска с прибитыми поперек планками. Она прогибалась под ногами. От ее колебаний слегка замирало сердце.
Эва постучала в дверь, за которой были слышны голоса.
Им открыл доктор Новак, тот лысый, хотя еще молодой врач, с которым Михал познакомился внизу. Теперь он был в сером, как будто с чужого плеча, костюме и ярко-красном галстуке, тоже производившем впечатление чего-то случайного. Несмотря на то, что все они недавно виделись, доктор Новак приветствовал прибывших с чрезмерным радушием и извинялся за скромность, как он выражался, «храма», так как это была его служебная квартира. Может быть, он хотел таким способом обратить внимание гостей на необычную по тем временам пышность сервировки длинного стола, стоявшего посредине комнаты. Действительно, он и сам с удивлением смотрел на блюда с рыбным заливным и тонко нарезанной ветчиной, на пирамидки белого хлеба, на салатницы, полные салатов под майонезом, а также на многочисленные графины с наливками и бутылки вина.
В разрушенном городе, где для того, чтобы получить буханку хлеба, нужно было выстоять в длинной очереди, это богатство производило ошеломляющее впечатление и казалось чем-то почти греховным. Но Михал уже знал от Моники и двоюродных сестер, что встреча Нового года в тесном кругу госпитальной элиты носит в известном смысле характер прощального вечера перед передачей здания немцам и что поэтому пошли в ход все резервы некогда обильных, а теперь почти исчерпанных клубных запасов.
От затемненного окна отошли главный врач и худощавый мужчина в черном, сидевший в зале в первом ряду. Они мельком поздоровались с Михалом, почти не слушая объяснений Новака, целиком погруженные в обсуждавшиеся перед этим важные дела. Но тут же вернулись и остановились на полпути между дверями и столом.
— Протокол о передаче подпишу я, — говорил черный раздраженным тоном.
Главный врач смотрел на него с иронией, вертя большими пальцами сложенных на животе толстых красных рук.
— Но вы не отвечаете за диагнозы, барон. Если меня оставят здесь, а я думаю, что они сейчас не будут укомплектовывать госпиталь собственным персоналом, я смогу скрывать этих людей еще много недель. Вы ничем не рискуете. Вы отвечаете исключительно за персонал.
Лицо барона окаменело. Михал заметил, что Новак и девушки обменялись злорадными улыбками.
— Вы знаете, профессор, я не боюсь риска, — сказал барон сухо. — Я, кажется, дал тому доказательства. Что же касается ответственности…
Врач сокрушенно наклонил тяжелую седеющую голову.
— Простите, у меня не было этого в мыслях.
— Надеюсь. Но дело идет к тому, что они наверняка пришлют свою врачебную комиссию.
Толстый профессор фыркнул, как кот. В его глазах снова появились воинственные огоньки.
— Комиссия! Для этого имеется масса способов!
— Есть еще один вопрос… — Барон уставился в лицо врача неподвижным, полным торжественной серьезности взглядом. — Честь. Последние условия капитуляции подписаны.
Толстяк покраснел. Нахмурив кустистые брови, он быстро обернулся, и его суженные кошачьи глаза остановились на Михале.
— Вы брат Моники, не так ли?
Он не стал ждать поспешного подтверждения Михала.
— Каким образом вы освободились из плена? Ведь вы тоже там были.
— Я убежал из транспорта военнопленных, — сказал Михал.
Профессор драматическим жестом вытянул в сторону Михала палец.
— Вот! — воскликнул он, поворачиваясь к барону.
В дверь постучали. Входила большая компания новых гостей. Молодой, по-мальчишески вихрастый врач сопровождал красивую даму в очках. Он все еще держал в руке зажженный фонарь, хотя темные и опасные переходы были уже позади. За ними, наклонив стриженную под бобрик седую голову, словно боясь удариться о низкий дверной косяк, шел огромный полковник в мундире, с костлявым и вместе с тем обрюзгшим лицом, отмеченным синеватым шрамом, пересекающим всю левую щеку от виска до подбородка. Потом печальная соседка Михала по зрительному залу, в платье из блестящего черного бархата, и еще какие-то лица, преимущественно молодые, оживленные любопытством и возбуждением, будто статисты, оробевшие от присутствия на сцене великих актеров, но на самом деле знающие себе цену и лишь маскирующие жестами внимания свое убеждение, что будущее принадлежит им. В их улыбках, в их дружелюбных взглядах ощущалась доброжелательная, немного насмешливая снисходительность в адрес уже уходящих стариков.
Но старики не замечали этого. Профессор подлетел к полковнику, не разрешая ему даже совершить церемонию приветствия.
— Вы, как старейшина выздоравливающих офицеров, должны что-нибудь сказать.
— Простите, — прервала его дама в очках, отнимая от сердца сверкающую перстнями руку. — Время позднее, мои дорогие. Пан профессор, пан полковник, стол ждет.
— Дорогой, — обратилась она к барону, — займись гостями.
Она встала в конце стола, оперлась о него кончиками пальцев, выпрямилась и следила поверх очков холодным и нетерпеливым взглядом за суетой рассаживающихся гостей, которые наперебой уступали друг другу лучшие места, двигали стульями, в рассеянности садились и снова поспешно поднимались. Барон кружил за их спинами, шепча и выразительно жестикулируя, пока наконец ему не удалось установить порядок.
Запыхавшись, как гончая, он сел рядом со своей подругой. Та издала странный вибрирующий звук. Казалось, что она сейчас запоет колоратурой, но вместо этого дама перекрестилась медленным и широким жестом. Некоторое время она о чем-то сосредоточенно думала, сложив руки и опустив голову, и только ее продолговатые бриллиантовые серьги слегка покачивались над толстыми щеками. Потом она еще раз перекрестилась, на этот раз украдкой, едва заметно, у самой груди, и села.
Некоторые вслед за ней тоже перекрестились. Полковник, тупо уставившись на скатерть, казалось, не замечал всего этого. Его вывел из задумчивости скрип стульев и вздох облегчения, пронесшийся над столом. Он грузно сел, не поднимая головы. Михала стесняло его соседство. Слишком свежи были воспоминания о воинской дисциплине, вынуждавшие его внутренне вытягиваться по стойке «смирно». Он пробовал заговорить с сидевшей справа санитаркой, смуглой девушкой с большими темными глазами и щеками, покрытыми нежным пушком, но она была занята беседой с молодым вихрастым врачом. Моника и двоюродные сестры сидели далеко, в другом конце стола. Поэтому он ел молча — чужой, далекий от их дел и занятий, не понимая чувств окружающих его людей.
Тем временем профессор возвратился к прерванному разговору.
— Дорогой полковник, — заговорил он, склонившись над тарелкой. — Мы как раз обсуждали с нашим начальником вопрос о выздоравливающих офицерах. Это касается и вас. Со своей стороны, я готов сделать все, чтобы оставить вас в госпитале.
Полковник застыл, медленно двигая челюстями.
— Как долго? — спросил он деревянным голосом.
— Насколько будет возможно. Две недели, месяц…
— А что потом?
Профессор как-то странно презрительно фыркнул.
— За это время многое может измениться. Вы не слышали о вылазках французов на линии Мажино?
Полковник не ответил. Он взял в рот кусок ветчины и жевал, рассеянно блуждая взглядом по столу. Вдруг он поднял на врача бесцветные усталые глаза.
— Пусть каждый решает за себя, — сказал он. — К сожалению, у меня нет иллюзий. Я сдаюсь в плен.
Усилившийся шум заглушил его слова. Даже барон не расслышал их. Он с удивлением смотрел на рассерженное лицо профессора. Затем поднял бокал.
— За успехи наших союзников, — предложил он. Все сразу же наполнили рюмки. Михал исправно пил после каждого тоста. Еще не поборов робости, понимая, что он здесь лишний, Михал с возрастающей надеждой доверялся водке. На «молодежном» конце стола шум усиливался. Он ждал, когда его увлечет эта волна, и он был готов без сопротивления сдаться каждой улыбке, каждому приветливому слову. Печальная женщина-врач напротив него пила в полном молчании. Медленным движением она опрокидывала рюмку и, морща брови, выпивала все до последней капли с точностью автомата, делая вид, что не замечает, когда доктор Новак наливает ей следующую. Она просто брала рюмку, словно выполняла обязанность, не требующую внимания, не вызывающую ни досады, ни удовлетворения.
За весь вечер Михал не сказал ни слова. Несмотря на то что он не пропускал ни одного тоста, он все еще не мог преодолеть свою робость, как тяжесть неуклюже сшитой шинели, как парализующую тяжесть своих подкованных сапог. Когда девушка с черными глазами легко положила ему руку на плечо, Михал от неожиданности вздрогнул. Она понимающе улыбнулась и кончиками пальцев пододвинула к нему по скатерти маленький бумажный шарик.
— Вам письмецо, — сказала она, показывая взглядом на улыбающееся лицо Моники.
Не дожидаясь благодарности, она повернулась к соседу справа. Михал развернул под столом бумажную салфетку. На ней карандашом для бровей было написано: «Не пугайся. Старики после двенадцати уйдут».
Михалу стало приятно, как будто кто-то протянул ему дружескую руку. Подняв голову, он встретился глазами со взглядом полковника и устыдился своей улыбки (буквы у Моники были непослушные и по-детски круглые, как маленькие котята), но в серых глазах полковника он заметил какой-то ободряющий огонек.
— Да. Вы еще должны попытаться, — сказал полковник. — От нас уже мало проку. Мы проиграли.
Горячая волна залила щеки Михала. Он смял салфетку и разорвал ее на мелкие кусочки. Полковник не обратил на это внимания. Глядя куда-то вдаль, он говорил:
— Как же я могу решать за других? Каждый знает свои собственные силы. А честь? В этой войне нет чести. Действует только один принцип: или ты меня уничтожишь, или я тебя.
Теперь Михал понял, что слова полковника не имели ничего общего с письмом Моники. Полковник все еще думал над предложением главного врача.
— Пан полковник, вы принимали участие в обороне Варшавы? — спросил Михал, стараясь поддержать разговор.
— Нет. Я был в Модлине.
— А я в шестой дивизии.
Полковник кивнул головой и опустил веки, словно с горечью подтверждая известие о чьей-то смерти.
— У генерала Монда.
И опять печальный кивок.
— Мы капитулировали под Равой Русской.
— Да, да.
Полковник несколько раз качнул головой, медленно и сдержанно. Михалу показалось, что они стоят над свежевырытой могилой. Он замолчал.
Тем временем за столом вспыхнуло какое-то новое оживление. Все посматривали на часы. Кася встала со своего места и несмело приблизилась к главенствующей тройке, призываемая вежливыми жестами величественной дамы. (Да, это была, кажется, жена шефа, хотя выглядела старше его.)
— Сестра Катажина, — сказала дама, когда девушка остановилась перед ней в выжидательной позе. — Будьте добры отнести это часовому.
Она пододвинула блюдце, на котором стояла рюмка коньяку.
— Немец, хоть и немец, но тоже человек, — сказала она, обращаясь к профессору.
— И еще это, — добавил барон, кладя рядом с рюмкой пачку сигарет.
Вихрастый врач с шумом отодвинул кресло.
— Я вам посвечу.
Из открытых дверей пахнуло холодом и запахом разрушения.
Соседка Михала тихо рассмеялась.
— Стопку водки кучеру, — шепнула она.
Барон медленно поднялся. Черный, сгорбленный, водил он затуманенным взглядом по лицам.
— Мои дорогие, — начал он. — Никому не надо объяснять, в каких условиях мы провожаем старый год и встречаем новый. Я не буду употреблять слово «поражение»…
Откуда-то издалека, из глубины неизвестных коридоров, донеслось металлическое эхо боя часов. Медленные, размеренные звуки с трудом пробивались сквозь темные закоулки и стены, они звучали то громче, то тише, заблудившиеся, полные усталости и отчаяния. Михал пробовал сосчитать удары. Слово «поражение» назойливо звучало у него в ушах.
— Мы не можем примириться с ним, — продолжал оратор. — Наш лозунг — надежда. Мы сделали все, что от нас зависело. Мы уходим с чистой совестью и не боимся новых обязанностей.
Часы все еще били, а может быть, Михалу только казалось, что он их слышит.
Барон говорил что-то о чести, благодарил собравшихся за достойное поведение перед лицом «жестоких противоречий».
— Мы имеем право встретить Новый год с верой. Я не сомневаюсь, что он принесет нам удовлетворение, что наши жертвы не будут напрасными…
Где-то рядом раздался винтовочный выстрел. Все повернулись к окнам. Барон стоял выпрямившись, с бокалом в поднятой руке.
Потом второй и третий, уже дальше, а затем торопливая пулеметная очередь.
— За победу, — произнес барон торжественным голосом, как бы призывая слушателей к порядку.
Тост был принят рассеянно. За окнами усиливался грохот беспорядочной канонады. К грому выстрелов примешивались обрывки каких-то выкриков и пения. У края черных штор поминутно вздрагивали спазматические вспышки.
Доктор Новак подбежал к двери и погасил свет. Кто-то раздвинул затемнение. В небе пульсировало розовое зарево. Вдруг внезапная синяя судорога прошла по горизонту и комнату наполнил холодный свет.
Михал увидел заснеженный двор и заснеженную крышу противоположного крыла здания в дьявольском свечении горящей серы, увидел согнутый фонарный столб на повороте улицы и выщербленный угол разрушенного дома. Ему показалось, что он разглядел идущие до горизонта развалины умирающего города. И в этот короткий миг, пока не погас свет ракеты, он сопоставил свою силу, свою детскую надежду с безмерностью мертвой пустыни. Он не смог бы этого выразить. Все, что он знал до этого, перестало существовать. Он стоял на пороге мира, враждебное равнодушие и жестокость которого выходили за рамки человеческого воображения. Он забыл о своем «невидимом мундире», о приключениях, предвкушением которых он внутренне наслаждался, о гордости солдата, готового сражаться даже без оружия. В нем осталась только беспомощная слабость.
— Свет, — сказал кто-то хриплым голосом. Захрустел картон затемнения. Когда свет снова зажегся, все еще стояли вокруг стола, растерянно мигая, с пустыми рюмками в руках. И тут неожиданно зазвучал дрожащий старческий баритон профессора:
Не погибла наша Польша…
Спустя мгновение гимн подхватили с удивлением и даже с каким-то смущением. Но вот уже его поддержал доктор Новак смелым звонким тенором, вот отозвался взволнованный хор женщин.
Михал не слышал собственного голоса, до глубины души потрясенный этими словами — как будто бы впервые открывая их содержание. Так было и так есть. Существовал ли на свете другой народ, который сумел выразить в песне свою судьбу с такой правдивостью и смелостью одновременно?
Михал выпрямился в приливе возвращающейся гордости. Украдкой он посмотрел на полковника. Старый офицер низко опустил голову. В уголках его сжатых губ притаилась нервная, а может быть, сердитая твердая складка.
* * *
В большой комнате теперь горела только настольная лампа, она стояла на книжной полке у окна. Было темно и душно. Пригашенный золотистый свет казался туманом, насыщенным парами алкоголя, духов и пота, почти жидкой средой, в которой тела легко общались между собой даже на расстоянии. Шарканье танцующих пар заглушало звуки охрипшего от старости патефона.
Верхний свет горел только в спальне доктора Новака, куда был перенесен стол с остатками еды и уцелевшими еще бутылками вина. Он выглядел странно на фоне белой ширмы, закрывавшей кровать хозяина, среди белых госпитальных столиков и застекленных шкафчиков с хирургическими инструментами.
Старшие, согласно предсказанию Моники, ушли сразу же после двенадцати. Когда все бросились передвигать мебель, щепетильная Кася выразила сомнение, прилично ли танцевать в такую минуту. Со всех сторон раздались крики, но окончательно вопрос решила печальная женщина-врач.
— Что, доставить немцам еще и эту радость? Тосковать из-за них? — Она сказала это сердито, без улыбки.
Теперь она сидела в кресле с рюмкой в руке, погруженная в свои невеселые мысли. Зато Кася уже танцевала в объятиях вихрастого врача, отводя раскрасневшееся лицо от его настойчивого шепота. От Моники не отходил высокий кудрявый студент-медик с ястребиным профилем и дерзким ртом. За несколько минут до этого Михал выпил с ним на брудершафт, но никак не мог вспомнить его имени.
Ему трудно было сосредоточить на чем-нибудь внимание. Одни лица казались ему совершенно незнакомыми, другие полумрак изменил до такой степени, что их знакомые черты казались ему туманными воспоминаниями детства. «Я немного пьян», — думал он и кротко улыбался. Прислонившись к стене в самом темном углу за дверями, он предавался внутренней игре противоречивых искушений, из которых ни одно не сумело овладеть им.
Михалу хотелось подойти к печальной женщине и что-нибудь сказать, чтобы вызвать улыбку на ее лице. В то же время ему хотелось сесть на тахту рядом с весело болтающими девушками. Но его не меньше привлекала и небольшая светлая комната, в которой — ему было это видно со своего места — доктор Новак разговаривал о чем-то с Эвой. Они сидели за столом по обе стороны от угла; лысая голова врача время от времени наклонялась, как бы бросая слова в атаку, а его руки с длинными пальцами порхали вокруг нее, как бледные бабочки. Эва курила, откинувшись на спинку стула; она выпускала дым через узкие ноздри. Ее выгнутая, как у лебедя, шея пульсировала от смеха.
«Он ее покорит, — подумал Михал. — Они будут спать вместе, и у них будут дети. А потом состарятся, и все станет только воспоминанием». В нем проснулась ревность. Ему стало жаль Эву, жаль Монику и Касю, которые будто бы уплывали от него, подхваченные быстрым течением. Но внезапно он вспомнил о странном, остывшем мире за окнами, и его жалость повисла в пространстве. Ни в чем не было уверенности, ничего не было известно. Каким законам подчинится жизнь? И будет ли время так же, как раньше, течь в этой холодной пустыне?
Эта мысль, вместо того чтобы испугать, как тогда, когда он увидел свет ракеты, вызвала в его груди трепет надежды. Все может сложиться иначе. Даже довлеющая необходимость может измениться. Он представил себе засыпанные снегом заросли на границе — лесные овраги с россыпью звезд среди затвердевшей от мороза чащи и не заметил, когда кончилась пластинка.
— Почему ты не танцуешь? — спросила Моника.
Михал искал объяснения.
— В этих солдатских сапогах? — буркнул он.
Она подтолкнула его к тахте.
— Пригласи Басю. Посмотри, какая она красивая.
Это была та девушка со сросшимися бровями, с нежным пушком на лице — его соседка по столу. Она сидела с краю. Из-под юбки были видны круглые, волнующе круглые колени.
— Красивая, — подтвердил он.
Патефон опять играл какое-то танго.
— Барбара, — сказала Моника, — мой брат хочет пригласить тебя на танец, только боится.
— Неправда! — крикнул Михал, уже обнимая руками плечи девушки. — Совсем не боюсь. Ничего не боюсь.
Она прижалась к нему. Он почувствовал на своем лице ее мягкие волосы.
— Кроме женщин, — сказала она.
Михал посмотрел на нее. У Барбары были ровные крепкие зубы, а чуть пониже правого уголка рта — веселая ямочка на щеке. На мгновение у Михала остановилось дыхание. Он чувствовал, как ее тепло проникает в него, идет по рукам к сердцу. Она говорила правду. Он должен был теперь обратить все в шутку, дать как-то понять, что интересуется ею и что готов пойти на все, чтобы приобщиться к ее радости и красоте. Вместо этого он опустил глаза, споткнулся, наступил тяжелым сапогом на кончик ее туфли и весь красный от смущения, несчастный стал рассказывать о битве под Александровой, с первого слова чувствуя, что это не вызывает у нее ни малейшего интереса.
— Наша шестая дивизия — бормотал он. — Мы из шестой дивизии…
Взгляд девушки блуждал где-то, рассеянный, ее тело, в первый момент такое податливое, стало холодным и недоверчивым. Он знал, что она с нетерпением ждет окончания танца.
— Извините, пожалуйста, — сказал он. — Разучился. И еще эти проклятые сапоги…
Кончиками пальцев она слегка сжала его руку и засмеялась.
— Вы еще очень молоды, — сказала она, не то с сочувствием, не то с осуждением.
Они остановились у двери в маленькую комнату.
— Выпьем? — предложил он.
Она кивнула головой, но в это время перед ними вырос кудрявый студент-медик.
— Разрешите? — И не ожидая ответа, поклонился Барбаре.
Они уже ускользали в радостном бегстве. Студент небрежно раскачивал бедрами, крепко прижимая к себе партнершу; он беспрерывно о чем-то говорил, время от времени поблескивая зубами в узкой, жестокой улыбке. Он был красивым хищником, уносящим добычу.
Михал вдруг увидел себя их глазами. Он выпил в одиночестве две рюмки горькой, как хинин, наливки. Зачем он плел эту чепуху? Война вовсе не была увлекательным приключением. Она была сплошной мукой и горечью. В нем не осталось ни следа воинственного пыла. Единственная картина, которая все время к нему возвращалась, — это бесконечный марш по песчаной равнине в неподвижной жаре, в удушливой туче пыли, по краю вздрагивающего вала черного дыма над горящими лесами.
Михал снова потянулся за графином, но задержал руку на его холодном горлышке.
— Нет, — сказал он громко.
Потом повернулся и неожиданно решительным шагом вышел в другую комнату. Все плыло у него перед глазами: танцующие пары, фигуры, примостившиеся на тахте, даже мебель.
Печальная женщина-врач по-прежнему сидела в своем кресле, но уже в окружении нескольких человек. Ее лицо успокоилось и оживилось, на нем блуждала едва уловимая тень улыбки. Она о чем-то говорила, но Михал не слышал ее голоса.
Он подошел к ней все с той же решительностью и низко поклонился.
Она удивленно посмотрела на него и отрицательно покачала головой.
Все вокруг замолчали.
— Не отказывайте мне, — сказал он. — Я очень вас прошу.
— Но я ведь не танцую, — сказала она таким тоном, словно напоминала ему о раз навсегда установленной и очевидной истине.
Он не хотел уступать.
— Сделайте, пожалуйста, исключение для солдата.
Кто-то дернул его за локоть. Это была Кася. Она подняла вверх левую руку, готовую лечь на его плечо.
— Потанцуй со мной.
Когда они оказались в центре комнаты, она приблизила губы к его уху.
— Ты что, не видишь, что она в трауре. У нее погиб муж в сентябре.
Михал пришел в себя.
— Боже, какой я идиот!
Она попробовала его успокоить.
— Ничего не случилось. В конце концов, почему ты должен об этом знать?
Но вдруг Михал расклеился.
— Скажи мне, Кася, почему так получается? Что ни скажу, что ни сделаю, каждый раз попадаю пальцем в небо. Я весь — сплошные солдатские сапоги. Я так хочу, чтобы все было иначе.
Она нежно погладила его по плечу.
— Не преувеличивай. Ты хороший, только слишком много выпил.
— Нет, Кася. Я трезвый. Но у меня ничего не получается. Не могу. Ты знаешь, мне ужасно нравится та черненькая сестра, та…
— Бася? Бася — высший класс.
— Чудесная! — воскликнул он горячо. — Ну и что? Нагнал на нее тоску во время танца, наступил ей на ногу, и она от меня убежала.
— А ты сказал ей, что она тебе нравится?
Он отрицательно покачал головой.
Кася прыснула от смеха. Ее веселость была лишена иронии и была красноречивым подтверждением того, что мир не такой уж сложный и враждебный, как кажется.
— Ты думаешь, я могу еще попытаться? — спросил он с надеждой.
— А ты еще и не пытался.
Приободренный, Михал склонен был теперь более снисходительно взглянуть на себя. Но он не сразу решился снова пригласить Барбару танцевать. Он давал опередить себя и в глубине души чувствовал облегчение, когда чье-нибудь более быстрое решение перечеркивало его колебания. Он еще несколько раз ходил в маленькую комнату выпить рюмочку в случайной компании. Ему казалось, что водка перестала на него действовать.
Только когда он заметил, что шум затихает и многие уже ушли, его охватило нервное беспокойство.
Он нашел Барбару у окна, она разговаривала с Эвой и доктором Новаком. В руках у нее был стакан чаю, который она время от времени медленно подносила к губам и делала маленький глоток. Она явно отдыхала, уже насладившись весельем, успокоившись, охотно покоряясь приливу приближающейся усталости.
Когда он поклонился, она украдкой посмотрела на часы. Ну да. Все начиналось совершенно иначе, чем он себе представлял. Она приняла его приглашение только потому, что прочла в его глазах обиду, страх перед унижением. Он понял это. Он чувствовал это по тому, как старательно ласковы были ее улыбки, по той рассеянности, с которой она отдалась ритму. Но Михал решил бороться. С трудом изобразил он на лице бездумное веселье, пробовал свободно покачивать бедрами. Но слова, которые он должен был произнести, упорно застревали в горле. За спиной у них открывали и закрывали двери, из углов веяло тягостным ожиданием, точно в воздухе висел какой-то огромный зевок.
Михал в отчаянье проглотил слюну.
— Панна Барбара, — сказал он, — вы восхитительны.
Он сразу понял, что не вышло. Услышал это по звуку своего голоса. Он должен был сказать это легко, задиристо, с жестом завоевателя, а у него получилось как просьба. В благодарность за комплимент она слегка сжала его пальцы, но в этом не было никакого тепла.
— Знаете ли вы, что это для меня значит? — впадал он все больше в тон лирической исповеди, хотя прекрасно понимал, что это худший из возможных путей. — Знаете ли вы?
Опять хлопнула дверь. Вокруг суетились, шептались, может быть, выносили или вносили какую-то мебель. Михал не обращал на это внимания.
— Именно сейчас… — продолжал он, — встретить вдруг вас, такое чудо очарования. Теперь, когда я прощаюсь со страной. (Господи! Что я мелю? Это невозможно!) Когда я через несколько дней перейду границу…
Внезапно она отстранила его от себя. Михал заметил, что Барбара не слушает. Расширенными глазами она смотрела куда-то поверх его плеча.
— Боже мой! — воскликнула она.
Михал обернулся. Четыре склоненные фигуры хлопотали над чем-то. Лысина доктора Новака была красной, черные вьющиеся волосы студента-медика ниспадали на блестевший от пота лоб. Из другой комнаты бежала Кася с полотенцем в руках.
— Доктор Богачевская, — шепнула Бася, прикладывая беспомощным движением руку ко рту.
— Кто? Что случилось?
Она убежала, не обратив внимания на его вопрос.
Теперь Михал увидел между сгорбленными спинами мужчин бессильно свисающую женскую голову, необычайно бледные щеки, разбросанные волосы удивительного пепельного цвета. Печальную женщину внесли в спальню Новака, кто-то поддерживал пошатнувшуюся белую ширму. Сквозь приглушенный шепот Михал услышал не то стон, не то вздох — звук неосознанной боли, который иногда вырывается из глубины горячечного сна. В большой комнате трепетал пьяный женский смех. Какая-то пара все еще танцевала под звуки старинного фокстрота «Если тетку встретишь ты».
Михал стоял возле стола, заставленного остатками еды, грязными рюмками и стаканами. Он вошел сюда, следуя за Барбарой, и сейчас ждал, когда она выйдет из-за ширмы. Их танец был прерван, но он не терял надежды, что они продолжат его, когда уложат эту бедную Богачевскую на кровать. Наверно, выпила слишком много, а может быть, споткнулась, вывихнула ногу. Михал поискал взглядом Монику, но ее нигде не было. Он смутно помнил, что она уже давно ушла, что она говорила о каком-то дежурстве.
Там, за экраном из белого ситца, царила тишина — такая зловещая, точно через минуту должно было что-то произойти. Внезапно в уши Михала, наполненные глупой мелодией, в его смутные разбредающиеся мысли вонзился, как раскаленное острие, короткий рыдающий вопль. Михал сжал пальцами край стола. Что ей сделали? И одновременно послышался спокойный, рассудительный голос Новака.
— Да. Позвоночник.
А вслед за ним голос Эвы, полный сдерживаемого негодования:
— Сколько раз говорили, что надо огородить лестницу!
Кто-то тронул Михала за плечо.
— Что случилось?
В спальню вошли несколько человек, отодвигая с дороги стулья.
Из-за ширмы показался Новак, без пиджака, с расстегнутым воротом, со сдвинутым набок красным галстуком.
— Попрошу всех выйти, — сказал он. — Выйдите отсюда. Ничего особенного. Обычный несчастный случай.
В противоположном углу, над раковиной, зашумела вода. Барбара мыла руки. Склоненное сосредоточенное лицо, насупленные брови. Он понял, что не имеет права ждать ее взгляда.
Михал вышел вместе с другими. За ними закрыли дверь. Все в нерешительности стояли посреди темной комнаты, в чаду холодного табачного дыма. С угасающей пластинки блеял тягучий, но не лишенный элементов гаерского юмора голос певца: «Если тетку встретишь ты, поклонись ты ей…»
* * *
Кровать, на которую ему указали, стояла возле дверей, у короткой стены длинного зала.
— Только что освободилась, — сказала Эва.
Под потолком горели два молочно-белых шара. В их белом свете тяжелое дыхание больных, вздохи и бессвязное бормотание казались притворными.
Некоторое время Михал сидел на краю матраса, не раздеваясь, опершись головой на руки, и ждал, когда кто-нибудь погасит свет. Но дежурная сестра в противоположном конце зала разложила на маленьком столике какие-то бумаги и не спеша линовала их, педантично прикладывая угольник. Она подняла голову только раз, когда Эва и студент-медик привели его сюда. С этого момента он видел лишь склоненную белую шапочку и руки, занятые работой, которая в три часа утра, среди не прикрытого мраком сна, казалась бессмысленной.
В конце концов Михал понял, что такова здесь ночь и он должен с этим смириться, но тяжелый запах лекарств, гноя и пота совершенно обессилил его, и так уже ослабленного алкоголем. Он клевал носом, чувствуя, что заснет сидя.
Больной на соседней кровати время от времени стонал, то громче, то тише, с монотонной регулярностью. Голова его была прикрыта одеялом, наверно, он задыхался во сне.
«Ты страдаешь от боли, — думал Михал. — А я только пьян. Со мной ничего не случилось. Но это еще не конец, братец. Черт его знает! Может быть, как раз ты останешься в живых, а не я…» Мысли его текли лениво — алкогольная риторика, имевшая подобие глубокой задумчивости, без всякой эмоциональной окраски. Эдакое покачивание на волне.
Он с трудом нагнулся и непослушными пальцами принялся расшнуровывать ботинки.
Человек под одеялом на минуту замолчал, видимо собираясь с силами, потому что вдруг застонал еще громче, с тяжелым, скорбным придыханием.
— Вот курва! — сказал он.
Михал выпустил из рук шнурки, не зная, открыть ли ему лицо больного.
— Вот курва! — стонал раненый и несколько раз мотнул головой под одеялом. — О, господи!
Эти слова были только жалобой. В них не было ничего, кроме беспомощности и боли!
— Может быть, вам что-нибудь надо? — спросил Михал, наклоняя голову над серым мешком, перекатывающимся по подушке то в одну, то в другую сторону.
— О, господи! — вздохнул раненый.
Наконец он успокоился. Казалось, что он к чему-то прислушивается. От его постели исходил тошнотворный, удушливый запах. Пряди липких темных волос разметались на влажной подушке.
«Может быть, ему стало легче? — думал Михал с трусливой надеждой. — Может быть, он заснул».
Но край одеяла коробился и дрожал. Из-под него высунулись серые костлявые пальцы. Они, дрожа, по-паучьи пошарили по краю одеяла и потянули его вниз. Теперь Михал оказался лицом к лицу с раненым. Желтоватые виски, вылепленные с ужасной точностью, твердые и ломкие, как яичная скорлупа, нос, обтянутый тонкой, почти прозрачной кожей, и неразличимые под землистой щетиной щеки цвета высохшего ила. В тени глубоких впадин блестели глаза неизвестного цвета и формы — просто искры темного огня. Они встретились со взглядом Михала и остановились на спинке кровати. Михал обернулся. В ту же минуту его обдало горячим смрадом выдоха.
— Юзек… — прохрипел раненый, — так давит… под коленом. — Некоторое время он сопел. — Так жмет!
— Я позову сестру, — предложил Михал. Голова в отчаянии заметалась по подушке.
— Юзек, ради бога… ослабь.
— Хорошо, сейчас. Скажу сестре…
— Юзек!
Михал остановился. Он был уже в конце прохода между койками. Ему был виден торчащий над постелью острый щетинистый подбородок, странно трясущийся в такт прерывистым жалобным звукам.
Михал в нерешительности склонился к ногам больного и вдруг почувствовал слабость в руках. От бедер одеяло лежало прямо на матрасе.
Михал выбежал на середину зала. Волоча шнурки по полу, он шёл, бежал к столику в глубине.
Дежурная сестра перестала линовать бумагу. Она ждала его, вопросительно подняв маленькое бледное лицо, маленький тонкий нос, маленькие голубые глаза за толстыми стеклами очков. Он остановился, осаженный на месте ее недоброжелательным спокойствием.
— Сестра, там раненый, на предпоследней кровати…
— Сержант Скупень, — поправила она сухо.
— Сестра, ему надо помочь…
Ее лицо приняло выражение холодной рассеянности.
— Что случилось? — спросила она без интереса.
— Он плачет, сестра…
— Сестра, судно, — раздался где-то близко заспанный, капризный голос.
Она поднялась, шелестя крахмальным фартуком, блеснув стеклами очков. Ее руки, словно подчиняясь внутреннему чувству дисциплины, четко и деловито двигаясь, прибирали на столике. Положили карандаш в центр бумажного листа, передвинули на несколько сантиметров пузырек с каким-то лекарством, футляр от термометра выравняли с краем металлической коробочки для шприца.
— Он жалуется на боль в колене, — продолжал Михал. — А ведь…
— Да, — прервала она его коротким кивком головы. Ей не надо было объяснять слишком хорошо известные вещи.
— И все время звал какого-то Юзека.
— Да.
— Сестра, судно!
— Иду, иду, — ответила она. А Михалу: — Ложитесь, Я сейчас туда подойду.
Он раздевался, уже не обращая внимания на свет, повернувшись спиной к тихо стонущему соседу, внутренне сжавшись в тревожном ожидании новых просьб. Но сержант Скупень ничего не говорил. Он стонал, по временам всхрапывал, иногда его голова подпрыгивала, как агонизирующая рыба.
Михал проскользнул под шершавую простыню, как в надежное укрытие. Он лежал притаившись, с закрытыми глазами. В другом конце зала шлепали туфли дежурной сестры, звякнуло поставленное судно.
«Иди, — звал он ее мысленно. — Иди, сделай ему укол. Слышишь? Он все время стонет. Сейчас начнет говорить».
Пытаясь уснуть, Михал ловил открытым ртом затхлый воздух и крепко сжимал веки, но не мог выключить чуткого, вспугнутого слуха.
Наконец идет. Нет — разговаривает с кем-то, что-то приказывает, о чем-то спрашивает. А этот опять стонет. Колена нет. Осталась одна боль. Где? Боль-привидение. И все-таки настоящая. Ну вот, наконец идет. Спасение, покой. Снимет боль, вместе со зловонными бинтами. Может быть, еще можно что-нибудь сделать. Кажется, имеются такие протезы на пружинках, которые сами сгибаются. Можно ходить, можно класть ногу на ногу. И кто не знает, тот даже не заметит. Разве что по скрипу. Скрипят. Скрипит пол. Пришла.
Михал очнулся. Сестра стояла у изголовья сержанта Скупеня. Большим пальцем правой руки она измеряла пульс на похудевшем запястье, левую осторожно положила на лоб раненого. Голова у нее была высоко поднята, глаза под стеклами очков прищурены. Больной перестал стонать и метаться. Его грудь ритмично поднималась под одеялом, искры темного огня погасли на дне глубоких впадин.
С этой картиной в глазах Михал, успокоенный, повернулся на другой бок.
Должно быть, он спал. Он не знал наверное. Беспрестанно кто-то обращался к нему. Кто-то называл его Юзеком. Тетки объясняли ему, что это его имя по прадеду-повстанцу и поэтому в целях безопасности его никогда не называли. Сестра Барбара укоризненно хмурила свои черные брови. «Вы наступаете мне на ноги, пан Юзек. Мне больно». Напрасно он отрицал это, призывал в свидетели Томаша. Но тот только улыбался, таинственно и иронически. А потом он тоже открыл рот и громко, быстро сказал: «Юзек!»
Видимо, Михал опять повернулся на правый бок, потому что, когда он открыл глаза, перед ним было лицо сержанта Скупеня. На покрытом неопрятной щетиной лице шевелились голубоватые губы.
— Юзек, не оставляй меня, курва. Я боюсь, Юзек.
Михал попробовал улыбнуться.
— Не бойся, брат. Я с тобой.
Теперь раненый смотрел прямо на него, не ища никого за ним. Но Михал знал, что его горящие глаза видят в нем кого-то другого.
Раненый подвинул голову к краю подушки.
— Слушай, — шепнул он. — Скажи… что будет… — он глубоко вздохнул, — потом?..
Под темным навесом бровей тлело полное напряжения ожидание.
— Все будет хорошо, — ответил Михал. — Немцы войну проиграют.
Сержант упал навзничь со вздохом горькой досады. Он громко глотал слюну. Выступающий кадык с трудом двигался вверх и вниз.
— Что… потом? — прорыдал он через минуту. — Что… там?
Михал беспомощно последовал глазами за его взглядом, направленным в потолок.
— Увидишь, все будет хорошо, — повторил он.
Уже произнося эти слова, он чувствовал, что уклоняется от какой-то очень важной обязанности, от тяжести сверх своих сил. «Чего, собственно, он от меня хочет? — думал Михал с раздражением. — Я не Юзек. Я не знаю». Но он знал, что это безразлично, кто он. Брат — так он сказал ему только что. Брат.
Теперь раненый что-то невнятно бормотал про себя. Можно было разобрать только отдельные слова.
— Столько лет… не думал. Ох, боже! Столько лет…
Михал наклонился к нему со своей кровати.
— Слушай, не терзайся этим, — произнес он. — Ты должен отдохнуть. Спи.
Сержант умолк, подтянулся на локтях, медленно повернул голову. Со страхом смотрел он на Михала, потом вдруг неожиданно громко крикнул:
— Нет! — и обессиленный упал на подушку.
Больше они уже не разговаривали, и вскоре Михал снова заснул.
В следующий раз Михал проснулся от ощущения того, что рядом кто-то ходит. Он открыл глаза и увидел матовый свет ламп, такой неестественный среди ночи, что в первый момент ему было трудно сориентироваться во времени.
У кровати сержанта стояли три белые фигуры. Главный врач в расстегнутом кителе, из которого торчал живот в полосатой пижаме, дежурная сестра и Эва со шприцем в руке.
Они не смотрели на больного, который лежал совершенно спокойно, закрытый, как и раньше, до самой макушки одеялом. У них был такой вид, как будто они ждали чего-то или пытались понять, не совсем уверенные, удалось ли им отогнать боль.
«Ну, наконец-то, наконец-то!» — подумал Михал с благодарностью. Он подмигнул Эве, когда она повернула голову в его сторону, но она не заметила, даже как будто не узнала его. Это его совсем не задело. Вообще он уже ничего не чувствовал, кроме благословенной тишины в зале, приглушающей слова, картины и огни.
Когда утром он проснулся, у него ужасно болела голова. Он привстал на кровати и сразу осознал, что не имеет никакого отношения к окружающему и что должен как можно скорее уйти отсюда. Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, любое движение приносило страдание. Сгорбившись, Михал сжимал руками виски, тер горящие веки. Всплывали обрывки каких-то воспоминаний, он должен был что-то делать. Зевнув, он поднял голову и сразу забыл о головной боли и о себе. Кровать рядом была пуста. На ней был один голый матрас с пучками грязных черных волос, торчавшими сквозь дыры в истлевшем чехле — желтоватом, грязном, с ржавыми пятнами.
Ищущим взглядом Михал обвел зал. Сестры суетились между койками с полотенцами и жестяными тазиками, большинство больных сидели в своих выцветших голубоватых пижамах и разговаривали довольными голосами. Все заполнял широкий яркий день, плывущий через высокие окна в бодром сверкании снега.
— Желаю вам счастья в Новом году, сестра, — сказал кто-то очень отчетливо.
— И вам также, пан Кальковский.
— Всех благ.
— Желаю вам счастья в Новом году.
* * *
С Моникой и двоюродными сестрами Михал попрощался в вестибюле у дверей. Они обменялись пожеланиями, но голоса их звучали неуверенно. Несмотря на бодрые улыбки, в них чувствовалась тревога. Он должен был идти. До его отъезда вечером у них еще было время, чтобы проститься. Но они колебались в каком-то беспокойстве между прошлым, прервавшимся так тревожно, и будущим, в которое они не решались войти.
— Как тебе понравился наш вечер? — спросила Моника.
— Было очень… — начал было Михал и споткнулся, словно не нашел в темноте ожидаемую ступеньку. Он шел не задумываясь, руководимый привычкой, а тут вдруг пустота, сомнение в мировом порядке и стыд. Он посмотрел на Эву. Она не выспалась и вежливо зевала в платок.
— Не удалось спасти того сержанта? — спросил он.
Она устало замотала головой.
— Ему ампутировали ноги все выше и выше, — сказала она. — В конце концов уже нечего было ампутировать. Сгорел.
Из боковой двери в зал вошли Новак и кудрявый студент-медик с ястребиным лицом.
— Привет, старик! — воскликнул медик, подходя к Михалу. — Уходишь?
Он энергично пожал ему руку. Михал так и не мог вспомнить, как его зовут. Не без иронии он подумал, что, наверно, они уже никогда в жизни не встретятся.
— Всего хорошего. Держись, старик.
— У Богачевской не так уж плохи дела, — говорил тем временем Новак девушкам. — Но, во всяком случае, добрых два месяца ей полежать придется.
В его голосе чувствовался тот неуловимый пренебрежительный тон, которым врачи любят подчеркивать правильность своего диагноза.
Михал заметил, что щеки Каси потемнели и глаза смотрели хмуро. Ясная до самой глубины, чистая в каждом своем чувстве, она все еще не могла ко всему этому привыкнуть.
Новак протянул ему руку.
— До свидания. Еще увидимся?
— Не знаю. Может быть…
Моника испытующе смотрела на него. «Сказать ей или нет? Наверно, она кое о чем догадывается. Скажу в последнюю минуту», — решил он.
Врачи ушли.
— Ну, до свидания, — сказал он, потянувшись к дверной ручке. Но не нажал на нее. Все еще ждал, окруженный топорщащейся белизной халатов.
— Я хотел бы попрощаться с Барбарой, — сказал он.
— Бася наверху, — сказала Кася.
Они повернули голову к лестнице, по которой как раз в эту минуту сбегала вниз Барбара, неся перед собой поднос с какими-то наполненными ватой баночками, блестящими коробками и инструментами. Он заметил, что под глазами у нее синяки, нос заострился, лицо как-то отвердело. Ему показалось, что облако обаяния, в котором Барбара была вчера, исчезло, что она сняла его с себя, как вечернее платье, и сейчас стоит совсем обычная, без прикрас. Но когда он преградил ей дорогу, она чуть приподняла сросшиеся брови и ямочка на правой щеке дрогнула, приводя сердце в трепет. Он почувствовал болезненный укол жалости. Ее он, наверно, тоже не увидит. Что-то могло начаться и никогда не начнется. Словно за окном поезда промелькнул чарующий пейзаж. Даже руку ему пожать она могла лишь мельком, в спешке, потому что поднос, который она держала в левой руке, опасно наклонился.
— Спасибо за вчерашний вечер, — сказал он.
— Не за что, — ответила она, и была в этом не вежливость, а совершенно не связанная с его мечтаниями правда.
Он быстро вышел, чтобы скрыть краску, заливающую щеки.
Холодный, разреженный воздух внезапно ворвался ему в легкие. Он зажмурил глаза. Протоптанные в снегу тропинки перекрещивались посреди двора, от окон отражался яркий свет. За искореженной осколками оградой тянулись пустынные, залитые бледной голубизной развалины. Он испытал то же противоречивое чувство, похожее и на отчаяние и на ожесточение, которое он испытывал когда-то в детстве при виде рассыпанного домика из кубиков. И он с завистью подумал о том, что оставляет другим этот труд, что и от этого он уходит, а если и вернется, то уже не сможет принять участия во всем том, что с сегодняшнего дня начинает рождаться в этой пустыне.
Он прошел мимо серого часового в каске, беспомощно сгорбившегося под чужим небом.
Он спешил встретиться с человеком, который назвал себя Анджеем.
«А может быть, не удастся?» — подумал он с неожиданной смесью надежды и страха.
Мешки всегда были для него символом бедности. Люди, среди которых он воспитывался, не таскали фанерных чемоданов, перевязанных веревкой, тряпичных узлов. Согнутые под тяжестью спины, залитые потом лица вызывали сочувствие, смешанное с брезгливостью. Это была картина гнета, власти вещей над человеком. И к тому же вещей жалких, убогих. Тирания дорогих вещей никогда не обнаруживалась так явно и так буквально.
Но как немного надо, чтобы вещи превратились в хлам, а хлам стал жизненно важной необходимостью.
Михал никак не мог припомнить, каким было до войны выцветшее фланелевое одеяльце, в которое он зашил постель. Может быть, им прикрывалась кровать служанки. А может быть, оно использовалось для глажения, потому что на нем виднелись треугольные следы подпалин. Разумеется, сохранилось именно оно, а не обшитые кожей пледы из верблюжьей шерсти.
Люди, спешившие на станцию, подталкивали его — он занял всю протоптанную в снегу тропинку. Надвигались сумерки. Поле, отделяющее фабричный поселок от железнодорожного полотна, источало бледно-серое свечение. Тропинка бежала наискось — черная, шевелящаяся, как колонна марширующих муравьев.
— Нельзя ли побыстрее, — сказал какой-то мужчина. — На платформе уже никого нет.
Все прибавили шаг. Молодежь сворачивала в поле и неровными скачками передвигалась по сугробам. Он не мог идти быстрее. В кожухе было жарко. Мешок с постелью и чемодан, переброшенные на ремне через плечо, били его спереди и сзади. В одной руке у него были книги, в другой — портфель с оторванной ручкой.
Стоящий возле деревянной будки фонарь с выкрашенной в синий цвет лампочкой отбрасывал круг болезненного света за пределы платформы. Толпа, растянувшаяся вдоль путей, чернела за пределами светового круга в водянистом сумраке. Она содрогалась, оставаясь на месте, потому что люди притоптывали от холода. Был слышен равномерный скрип деревянных подошв на смерзшемся шлаке.
В темно-синем небе, уже исклеванном морозными блестками звезд, у горизонта зияла щель, сквозь которую была видна полоса прозрачной увядающей зелени. На ее фоне фабричные трубы и край далекого леса вырисовывались со строгой четкостью.
От всего этого веяло какой-то безнадежностью — псевдосуществование, чудесным способом заключенное в осязаемо четкую форму.
Бумажный шпагат, которым он завязал картонную коробку с книгами, лопнул как раз в тесном проходе между платформой и металлической сеткой, ограждавшей перрон. Он с трудом нагнулся. Сзади его подталкивал чемодан, спереди тянул мешок. Руки у него дрожали, когда он завязывал расползавшийся шнур. Пот жгучими струйками стекал по бровям, сочился из слипшихся на лбу волос. «Сейчас придет поезд, — думал он. — Не успею. Сейчас придет поезд…»
Наконец он поднялся. Подставил плечо под ремень. Кто-то из милосердия поддержал мотающийся узел с постелью. Это был Сикора, с которым он работал перед отъездом в одной смене.
— Зачем ты здесь показываешься, парень? — сказал он, понизив голос.
— Приехал за барахлом.
— О тебе спрашивали.
— Знаю.
Только теперь он почувствовал страх. Страх того периода, живущий в определенных местах и в определенных лицах. Только среди незнакомых он чувствовал себя в безопасности. У него было такое впечатление, что он знает всех в этой толпе. Взгляды, направленные на него из-под потертых козырьков, скользили по его лицу с деланной рассеянностью, которая должна была означать: мы тебя не видели. Но в некоторых зажигалась и сразу же гасла еле заметная улыбка приветствия.
— Что с сестрой? — спросил Сикора.
— Ее перевели в Монтелюпих [24].
Им больше не о чем было говорить, и они стояли в молчании, повернувшись друг к другу боком, каждый глядя в другую сторону, пока болезненный свист локомотива за мостом не привел в движение весь перрон.
Неловким жестом Сикора отыскал его руку, прижимавшую портфель. Сквозь грубый брезент рукавицы он почувствовал сильную, сердечную твердость его руки.
— Держись, парень.
Головы и плечи людей судорожно подпрыгивали на фоне светлых клубов пара, вздохи паровоза сдували шум возбужденных голосов. Он бежал вместе с другими вдоль состава. Этот состав состоял из старых бочкообразных вагонов со множеством дверей, ведущих в каждое купе отдельно, над длинной, высоко расположенной ступенькой. Люди стояли на этой ступеньке, тесно прижавшись друг к другу, а у открытых дверей содрогались гроздья мечущихся тел. Внутри было темно, и лишь красные угольки сигарет светились сквозь те немногие окна, которые не были забиты фанерой и в которых еще сохранились стекла. Только один вагон, в середине состава, сверкал огнями. Но его никто не штурмовал. Белая табличка оповещала толстыми решительными буквами: «Nur für Deutsche» [25].
— Садитесь побыстрей! — кричал кондуктор. На этой станции поезд стоял только одну минуту. Со свободными руками еще можно было где-нибудь уцепиться, но сесть с багажом не было никакой надежды.
Отталкиваемый воюющими за свободные места рабочими, он беспомощно стоял напротив освещенного, почтенно-тихого вагона второго класса.
— Прыгайте!
Это был кондуктор. Он стоял за ним, держа наготове красный флажок.
— Немецкий, — ответил Михал.
— Влезайте. Пустой. В Бжеске много людей выходит, тогда перейдете в третий.
Он поднял флажок, взял в рот металлический свисток и пронзительно засвистел. Потом вскочил на ступеньку и сильным рывком открыл перед ним дверь.
— Быстро! — Он подтянул его за воротник и подтолкнул чемодан.
Купе было занято. У окна сидели двое. Тот, который подошел к нему и помог втащить мешки, оказался не немцем. Его немолодое круглое лицо с крупными крестьянскими чертами доброжелательно улыбалось. Он был в мундире кофейного цвета со знаками различия унтер-офицера, на голове фуражка с высокой тульей, украшенной крестом святого Стефана. Он говорил что-то непонятное, укладывая вместе с ним свертки на уже вздрагивающую полку над плюшевым диваном. В его голосе звучало добродушие — так успокаивают испуганную лошадь. Он был не очень чисто выбрит, куртка неряшливо морщилась под поясом. Это ободряло, вызывало доверие.
Второй, плотно затянутый в стального цвета сукно, лишь оторвал от книги глаза и с минуту смотрел сквозь очки в тонкой золотой оправе. Он не возмущался, не протестовал. Только смотрел. И под этим холодным взглядом вещи Михала казались еще более убогими. Они были здесь не на месте. Они оскорбляли.
Как назло, бумажный шпагат на коробке опять лопнул, корешки книг в беспорядке торчали из-под раскрывшейся крышки. Этого вида немец, по всей вероятности, вынести уже не мог. Он повернул седеющую голову к окну и склонился над своей книгой, над чистыми узкими страницами, на которых чернели аккуратные колонки стихов. Может быть, это были стихи Рильке? Кажется, некоторые читали их даже теперь — образованные офицеры из хороших семей, любящие музыку и философию и служащие в армии по вековой фамильной традиции. Этот мог быть одним из них. От немца исходил запах изысканного мужского одеколона. Шинель, висевшая в углу, ниспадала безупречными складками.
В картонной коробке тоже был томик Рильке. Михал подумал об этом лишь между прочим, как об удивительном стечении обстоятельств, из которого ничего не следует.
Грубо скроенный венгр наверняка не читал стихов. Но в его воркотне, в его улыбке было человеческое тепло. Приглашающим жестом он показал на плюшевый диван.
Нет. Он не имел права сидеть в этом купе. Он отрицательно покачал головой и стал у окна, в которое глядела еще розовая луна, поднявшаяся над косматыми холмами. Трещина на стекле поймала ее свет, и преломленный, вплавленный в стекло луч раскачивался среди молчащих белых полей, в разреженной темноте неба. Тишина узкого купе за спиной казалась ничтожной и тесной в сравнении с огромной тишиной зимней ночи. Поезд потихоньку плыл — мягко покачивающаяся линия далекого леса стояла почти на месте.
Трудно было поверить, что вскоре эта минута станет прошлым и даже исчезнет навсегда, как будто никогда и не существовала. Его вдруг охватило желание остановить ее. Именно эту, случайно выбранную среди тысяч других.
«Они убегают все, — думал Михал, — потому что мы не понимаем жизни. Мы ожидаем ее даров только от будущего. Мы рассеянны, невнимательны. Когда-нибудь, когда нам нечего будет ждать, нам ничего не останется».
Он сосредоточился, чтобы точно запомнить мягкие тени в бороздах, сонное колыхание земли, едва заметное свечение на вершинах белых возвышенностей, провалы во мраке лесистого горизонта, где торчал четкий косматый силуэт одинокой ели. Луна уменьшалась и остывала. Покачиваясь, она двигалась вместе с окном, а трещина на стекле светилась яркой голубизной. Дальше, впереди, лес выбегал полукругом, обращенным в сторону путей. В его объятиях спали две затерявшиеся хаты с голубыми стенами. Он почувствовал неожиданное удивление: «Почему я здесь стою, укачиваемый монотонным стуком колес? Почему я не там, не под одной из этих низких крыш?»
Он отдавал себе отчет в неясности этой мысли, в наивности ее формулировки. Эта минута лунной ночи длилась перед его глазами, как материализовавшаяся вечность. Она длилась не только для него. Разве никто ее не замечал? Разве он один должен был уберечь ее от небытия? Перед ним по-прежнему плыл все тот же приведенный в медленное кругообразное движение пейзаж, по-прежнему виднелась лесная прогалина с одинокой елью и две хаты, то приближающиеся, то уплывающие вдаль. Все это было погружено в полный покой и держалось на поверхности сознания огромным усилием воли. Если бы можно было избавиться от этого напряжения, он мог бы стать свободным. Тогда он обрел бы убежище от страха, от боли, своей и чужой, от времени. Надежное, доступное в любой момент.
Усилие заключалось в осознании слова «по-прежнему», в стремлении ухватиться за краешек быстротечности. Он пробовал забыть об этом — видеть только луну, белые поля, одинокую ель среди леса, светлую трещину на стекле. И вот, словно подчиняясь его желанию, вращение мира за окном резко замедлилось, покачивание уменьшилось, интервал между встрясками увеличился, тишина росла, пока, наконец, продолжительный скрип не утвердил ее окончательно. Все застыло в неподвижности, и слышно было только далекое усталое сопение паровоза, напоминающее дыхание загнанной лошади.
Он повернулся в сторону купе. Венгр сказал что-то по-своему и опять показал ему на место напротив. Михал снова помотал головой и вдруг вспомнил слышанное когда-то венгерское слово.
— Kesenem [26], — сказал он.
И тут немец закрыл книгу, заложив палец между страницами. Он строго посмотрел на него, со справедливым возмущением, показывающим, что была совершена бестактность, исключающая продолжение и без того чрезмерной терпимости. На минуту он перевел взгляд на венгра, чтобы и ему выразить свое возмущение и неудовольствие, а затем спокойно, холодно, с ударением на каждом слове сказал:
— Jetzt steigen Sie aus [27].
Может быть, он не знал, что поезд остановился в открытом поле?
— Es gibt hier keine Station [28], — покорно возразил Михал.
Лицо немца окаменело, брови слегка нахмурились.
— Sie steigen aus! [29] — повторил он.
— Ja, ja — бормотал он, — bald. Auf der Station. Ich brauche ein biẞchen Zeit [30]. — Он с извиняющейся улыбкой показал на свои мешки.
Немец поднялся, грозно поблескивая очками.
— Sofort [31], — прошипел он.
Замок не поддавался. Михал нажимал на него, то медленно, то с нервной поспешностью. Дверь заклинилась и не открывалась.
Офицер стоял прямой, невозмутимый, с томиком стихов, как ангел с мечом в протянутой руке. Тишину ночи прорезал долгий дрожащий гудок паровоза. Венгр вскочил, стал помогать плечом. Они неуклюже возились, не глядя друг на друга и мешая один другому.
Вдруг раздался визг.
— Los! Raus mit den Pinckeln [32].
Чаша его терпения переполнилась. Дряблые щеки побагровели, короткие седоватые волосы как будто засверкали.
Венгр внезапно ухватился за ручку окна и опустил его. Купе наполнилось свежестью снега, леса, ночного неба.
— Los, los! Schnell! [33]
Венгр метался как угорелый. Он выхватил чемодан из сетки, потом мешок. Вещи летели в окно, были слышны глухие удары при их падении. Сейчас полетит портфель. Взяв в руку плохо завязанную коробку — он остановился. Они посмотрели друг другу в глаза. У венгра было несчастное лицо, сердитое от стыда. Губы его искривились в неопределенной гримасе глупого сожаления, вызывавшего сочувствие. Он был соучастником несчастья. Неловким движением подбородка он показал на окно. Поезд дернулся, медленно набирая скорость, и в это время дверь подалась. Михал успел взять коробку из рук венгра, прижал ее к груди. Земля уже убегала из-под ступеней. Во время прыжка он споткнулся об идущие вдоль путей провода. Холодный снег залепил ему лицо, забивая дыхание. Когда он поднялся, квадраты теплого желтого света на мгновение касались его, с каждым разом все непродолжительнее, а потом уплывали по белому откосу, унося с собой комфорт, раздумья, призрачную уверенность, что цель будет достигнута. Михал долго стоял на коленях, глядя на удаляющийся поезд, пока красный фонарь не исчез за линией леса. Тогда он поставил коробку на землю, встал и отряхнулся. Удары рукавиц о брюки разносились жалким эхом — эхом аплодисментов в пустыне.
— Вот так, — сказал Михал. — Вот так.
Он вынужден был смириться с чудовищным равнодушием мира. Он спустился вниз по насыпи за чемоданом, нашел погребенный во рву тюк с постелью. Опять связал его ремнем, перекинул через плечо и с сожалением подумал, что поезд уже на станции, а вслед за этим, что бессмысленно об этом думать.
Тропинка вдоль путей, протоптанная, по-видимому, железнодорожниками, была так узка, что хоть он и видел ее при свете луны, но то и дело сбивался, проваливаясь в снег выше щиколоток. Багаж мешал ему удерживать равновесие. Он шатался под его тяжестью.
Михал шел сгорбившись, с напрягшейся спиной, охватывая взглядом лишь маленький клочок белизны с более темной полоской посредине. Из-под мешка поочередно показывались носки сапог. Маленькие подъемы и понижения он ощущал по ритму своих шагов. Когда он останавливался, чтобы поправить ремень или стереть перчаткой пот с лица, окружающий мир тихо вспыхивал перед ним, каждый раз точно возникая из ничего. Но и тогда, открывшийся так внезапно, он казался нереальным. Сотрясаемый тяжелым дыханием, вслушивающийся в пульсирующий в ушах шум, Михал смотрел на этот мир безразлично, как на что-то находящееся за пределами его ощущений, и даже связь между собственной усталостью и этим пространством, все таким же однообразно огромным, доходила до сознания нечетко, в виде абстрактной и совсем несущественной мысли. Где-то далеко залаяла собака — слабым, теряющимся в пустоте голосом. Он остановился, чтобы вслушаться, и долго стоял, решив, что не должен двигаться дальше, пока доносится этот лай. Он сбросил вещи в снег и сел на чемодан. Холод сушил его лицо, понемногу пробирался в сапоги и под кожух. Приближающийся к насыпи лес был уже недалеко — смешанный, не очень густой, весь состоящий из сплетения белых прожилок и пятен. От него тянуло едва ощутимой кислотой преющих под снегом листьев.
Он не знал, далеко ли отсюда до следующей станции. Может быть, километр, а может быть, два? Это было немного, но тяжелая ноша лишала его мужества продолжать дальнейший путь. «Не надо было садиться в этот вагон, — думал Михал. — Лучше уж было ждать на месте. Ведь это и должно было так кончиться». На каком основании он решил, что все сойдет гладко? Он взвешивал сейчас свои шансы, как будто это могло что-нибудь изменить в его положении.
Если бы этот немец разрешил ему доехать хотя бы до Бядолин… Может быть, ему удалось бы втиснуться в какой-нибудь вагон с этим барахлом даже во время такой короткой остановки. И почему он не захотел подождать еще несколько минут? Не надо было отвечать. Немец крепился, пока не услышал его голоса. Да, это была ошибка.
Некоторое время Михал предавался фантастическим мечтам, пытаясь задним числом переделать всю эту историю согласно каким-то выдуманным (хотя внешне и логичным) правилам человеческих взаимоотношений. Он мысленно складывал немецкие фразы, объясняющие, почему он самовольно вошел в купе. Что это, кажется, последний поезд, который приходит в Краков до комендантского часа. Что он обещал матери вернуться сегодня. Что мать, как многие старые женщины в нынешние времена, очень плохо переносит ожидание. На ее щеках появляются темно-красные пятна, губы становятся фиолетовыми. Сжав руками виски, она ходит по комнате из угла в угол. Она может так ходить всю ночь. Нечего удивляться, что человек старается любой ценой не допустить этого также и из эгоистических соображений, так как одна мысль о ее беспокойстве является мукой. Es ist wirklich sehr schwer solche Zage zu ertragen [34].
Пусть правила борьбы, которую мы ведем, останутся нашим мужским делом. Herr Oberst [35]. Не надо вмешивать в них старых женщин с больным сердцем.
Эти выводы показались ему настолько убедительными, что он даже смог представить себе сдержанную, понимающую улыбку на узких губах офицера и затем улыбку перемирия, близкое к симпатии доверие, которое испытывают друг к другу лояльные противники. Но память разрушила эти миражи картиной действительной развязки. Неумолимо вытянутая рука, держащая продолговатый томик стихов, искаженный в крике рот, взгляд, холодный от презрения, настолько открытого, настолько надменного, что даже ненависть поблекла бы перед ним.
Михал поднялся, дрожа от холода. Ему было стыдно собственной наивности и сентиментальности.
Он вытащил из брюк ремень и связал его с ремнем, на котором нес вещи. Потом просунул пряжку под веревку мягкого тюка и ручку чемодана и застегнул ее. Это была хорошая идея. Зажав портфель под мышкой, а коробку взяв за веревку, он мог свободной рукой тащить тяжелые вещи по земле. Таким образом он довольно быстро добрался до леса. В лесу было хуже. Вещи задевали за спрятанные под снегом корни, проваливались в ямы. Он должен был довольно часто останавливаться, но остановок теперь уже не затягивал и после нескольких секунд отдыха двигался дальше. Он старался придать этим передышкам какой-то ритм, и вскоре автоматизм усилий поглотил его целиком, отгоняя ненужные мысли и даже притупив ощущение времени. Момент, когда он был выброшен из поезда, незаметно отдалился за пределы чувств, за ту черту актуальности, где события воспринимаются еще не совсем утвердившимися, как будто они могут быть даже обратимыми. Теперь он действительно убедился, что «говорить не о чем», поэтому преодоление тяжелой дороги стало обычным делом.
Когда он вышел из лесу, месяц был уже высоко, небо прояснилось и было почти беззвездным. Поля полого поднимались к насыпи. Мир, вплоть до широко раскинувшегося горизонта, был полон мелких четких деталей. Тоненькие, как спички, телефонные столбы сопровождали далекое шоссе к неглубокой лощине, наполненной крышами хат и разлапистыми ветвями деревьев. На сплющенных буграх виднелись отдельные усадьбы, окруженные прозрачными изгородями и низким кустарником садов. Темные рощи вползали в углубления рельефа. Тут же, рядом с рельсами, дремал одинокий станционный домик под охраной тускло горящего фонаря, тихий, очерченный мягкими тенями, поблескивая влагой лунного света.
Вдруг его охватила тревога, что, прежде чем он туда дойдет, из-за леса появится поезд, остановится, с минуту посопит, как будто ожидая его, а потом равнодушно двинется дальше.
Он не помнил расписания поездов, но хорошо знал механизм неудач, поэтому стал тащить свою поклажу с удвоенной энергией и наконец, тяжело дыша, доплелся до перрона. Темные окна снаружи были затянуты голубоватой пленкой, и только в одном из них, в правой части вокзала, щель в затемнении выдавала теплый свет лампы. Название станции — Бядолины, — написанное большими буквами на фасаде, было прекрасно видно при свете луны.
Он толкнул дверь в зал ожидания. Здесь было пусто и темно. Немного света просачивалось лишь через закрытое изнутри газетой окошко кассы. Воняло окурками, грязной одеждой, спертым воздухом, которым пропитались стены. Он положил свои вещи на длинный стол и, подойдя к кассе, постучал в стекло. Там никто даже не шевельнулся. Он постучал еще несколько раз и наконец крикнул «алло!». Неожиданно его крик вызвал в темном зале ожидания скрип и скрежет, а вслед за тем серию обиженных вздохов, стонов и приглушенных покашливаний. Над столом появился какой-то неясный силуэт — сгорбленные плечи, бледное пятно лица.
— Теперича не откроет, — сказал охрипший голос. — Сегодня уже билетов не продают.
Опять послышалась шумная возня. Человек на лавке укладывался, что-то бормоча и шелестя бумагой.
— Не скажете ли вы, когда идет следующий поезд на Краков? — спросил Михал, подходя ближе к столу.
— Аж в пять, — ответил тот неохотно.
Михал с досадой ощутил всю бессмысленность своей спешки и угнетающую массу бесполезного времени перед собой. Он не хотел мириться с этим.
— За всю ночь ни одного поезда? — спросил он недоверчиво.
— Идет скорый из Пшемысля, десять тридцать семь, но не останавливается.
— А может быть, какой-нибудь товарный? — продолжал он надеяться.
Ответом ему был лишь кашель из-под стола да мокрый звук плевка.
Михал стал ходить по темной комнате. Он уже остыл, и теперь ему было холодно. Даже изнутри его наполнял холод. Часы, когда он посмотрел на них у окошка кассы, показывали девять. Он подумал, что через час у матери начнутся муки тревоги и что он не сможет ничем ей помочь. «Но ведь это не моя вина, — думал он в бессильном гневе. — Я ведь совсем не хочу ее волновать».
Он продолжал ходить нервной, подпрыгивающей походкой, сгорбившись, чтобы сохранить в себе хоть немного тепла. Время от времени он останавливался у окна, за которым ничего не происходило. Гладкий перрон, черное дерево с преувеличенно выгнутыми и словно отполированными толстыми ветвями, поблескивающие нити рельсов, продолговатая призма гравия за путями, прикрытая сверху снеговой периной, а возле стены — пустые тачки с торчащими из них рукоятками лопат. Все абсолютно неподвижное, словно поставленное на века вместе с густыми, четко нарисованными тенями.
Михал решил не смотреть на часы и ни о чем не думать. Это его решение имело совершенно обратные последствия. Он представил себе камеру в Монтелюпихе с крошечным квадратиком лунного света на бетонном полу. В ней должно быть так же холодно, как и в этом зале ожидания. Представил себе тесную комнатку в чужой квартире, где мать греет сейчас воду на электрической плитке и все чаще подходит к двери, прислушиваясь к шагам на лестнице.
Тюремная камера представляла собой менее горестную картину. Молодость никогда не бывает совершенно беззащитной. Он знал, что и сестра острее чувствует страдание матери, чем собственное. Именно эта комната с некрасивой мебелью была для них общим источником боли.
«Как легко жить без привязанностей, — думал он. — Как птицы на ветке. Близкие люди должны быть как птицы, которые случайно сели на одну ветку, чтобы через минуту разлететься в разные стороны». Он помнил имя поэта, который это сказал. Ашвагхоша. Буддийский монах. Он не мог точно вспомнить строчки, но перед его глазами стояла картина, вызванная прочитанным: черное дерево на фоне вечернего неба и черные птицы, тяжело взлетающие с голых ветвей. Наверно, вороны. Так он себе это представлял и уже не мог иначе, хотя и мечтал о равнодушии.
— Вы хоть бы сели.
Он забыл о человеке на лавке. Наверно, он мешает ему спать. Он подошел к нему. Неясное лицо опять появилось над столом. Михал колебался, сесть ли ему, но так и не решился. Ему казалось, что в этой ходьбе он обрел какое-то равновесие и что всякая перемена может привести только к худшему.
Человек вытащил руки из-под пальто, которым был накрыт, и начал ощупывать лежащий на столе мешок.
— На продажу? — спросил он.
— Нет. Не торгую.
— А что везете?
— Ничего. Тряпки. Переезжаю. — Вдруг он почувствовал, что этот разговор приносит ему успокоение. — Немцы выбросили меня из поезда, — продолжал он. — Перед станцией. Поезд остановился в поле неизвестно почему.
— Ну, — буркнул флегматично незнакомец. — Семафор там. Путь был поврежден.
— Кабы у вас была водка, — сказал он через некоторое время, — я бы купил. Или табак. Обратно бы взял, к примеру, кентук.
— Не торгую. Это тряпки.
— Садитесь.
Михал неохотно сел на край лавки.
— Холодно, — сказал он.
— Знаете что? Снимите сапоги и оберните ноги бумагой. Там, в углу, в корзине, есть старые газеты. И пальто тоже снимите. Накройтесь им, так же как я.
— Не надо. Все будет в порядке.
Михал дрожал от холода и уже не мог решиться сделать малейшее движение. Кашляя и бормоча, незнакомец вертелся под своим бесформенным «одеялом» (по всей вероятности, это была старая железнодорожная шинель). Через некоторое время он осторожно коснулся руки Михала.
— Нате, скрутите себе. — Он протянул ему открытую металлическую коробку. Табак был на ощупь влажный. Сверху лежало несколько измятых листков папиросной бумаги.
Михал неумело свернул цигарку. Он зажег спичку и увидел лицо незнакомца. Небритое, осунувшееся, с пористым длинным носом, свисающим над губами. Именно таким он его и представлял. Все поезда и залы ожидания были заполнены такими лицами.
Горький, неприятный дым взбодрил его.
— Крепкий, — сказал он.
— Крепкий, холера!
Эхо кашля гулко ответило в пустом зале. И некоторое время он был наполнен невообразимым шумом.
— Вы тоже ждете поезд? — спросил Михал, когда незнакомец наконец отхаркался и наступила тишина.
— Нет. Я здесь работаю на дороге. Живу далече, в другой деревне. Не хочу рисковать ночью.
— Если у вас бумаги в порядке…
— Э, пан… Моего свояка застрелили, хоть у него был аусвайс.
Они долго сидели молча. Огоньки их самокруток попеременно вспыхивали и угасали.
— Кабы у вас была водка, — сказал наконец незнакомец, — я бы купил. — Он стряхнул красную искру на землю, съежился и натянул шинель на голову.
Скошенные трапеции лунного света на полу незаметно вытянулись. Одна из них приближалась уже к столу. Михал сидел одеревеневший, засунув руки в карманы, втянув шею в воротник кожуха. Пока он не двигался, холод был как будто заворожен, остановлен на последнем рубеже своего наступления. Михалу казалось, что он сторожит сон друга.
Из состояния этого бессмысленного бодрствования его вырвал приглушенный звонок. Он услышал за стеной звук отодвигаемой мебели, протяжный зевок, шаги. Увидел, что весь угол стола залит холодным светом. Он встал, с трудом разогнул онемевшие колени. Откуда-то издалека доносился нарастающий шум. Михал вышел на перрон. Ночной воздух обступил его, как вода. Луна, пройдя зенит, клонилась к далекому черному лесу и светила ему прямо в глаза. В конце перрона стоял одинокий человек в длинной шинели и красной фуражке. Шум поезда приближался, но совсем не с той стороны. Он посмотрел на часы. Было немногим больше половины одиннадцатого. Все более широкие круги прожекторов бледнели в светлеющем просторе. Провода над рельсами позванивали, и земля под ногами начала дрожать в тяжелом неровном ритме. Поезд прошел медленно, громыхая буферами. Очень длинная цепь платформ, на которых вздрагивали покрытые чехлами пушки и тягачи. Эти грозные и бесстрастные призраки двигались, как в сновидении, перед человеком в красной фуражке, неподвижным и задумчивым и как будто тоже пораженным апатией сна. Они исчезли, а железнодорожник продолжал стоять в прежней позе. Можно было подумать, что он еще ждет или же продолжает принимать невидимый парад. Михал подошел к нему.
— Простите, когда будет поезд на Краков?
Человек повернул к нему белое, набрякшее лицо с маленькими, словно наклеенными, усиками. Некоторое время он мигал от удивления, потом очнулся.
— Пять ноль три, — сказал он механическим голосом.
— А может быть, есть какой-нибудь товарный?
Он снова сонно заморгал глазами. Внезапно белая маска застыла, глаза расширились и блеснули стеклянным, направленным внутрь взглядом.
Незначительное дрожание рельсов, которое воспринималось как затихающее эхо военного эшелона, в течение минуты усилилось, превратилось в металлический топот, и вот уже их обдало горячим паром, запахом копоти, грохотом и огнями. Желтые огни пульмановских вагонов пролетали, соединяясь во все более длинную, рассеченную поперек ленту; в лязг металла врывалось торопливое пыхтение локомотива. Все это пронеслось перед ними, словно запыхавшаяся, пронзительно кричащая весть о катастрофе. Они еще чувствовали порыв ветра на своих лицах, когда хвост состава был уже только извивающимся, темным пятном с красной искрой сигнального фонаря.
— Может быть, какой-нибудь товарный, идущий порожняком… — повторил Михал свой вопрос.
Начальник опять встрепенулся, заморгал глазами, посмотрел на него с удивлением.
— Пять ноль три, — повторил он.
После чего в нем как будто выключился какой-то механизм, он сгорбился, обмяк и, шаркая ногами, исчез за углом дома. Разорванная шумом и движением ночь опять разгладилась, вернула себе свой холодный прозрачный покой.
Михал остался на перроне один. Он шагал по нему и постепенно находил параметры своей действительности. Прерванное несколько часов тому назад путешествие, багаж, холодная тюремная камера, комнатенка в чужой квартире. Он опять видел мать, расхаживающую от стены к стене, словно она искала выход, присаживающуюся на кровать, молитвенно складывающую руки и беззвучно шевелящую белыми губами. Ему казалось, что он смотрит на нее откуда-то издалека, беспомощно ожидая появления в дверях самого себя. Он опять ощутил прилив того самого нетерпения, которое гнало его сюда, в гору, но теперь оно было уже слабее. Михал остановился, огляделся вокруг. Все было по-прежнему. Черное дерево, рельсы, куча гравия, тачки с лопатами. Только тени стали длиннее. И одиночество еще ощутимее. Ему вдруг захотелось убежать отсюда — из этого мира, опустошенного высокомерием, презрением и насилием. Это желание сотрясло его, как приступ лихорадки, у него сжались руки в кулаки, горечь подступила к горлу и прошла, оставляя после себя усталость.
Он вернулся в зал ожидания. Некоторое время постоял возле лавки, глядя на темную фигуру спящего человека. Ему очень хотелось услышать его голос, прикоснуться к его руке. Когда, наконец решившись переменить положение, Михал сел на лавку, он близко придвинулся к спящему и осторожно оперся локтем о его бедро. Незнакомец, видимо, только дремал. Он вздрогнул, медленно повернулся, высунул из-под пальто взъерошенную голову.
— Скорый прошел? — спросил он.
— Да.
— Может, свернете?
Михал с благодарностью взял жестяную коробочку. Они еще несколько раз в течение ночи курили самокрутки из липкого, воняющего карбидом табака. Для беседы им хватало нескольких слов, необходимых для того, чтобы свернуть цигарку и прикурить, иногда вздохнуть или произнести какое-нибудь проклятие. Сгорбившись, опершись друг о друга, они по временам впадали в продолжительное оцепенение.
Михал очнулся со смутным ощущением какой-то перемены. В зале разговаривали. Было светло. Под потолком горела голая лампочка. У открытого окошка кассы стояла кучка деревенских баб с корзинами и жестяными бидонами, держащимися на плече с помощью льняных полотенец. Бабы пахли прогорклым маслом и разговаривали плаксивыми, тягучими голосами. Он посмотрел на своего товарища. Но человек, у которого убили свояка, исчез. На его месте сидела старая толстая тетка в мужских сапогах. Из-под ее клетчатого платка на уровне груди высовывалась голова гуся с круглым жёлтым глазом, полным немого укора. Из открытых дверей веяло холодной темнотой.
— Идёть! — крикнула какая-то женщина.
Среди внезапного гомона он встал, разбитый, опустошенный, без единой мысли в голове, и, зевая и дрожа всем телом, начал связывать свои вещи.
Зимою, когда Михал уходил на работу, была еще ночь. Комнату наполняло затхлое тепло сна. Лампочка, скрытая в некрасивой люстре, подделанной под старину, бросала свет, слишком белый и слишком докучливый, на развороченную постель, остатки завтрака на столе, сжатую в гармошку штору из черной бумаги, закрывающую окно.
Он ощущал непреодолимое желание вернуться в постель. Сон бродил еще в теле тяжелой липкой жидкостью, лишал равновесия, делая движения неуверенными. Он чувствовал, как мучительно сосет под ложечкой после слишком раннего и всегда недостаточно обильного завтрака, состоящего из ячменного кофе с сахарином и кислого хлеба со свекольным мармеладом.
Мать шуршала бумагой, заворачивая приготовленные ломтики хлеба.
— Ты много мне заворачиваешь, — говорил он. — Посмотри, что ты себе оставила: маленькую горбушку.
Он знал, что и этой горбушки она не съест. Выпьет немного бурды и будет ходить голодная до обеда. Ее жертвы давили на него растущей изо дня в день тяжестью, и его охватывала бессильная злоба. В ответ она смущенно улыбалась.
— О, мне достаточно. Старикам много не надо. Такой разговор происходил у них каждое утро, и всегда его нежность превращалась в огорчение.
— Полежи еще, — говорил он. — Тебе совсем не обязательно вскакивать. Я прекрасно сам могу приготовить завтрак.
— Да, да, я прилягу, — уверяла она.
Он знал, что это неправда. Она сядет штопать или пойдет в холодную кухню стирать его рубашки и носки. Уже давно его забота о ней свелась к пустой церемонии. Не потому, что он не был искренним, а потому, что не было никаких действий, подтверждающих эту заботу. Он был похож на человека с пустыми карманами, который отваживается на широкий жест, будучи уверенным, что его подарок не будет принят.
Она куталась в вылинявший фланелевый халат — когда-то голубой с белыми цветочками, а теперь почти гладко-серый — и, присев на край кровати, смотрела с выражением болезненного напряжения на будильник, громко тикающий на ночном столике. Эти последние минуты были самыми трудными. До пяти длился комендантский час — он не мог выйти раньше.
Наконец они прощались. Каждый раз так, как будто он отправлялся в далекий опасный путь. Она обнимала его с испуганно сдерживаемой поспешностью, целовала в лоб.
— Береги себя, — просила она. — Будь осмотрительным.
Он с трудом сдерживал нетерпение.
— Ну конечно. Хотя мне ничего не угрожает.
Он выскакивал в коридор, в спешке боролся с дверной цепочкой и убегал. Он знал, что она стоит на пороге, следя за ним, пока он не исчезнет. Лестничная клетка была темная и воняла плесенью и картофелем. Ночью она всегда наполнялась запахами подвала. Грохот его тяжелых ботинок разносился по всем этажам. Ему казалось, что за ним кто-то гонится. Что он гонится сам за собою.
Холод улицы успокаивал его. Улица была очень широкая, продуваемая влажным дыханием близкой реки. Посредине тянулся ряд деревьев. В их безлистых черных ветвях, предчувствуя близкий рассвет, шевелились галки. Обычно он останавливался сразу же у парадного и закуривал сигарету «Юнак» — твердую, как палка, в толстой бумаге. Горький, дерущий горло дым вначале действовал одуряюще, но после нескольких затяжек приходило ощущение какой-то вульгарной фамильярности по отношению к действительности, и в этом был аромат дня.
В это время город обычно находился еще в летаргии, если накануне не объявляли о том, что будут давать маргарин или мыло. Тогда перед железными жалюзи магазинов торчали закутанные в платки сгорбленные фигуры женщин. Они стояли тихо, словно дремля, полные решимости выстоять на посту до восьми. Завистливые взгляды, которыми их будут провожать через несколько часов легкомысленные люди, толпящиеся в конце длинной очереди, вознаградят их за все — это будет один из тех триумфов, которые делают жизнь возможной.
Если был снег, тротуары повсюду скребли деревянные лопаты дворников. Иногда из-за угла улицы появлялся возвращающийся патруль. Уставшие жандармы с трудом волочили ноги — их бдительность к утру ослабевала. Они все еще сжимали руками стволы висящих на груди автоматов, но во взгляде, которым они скользили по редким прохожим, была одна рассеянность и скука.
Он любил представлять себе внезапное превращение этой тупости в удивление и страх. Если бы неожиданно выскочить с оружием — «Hände hoch!» [36], трое на трое или даже двое против троих. В эту пору могло и удаться. Он проходил очень близко от них, почти касаясь покоробившихся от холода плащей, делая вид, что — задумавшийся и сонный — не замечает их на своем пути.
До трамвайной остановки было недалеко. Еще не завернув за угол, он уже слышал стук — переступание замерзших ног, обутых в туфли на деревянной подошве. Рабочие стояли неясной темной группой между Круглым киоском и пригашенным фонарем, источающим крохи синего света. Они тупо притоптывали, окруженные запахом нищеты: низкосортного табака, пота, кислого дыхания. На выпуклой стене киоска виднелся в тусклом свете последний список заложников.
Иногда, ища знакомые фамилии, Михал испытывал острое чувство вины. Он знал, что близкие питают надежду на спасение этих людей, а он просто ищет знакомых, как на театральной афише. Тогда он себе представлял, что однажды и он будет назван в этом списке. Мать будет бегать по знакомым в отчаянной попытке найти «пути», связи и деньги. Будет давать задатки каким-то подозрительным типам, целуя им руки, как спасителям, будет слушать с покрытым коричневыми пятнами лицом соболезнующие рассказы о счастливых исключениях, которые были с кем-то, где-то, неизвестно когда и где.
Он неизменно приходил к выводу, что об этих вещах думать нельзя. В такие минуты он обычно ощущал таинственную, тлеющую в глубине души зависть, — зависть к тем, которых никто утром не провожает, которых никто вечером не ждет. Он упрекал себя за это, стыдил, но не мог избавиться от тоски по покою одиночества.
Из глубины мрачной улицы приближался трамвай. Он трезвонил, от его прикрытого голубым бельмом фонаря вспыхивали голубые лучи рельсов среди грядок скользкого булыжника.
Здесь, недалеко от центра, еще можно было найти в вагоне место на твердой скамейке. Тени, стоящие на трамвайной остановке, неожиданно обретали лица: небритые, мертвенно-бледные в синем освещении. Он знал этих людей. Каждое утро он терся о их костлявые плечи, слушал их полные проклятий ворчливые разговоры, видел, как они дремлют с открытыми ртами, опустив на грудь сотрясаемые толчками вагона головы. Это были рабочие с содового и кабельного заводов, с печей по обжигу извести. Их становилось все больше. Возле моста они уже заполняли весь проход, бессильно висели, держась за кожаные ручки. Под напором их тел веревка, разделяющая вагон на две половины, натягивалась и скрипела. В другой половине чаще всего было пусто. Если случался какой-нибудь привилегированный пассажир, то это всегда был — в эти ранние часы — человек в мундире. На него не обращали внимания. То, что он мог удобно расположиться, вытянуть ноги в сапогах со сверкающими голенищами, даже положить их на противоположную скамью, казалось, никого не удивляло. Так уж было заведено. Люди привыкли. У Михала эта картина тоже переставала вызывать возмущение. Беспокойство и удивление, которое он еще испытывал, было вызвано не унижением или собственным неудобством, а положением человека по ту сторону веревки. Ни за что на свете он не поменялся бы с ним местами. Часто с жадным вниманием наблюдал он за пассажирами из первого отделения. Его не оставляла надежда, что он заметит какой-то признак слабости, какое-то проявление человеческого раскаяния. Несмотря ни на что, он не хотел согласиться со слишком простым миром ненависти. Но его усилия не давали результатов. Когда он случайно встречал немца, он видел, что его холодные глаза смотрят на груду сдавленных тел, как на далекий, безразличный ему пейзаж. И Михал так и не мог понять, что это означает: страх, отсутствие воображения или помешательство?
В этих исследованиях самым важным моментом был проезд через гетто. Здесь он наблюдал особенно внимательно и начинал еще больше сомневаться в своих способностях понять человеческую психологию. Разве медленный поворот головы от окна или закуривание сигареты относилось к числу ожидаемых реакций?
Трамвай сбавлял скорость перед стеной, и тогда на переднюю и заднюю ступеньку вскакивали одетые в черную форму часовые. Потом вожатый со стуком передвигал рукоятку до упора, приводя вагон в дрожь и тряску неожиданной скоростью. Трамвай подскакивал, лязгал, звенел стеклами, мчась как бешеный по узкому коридору между ограждениями из колючей проволоки.
Его грохот нарушал не просто молчание города на рассвете, он нарушал какую-то иную тишину. Это не была тишина сна. Вдоль проволочных заграждений фосфоресцировали бледные пятна лиц, бледные пятна рук, поднятых в молящем ожидании. У стен бедных покосившихся домиков предместья с окнами, заткнутыми тряпками и бумагой, во дворах и вытоптанных палисадниках с рахитичными деревьями, всегда стояли люди. Бородатые мужчины в длинных черных халатах, дети с огромными страдальческими глазами. Может быть, они стояли так всю ночь, ожидая это большое событие, каким, видимо, был для них шумный проезд первого утреннего трамвая? Но в тот момент, когда это происходило, когда металлическое эхо разносилось по узким улочкам и сотрясало стены развалин, они продолжали неподвижно стоять. Иногда на треугольной площади с белой часовенкой божьей матери можно было увидеть свернувшиеся на земле темные фигуры. Михал знал, что это мертвые. Он видел их, проезжая накануне. Никого возле них не было. Их смерть была красноречивым исходом. Но те, что стояли у проволоки, тоже казались близкими к этой единственной развязке. Они еще делали какие-то усилия, они еще по привычке или из чувства долга перед жизнью, ждали чего-то, но не было в этом ни убежденности, ни надежды.
Летом, когда окна вагона были открыты, за проволоку иногда летела пачка сигарет или завернутый в бумагу ломоть хлеба. Теперь никто не мог на это рассчитывать. Осталась только привычка, а может быть, развлечение людей, больных ностальгией, — созерцание людей свободных, тех, которым оставлено право передвигаться с места на место и привилегия толкаться в тесной половине трамвайного вагона.
Выехав за стены гетто, трамвай опять сбавлял ход, и тогда Михал начинал проталкиваться к выходу. Иногда случалось и так, что лишь смена скорости давала ему понять, где он находится. «Ага, проехали гетто», — думал он. Просто некий отрезок пути, часть города.
Белые лица у проволоки, скрюченные тени на земле — вопросы, с которых начинался день и которыми кончался, — проплывали рядом, и мысль не задерживалась на них. Они были как слова молитвы, произносимые одними губами. «Проехали гетто». Иногда он спрашивал себя с грустью, в чем заключается эта принципиальная разница, которую он хотел уловить, наблюдая немцев по ту сторону веревки. Тогда он начинал думать, что ко всему можно привыкнуть.
Он выходил на второй остановке после гетто и сворачивал на Цельную с постоянным чувством бессильного протеста. Она кончалась глухой стеной, шла между заборами и задними стенами каких-то складов или фабрик. Летом на ней была непролазная грязь, зимой — сплошные смерзшиеся глыбы. Уже у ворот его приветствовал запах конюшни — запах, когда-то любимый, но теперь не вызывавший приятных воспоминаний. Большой, вымощенный булыжником двор был завален соломой и навозом. Он проходил мимо повозок с опущенными дышлами, поблескивающего во мраке катафалка — погребальной бонбоньерки на колесах. Из дровяных сараев по обеим сторонам, из-за неясно белеющих стен каменной конюшни доносилось позвякивание сбруи, похрапывание, стук тяжелых копыт. Он вытаскивал ключ. Над коньком, торчащим на крыше фуражного склада, на сереющем небе горела яркая звезда. Михал знал, что, прежде чем он последний раз повернет ключ в замке и сядет в трамвай, идущий назад через гетто, снова настанет ночь.
* * *
Михал уступил добродушным уговорам Данеца. Теперь он оставляет ключ от кладовой ему. И поэтому может не спешить на первый трамвай. Просыпается он так же, как и раньше, в четыре, но разрешает себе еще минут десять или пятнадцать полежать в теплой постели. Это кажется ему преступной роскошью.
Когда он входит в конюшню, корм уже задан, а люди работают не с такими унылыми лицами, как тогда, когда они должны были ждать у закрытых дверей.
Данец скалит зубы из-под неопрятных рыжих усов и говорит:
— Ну, шеф, разве так не лучше? И для вас, и для нас.
То, что извозчик доволен, будит в нем подозрения, но он старается не вникать в подлинные причины этого.
В тот день, переступая во дворе через дышло повозки, он услышал доносящиеся из конюшни яростные крики и приглушенные удары. Он знает, что это такое, и неохотно ускоряет шаги.
На средней балке под стропилом висит закопченная керосиновая лампа. Четыре тени мечутся в неясном свете между перегородками первого стойла. Здоровенный Пацула молотит грохочущей цепью по костлявому лошадиному крупу, выступающему за желоб стока. Хвост лошади веером раскинулся на бетонном проходе. Она жалобно стонет, перебирая вытянутыми вбок огромными ногами. Ее пинают в спину, бьют кулаками по вздувшемуся боку.
— Каштанка, вставай, черт!
— Эй! Поднимайся, дьявол!
— Оставьте ее в покое! — кричит Михал в дверях.
Они расступаются, смотрят на него выжидающе и, как ему кажется, с издевкой.
— Опять легла, бестия, — докладывает Данец, вытирая рукавом пот со лба и скаля из-под усов желтые зубы. Животное вздыхает, как измученный человек. Голова лошади, подтянутая короткой цепью недоуздка, неестественно задрана кверху в сторону кормушки.
— Снимите недоуздок.
— Если она положит голову на землю, то уже никогда не встанет, — возражает Вишневский.
— Ведь она задыхается, вы что, не видите?
— Она потому так стонет, что ее пузырь беспокоит. Не может помочиться лежа.
Из другой половины конюшни, отделенной сенями, пришли катафальщики. Они стоят в проходе в своей позеленевшей вытертой униформе и смеются.
— Ну и лошади у вас! Таких и на бойню посылать стыдно.
Это правда. Фирма «Экспедитор» — типичное предприятие военного времени, не рассчитанное на длительное существование. Покупает выбракованных кляч, живые трупы, передвигающиеся из последних сил. Главная упряжка фирмы — две «мощные лошади». Неподнимающаяся Каштанка и пятнистый розоватый мерин с фиолетовыми от йода путовыми костями. У него ящур. Определение «мощные» относится к их конституции. Оно говорит о массивности костей, размере копыт и голов. Но кости эти можно пересчитать под запаршивевшей шерстью. Третья, гнедая, которую запрягали в маленькую одноместную «качалку», имела вид вполне приличный. Легкая, складная, с круглыми боками и крупом, как огурец, она вполне могла бы ходить в помещичьей упряжке. Но она самая ненадежная. Норовистая и злобная. Никогда не известно, чего она испугается. Уже несколько раз она переворачивала на улице повозку с поклажей и кучером Куликом.
Катафальщики правы. Они приседают, визжат от смеха, когда Каштанка, храпя, выпускает газы.
— Давайте подсовывайте ремни, — говорит Михал.
Все знают, что это единственная мера, но каждый раз обманывают себя и надеются, что обезумевшая от боли лошадь сама вскочит на ноги, избавляя их от мучений.
Они неохотно связывают холщовые пояса, ремни от шлеи, постромки. Их ненависть к лошади растет с каждой минутой, выливаясь в поток проклятий и оскорблении. Нелегко поднять круп такого большого животного. С помощью катафальщиков они тянут ее за хвост, за ноги, поднимают, подталкивают. Спереди немного легче, потому что животное висит на уздечке. Наконец они перебрасывают концы импровизированной лебедки через стропило.
Теперь тянут все вместе. Раз-два! Взяли!
Михал поручает командовать Данецу. Ухватившись за шершавый канат, сдавленный плечами товарищей, Михал напрягается, приседает, сгибает позвоночник дугой. Конюшня гудит от стука бьющих в доски копыт, в воздухе густая пыль, соломенная труха набивается в нос и горло, Папула хватает кнут и бьет лошадь по крупу, по шее, куда попало.
Вдруг канаты ослабевают, люди приседают до самой земли.
— А, сукина дочь! — кричит с облегчением Данец.
В желтом свете лампы, в мутном свете сереющих над яслями узких окошек постепенно оседают клубы пыли. Огромная лошадь стоит на шатающихся ногах, дрожа всем телом. Наклоняется вперед, прогибает худую спину и неожиданно выпускает горячую струю мочи. Брызги отлетают на вспотевшие лица людей.
— Лей, лей, голубушка, — любовно говорит Вишневский.
* * *
День пробивается постепенно, с трудом. Над платформами и путями товарной станции нависла мгла. Фонари железнодорожников колеблются в бескрайнем просторе, окруженные радужными ореолами. Голоса звучат удивительно громко и четко, а пронзительные крики маневровых паровозов доносятся как будто бы издалека, как сквозь воду. Очень холодно. Припорошенный сажей, истоптанный снег скрипит под ногами.
Сегодня у них под разгрузкой только один вагон. Стоя на заиндевевшей платформе, с блокнотом и карандашом в окоченевших руках, Михал с завистью смотрит, как ловко двигаются четверо его людей, разгоряченные, без курток.
Перед телеги уже заставлен деревянными бочонками с мармеладом. Сейчас выносят стопки картонных коробок. Некоторые коробки повреждены. Из них сыплются конфеты. Никого это не трогает. Иногда кто-нибудь из рабочих наклонится, обметет конфету перчаткой и спрячет в карман, но чаще деревянные подошвы давят рассыпанное добро. Стоящий у дверей вагона конвоир смотрит на это с полным равнодушием. Он заросший, грязный, уши завязаны шерстяным платком, ботинки обмотаны газетами. Много дней и ночей провел он среди этого богатства. В его теле не осталось ни капли тепла, а вид сладкого вызывает у него тошноту.
Для Михала товарная станция — место фантастическое. Он не может привыкнуть к презрению, с которым здесь относятся к вещам, о которых простой смертный не смеет и мечтать. Бочки французских вин, ящики золотых апельсинов из Испании, пачки светлого болгарского табака. Со всем этим обращаются как попало. Роняют ящики, выбивают плохо забитые пробки. Потом солидные немецкие чиновники с толстыми шеями составляют акты, грозно глядя поверх очков, а свидетели — конвоиры, экспедиторы, начальники эшелонов — сокрушенно качают головой. Полные важности, они исчезают затем в коридорах серого здания таможни, где дальнейшие формальности носят уже конфиденциальный характер.
Работа на товарной станции считается одной из наиболее выгодных как для поляков, так и для немцев. Михал знает об этом, но, хотя бывает здесь часто, остается по-прежнему новичком в этом таинственном, закрытом для непосвященных мире изобилия. Он чувствует, как возчики презирают его за это. По правде говоря, он немного им завидует — но не настолько, чтобы попытаться вторгнуться в их секреты.
Он старательно пересчитывает коробки, сознавая всю бессмысленность и нелепость своей педантичности. Количество, конечно, обязательно сойдется. «Кажется, это уже праздничный паек, — думает он. — Но кто его получит? Может быть, дадут граммов по триста на специальные карточки. Но вероятнее всего, в газетах появится сообщение, что «население генерал-губернаторства добровольно жертвует дополнительный паек героическим солдатам вермахта». Мысль, что они опять будут обмануты, доставляет ему какое-то грустное удовлетворение. Он не анализирует это чувство. Оно банально. По сути, все хотят идеала: чтобы подлость была как можно подлее, как можно мельче, лишенная всякой возможности оправдания.
Мгла, смешанная с клубами пара, пропитывается холодной розоватостью. Проходящий вдоль перрона Bahnschütz [37] в огромных фетровых бурках останавливается, смотрит на часы, широко зевает.
Отсюда видны часы на башне таможни. Половина восьмого. Скоро откроют магазины. Он должен зайти к Лиде. Это он сделает, когда будет сгружаться товар на складе «Сполэм». У него будет достаточно времени, чтобы догнать их на вокзале перед следующим рейсом. Он составляет себе расписание на день и надеется, что на этот раз все у него получится как нельзя лучше. До десяти они должны управиться с вагоном. Потом он сбегает в контору за распоряжениями. Может быть, уже не будет никаких далеких рейсов — ведь сегодня суббота. Он пойдет обедать домой и в конюшню уже не вернется. Вечернюю раздачу корма он поручит Данецу. Наконец он рано ляжет спать. А до этого… он колеблется: навестит Терезу или будет заниматься, читать, конспектировать? Всегда надо чем-то жертвовать. Чаще всего всем.
— Пан начальник… — говорит с укоризной Вишневский.
Михал засмотрелся. Он продолжает стоять на товарной платформе и мешает людям заниматься погрузкой. Он спрыгивает на перрон.
— Кончайте, кончайте, — говорит он, чтобы придать себе уверенности.
Не надо их подгонять. У них тоже есть свои субботние планы. Через некоторое время, скрипя осями, «фаэтон» выкатывается за ворота. Они едут по грязной широкой улице. С правой стороны — за забором черные деревья и запорошенные снегом холмы старых фортов. С левой — тюрьма. Над высокой каменной стеной окна закрыты железными «корзинами». Из застекленной сторожевой вышки торчит ствол пулемета. Тротуар до самой мостовой огражден колючей проволокой.
Михал с Данецем и маленьким кривоногим Куликом сидят на козлах. Пацула и Вишневский устроились среди бочек и коробок. Сколько километров они уже вот так проехали вместе. И несмотря на это, между ними есть какая-то преграда. Михал чувствует себя чужим среди этих людей. Он знает, что и они не считают его своим. Вот и сейчас он перехватывает их понимающие улыбки и взгляды и чувствует, что они заговорщически о чем-то договариваются.
Кулик слегка кивает головой, а Данец, переложив вожжи в левую руку, правой лезет в карман.
— Шеф, — говорит он доверительным тоном, — это для вас.
На Данеце грубая поддевка из военного сукна. Он что-то осторожно достает из кармана. Это плитка шоколада. Виден уголок ее в твердой глянцевой бумаге.
— Откуда это у вас? — спрашивает Михал растерянно. В ответ раздается взрыв смеха.
Данец подбадривающе толкает его локтем в бок.
— Сегодня Николай Чудотворец, — говорит он.
Конечно. Михал совсем забыл об этом. Но он не сдается.
— Почему вы должны делать мне такие подарки?
Они опять смеются. В этом смехе есть оттенок презрения.
— Это не от него, — вмешивается Пацула. — Это от конвоира.
— Оставьте лучше своим детям, — говорит Михал.
Они опять смеются. Смеются над ним. Кулик наклоняется, поднимает край грязного одеяла, которым прикрыты козлы.
— Посмотрите: себя мы тоже не обидели.
Под мешком с сеном, между тряпками, поблескивает около десятка таких же плиток.
— Спасибо, — говорит Михал.
Он украдкой перекладывает шоколад из кармана Данеца в свой. Потом достает пачку «Юнака» и, пристыженный, угощает всех по очереди.
* * *
Через стекло витрины ему видно, что у Лиды покупатель. Чья-то мощная фигура стоит, опершись локтями о прилавок. Вход немного ниже уровня тротуара — к нему ведут две каменные ступеньки. Это маленький невзрачный магазинчик мужской галантереи, один из тех, в которых посвященные могут приобрести самые неожиданные, уже не встречающиеся в открытой продаже товары, начиная с солонины и кончая отрезами на костюм. Колокольчик над дверью приветствует Михала стеклянным дребезжанием. Лида и мужчина, стоящий у прилавка, поворачивают головы. В движениях Лиды есть какое-то сопротивление, какая-то скованность. Видно, что она с трудом сохраняет деланное спокойствие. У нее круглое кукольное лицо с большими глазами и коротким тупым носиком. Светлые волосы вьются надо лбом тонкими колечками. Красота ее простоватая, даже немного вульгарная.
— Здравствуйте, — говорит Михал.
— Здравствуйте, — отвечает Лида. — Что вам угодно?
Покупатель у прилавка недоброжелательно рассматривает его уголком глаза. У него вид провинциала. Коричневая фетровая шляпа, непомерно длинное пальто с меховым воротником. Он выбирает галстуки. Один, с довольно странным сочетанием цветов (желто-красные полоски на зеленом фоне), он держит в своих грязных толстых пальцах. «Этот безвредный», — заключает Михал свои наблюдения. Но данная ситуация застала его врасплох. Он был уверен, что в это время Лида будет одна. Он быстро пробегает глазами по предметам под стеклом прилавка. Посредине лежат картонные коробочки с запонками.
— Покажите мне запонки, — просит он.
— Вам металлические?
Михал делает дурацкую мину, раздувает ноздри, поджимает нижнюю губу.
— А пермалутровые у вас есть? — говорит он гнусавым голосом парня из предместья.
Он внимательно смотрит в лицо Лиды. Он видит, что уголки ее губ вздрагивают, но она не улыбается, не обнажает зубы. Зубы у нее крупные, пожалуй, не гармонирующие с ее небольшим лицом, но когда она улыбается, то перестает быть куклой и в ней неожиданно обнаруживается характер.
— Вы имеете в виду перламутр, — поправляет она его серьезно.
Михал пожимает плечами.
— Хорошо. Пусть будут перламутные.
Теперь он, кажется, попал. Она быстро отвернулась, роется в ящиках.
Покупатель в длинном пальто прерывает их ворчливо:
— Ну так как, мадам? Сбавите или нет?
— Я действительно не могу, — говорит Лида сухо. — Я на галстуках почти ничего не зарабатываю. Советую вам взять, — добавляет она мягче. — Они хорошего качества.
Покупатель в раздумье пропускает галстук между пальцами. На его лице написана скупость и недоброжелательство. Наконец, бормоча, он кладет его на прилавок.
— Я подумаю, — говорит он и выходит, обдаваемый звонким дождем колокольчика.
— К чему эти шутки, Павел, — говорит Лида с укоризной.
— Я хотел тебя рассмешить.
— Ох, нет причин для смеха, — вздыхает она.
— Что случилось? Был Старик?
— Да. Скверная история.
Она украдкой бросает взгляд на дверь и наклоняется к нему, хотя они в магазине одни.
— Клос арестован.
— Когда?
— Вчера ночью.
Некоторое время они стоят молча, глядя друг на друга. Но Михал не видит Лиды. Он видит худощавую фигуру на кривых ногах, белесого блондина с длинным носом и светлыми, слегка косящими глазами, лицо без возраста, хитрое и унылое, как будто постоянно мучимое плохими предчувствиями.
Девушка мягко касается его плеча.
— Выпил бы чаю, Павлик? У меня натуральный.
Михал смотрит на часы. Он смело может подарить себе десять минут.
Они идут за перегородку в глубине магазина. Здесь очень тесно. Под стеной громоздятся коробки с товаром. Лида включает электрическую плитку на маленьком столике, ставит на нее горшочек с водой. Они садятся. Она на единственный стул, он — на низкую табуретку.
— Ты уже кого-нибудь предупредила? — спрашивает он.
— Нет. Кроме тебя, еще никто не приходил.
— Прежде всего Роман, — размышляет он вслух. — Рыжий… — поправляется он, раздражаясь. Лучше бы не подчеркивать своей ошибки.
Лида делает вид, что ничего не заметила.
— Старик просил, чтобы ты взял на себя все его явки.
Михал наклоняет голову. Еще одна нагрузка. Теперь у него уже совсем не останется свободного времени. В нем растет глухая ненависть к конюшне на Цельной, к подыхающим лошадям, к кучерам, от которых всегда разит водкой. Сейчас они, наверно, кончают выгружать в «Сполэм»’е и скоро поедут назад на вокзал. А Роман живет далеко. Но это самое важное. Теперь у него не остается ни секунды. Он должен немедленно туда бежать. Лида разливает чай в фаянсовые кружки.
— К сожалению, у меня нет сахара, — говорит она. — Хочешь с сахарином?
Михал отрицательно качает головой. Берет кружку, касается губами горячей терпкой жидкости. Как это прекрасно! Он уже не помнит, когда последний раз пил натуральный чай. Михал щурит глаза, наслаждаясь обвалакивающим его легким приятным дурманом.
Вдруг быстрым движением он отодвигает кружку.
— Послушай, Лида, а он тоже знал про этот «ящик»?
Девушка утвердительно кивает головой.
— Да. Старик меня ликвидирует. Он просил, чтобы ты искал другое помещение.
— Ну хорошо, а ты?
Лида пожимает плечами, впервые улыбается. В блеске ее крупных зубов, в выразительном изгибе губ есть умное легкомыслие и смелость.
— Ах, я не знаю никаких адресов и фамилий.
— Все равно, — взрывается Михал. — Тебе нельзя здесь оставаться!
— Пойми, Павлик, — отвечает она тихо, — ведь этим магазином я содержу всю семью.
— Но это безрассудство, — настаивает он, — это… — Он хотел сказать «самоубийство», но не решился.
Как-то стало стыдно. Он знает, что оба думают сейчас об одном и том же. И наконец Лида произносит это вслух:
— Какое мы имеем право заранее предполагать, что он продаст?
У Михала на языке уже готовая формула, что соображения безопасности требуют всегда предвидеть самый плохой оборот дела, но он не решается произнести ее.
Ощущая неприятную слабость в сердце, он видит перед собой тщедушного некрасивого человечка, вступающего в одиночку в жесточайшую борьбу. Холод ужаса сжимает его голову. «Я бы не выдержал», — думает он.
В дверях снова зазвенел веселый колокольчик.
— Я должен идти, — говорит Михал, вскакивая как ужаленный.
Второпях он сжимает двумя руками маленькую теплую руку девушки. Он хотел бы ей сказать, что очень любит ее, но у него нет времени для прощания. В магазин вошла невысокая, полная женщина, всем видом своим показывая, что она постоянная покупательница.
— Дорогая, — щебечет она, — у тебя есть то, что ты мне обещала?
— Не делай глупости, Лида, — бормочет Михал. И, надвинув на уши лыжную шапку, выбегает.
Роман живет на первом этаже большого дома в стиле модерн начала века, с матерью и бабкой. Они снимают томную комнатку у солидного врача. Вход к ним через большую приемную. Как всегда, здесь много пациентов. Главным образом деревенские женщины в платках, под которыми они тщательно скрывают пустые корзинки. Да, у крестьян теперь есть деньги, они не жалеют их на лечение. В воздухе стоит кислый запах творога и пота. Иллюстрированные журналы — «Фаля» и «Ди Boxe» — лежат нетронутыми на столиках.
Сопровождаемый горничной в белой наколке, Михал энергичным шагом проходит приемную, стучит в дверь. Он чувствует на себе ленивые любопытные взгляды. Стучит еще раз. Ему кажется, что он ждет очень долго. «Если бы что-нибудь случилось, — думает он, — служанка, наверно, предупредила бы. Она знает меня в лицо».
Наконец за дверью слышится шлепанье туфель. Ему открывает бабка Романа, обрюзгшая морщинистая женщина в не застегнутом на груди черном фланелевом платье. Волосы у нее всклокочены, на дряблых щеках отпечатки складок подушки.
— А, это вы, — удивляется она. — Ромека нет дома.
Михал входит в комнату, закрывает за собой дверь.
— Простите, — говорит он, — у меня к нему очень важное дело.
— Что-нибудь случилось? — Маленькие слезящиеся глазки смотрят на него с испугом. — Он вернется только к обеду. Он все время где-то носится, — добавляет старуха плаксиво. — Не сидится ему дома.
Михал рассматривает маленькую комнатку, тесно заставленную тяжелой мебелью, которая стояла когда-то в большой квартире. На шкафах возвышаются чемоданы и коробки. Под окном на плетеных подставках целые джунгли растений. В комнате темно и душно, как в бане.
— Прошу вас, успокойтесь, — говорит он, — ничего не случилось. Речь идет о простой предосторожности. Ромек должен отсюда уйти… По крайней мере на какое-то время, — добавляет он, видя, как старая женщина мягко сползает в кресло.
И все-таки лучше разговаривать с ней, чем с матерью Романа. Та уже засыпала бы его беспокойными вопросами. Старуха бессильно складывает увядшие руки.
— Если бы я знала, где он… я пошла бы, побежала бы… Но он никогда нам ничего не говорит.
Михал нарочито беспечно улыбается.
— В этом нет необходимости. Нет никакой спешки. В самом деле, ничего не произошло. Я, пожалуй, напишу ему несколько слов. Только, — он строго смотрит на сморщенное обрюзгшее лицо, — эту записку передать лично ему. Никто другой не должен ее читать.
Старуха медленно кивает головой, как послушная девочка.
— Можете мне доверять, — говорит она слабеньким, дрожащим голосом. — Для меня тайны Ромека священны.
Михал достает блокнот. Склонившись над нелепым столиком, покрытым металлическим листом с выбитыми на нем турецкими узорами, выпадающим из общего стиля обстановки, он коряво выводит плохо зачиненным карандашом: «Клос попался. Немедленно смывайся из дому. Предупреди тех, чьи адреса он знал (Короткий? Вацек? Оса?). Ящик у Лиды ликвидирован. Скажи ребятам. Старик поручил мне принять дела Клоса. Держись. Павел».
Михал на минуту задумывается, не добавить ли еще чего-нибудь, потом складывает записку до размеров очень маленького квадратика и протягивает ее старухе. Он видит, как прямые синеватые пальцы опускают ее в декольте.
— Спасибо вам, — говорит он.
Бабка Ромека встает с кресла, подходит к нему так близко, что он слышит мышиный запах ее седых волос. Она жалобно мигает и вздыхает:
— Бедные вы мои. Затравленные, как звери. Какая же у вас ужасная жизнь!
Она протягивает к Михалу руки. Он наклоняется и дает ей запечатлеть на своем лбу влажный мягкий поцелуй. Но сразу же выпрямляется, как пружина.
— Не жалейте нас, пожалуйста, — говорит он, дерзко улыбаясь. — Наша жизнь прекрасна.
Проходя через прихожую, Михал посмотрел на часы. Прошло уже полтора часа, как он оставил своих возчиков. Он выбегает на холодную светлую улицу. Трамвай как раз приближается к остановке. Задевая людей, Михал бежит большими прыжками и уже на ходу вскакивает на подножку. В его ушах звучит ироническое эхо его собственных слов: «Наша жизнь прекрасна».
В воротах товарной станции царит неописуемая суматоха. Телеги и грузовики пробираются в обе стороны, кучера ругаются, растаявший на солнце снег фонтаном бьет из-под колес.
Михал побежал на первый путь, но здесь не было ни его товарной платформы, ни его вагона. Он спрашивает проходящего железнодорожника. Тот равнодушно пожимает плечами. Для достоверности Михал еще раз обходит здание таможни. Доверху нагруженный «фаэтон» стоит с другой стороны у стены. Головы лошадей скрыты в мешках, из которых через дырки вылезает сено. Неподалеку на пустых ящиках, сваленных у дома, сидят люди. Они курят. Среди них конвоир с завязанными шарфом ушами. Он сосредоточенно жует пайку черного хлеба. Они заметили Михала и смотрят на него с осуждением. Михал подходит к ним. Он ненавидит их в эту минуту.
— Уже погрузились? — неуверенно спрашивает он.
— А что вы думали? — ворчит Данец.
— Надо было подписать и ехать.
Конвоир задерживает в воздухе руку с хлебом.
— Если будет недостача, кто будет отвечать? — прошамкал он с полным ртом.
— Дайте спецификацию, — просит Михал.
Он с яростью вырывает из рук конвоира розовую бумажку, расправляет ее на ящике и не глядя подписывает.
* * *
Контора фирмы «Экспедитор» гнетет Михала еще больше, чем конюшня. Он всегда чувствует себя здесь виноватым. С широкой лестницы старинного дома через застекленные двери он попадает прямо пред очи шефа. Нет даже прихожей, чтобы перевести дух.
Когда-то это был бальный зал какого-то магната. На высоком потолке еще виднеются почерневшие лепные украшения. Теперь это большое помещение разделили временными перегородками из фанеры. Окна одной из его частей выходят на рынок, и здесь, среди великолепия светлого пространства, на фоне узорчатого турецкого платка, висящего на стене, за огромным дубовым столом, восседает сам шеф. Его окружают многочисленные знаки жизненного успеха и силы. Перед ним на зеленом сукне лежит плетеный хлыст с серебряной рукояткой. Рядом, за маленьким, по-детски хрупким столиком, сидит секретарша, панна Кика — большеглазая, гибкая, как змейка, тщательно накрашенная. Она без устали хлопает выгнутыми ресницами. Кажется, что она едва сдерживает дрожь восторга, которая охватывает ее в ожидании приказов начальника. В глубине из золоченых рам глядят изображения породистых собак и лошадей. Это, разумеется, лошади не из конюшни на Цельной. Самые изысканные англо-арабы с втянутыми боками, сухими, жилистыми ногами и маленькой плоской головой, обращенной к зрителю нервным и гордым движением длинной блестящей шеи.
Между шефом и этими животными существует заметное сходство. Он тоже соединяет в себе рафинированную элегантность и силу. У него длинные стройные конечности, молодое костлявое лицо, тонкие губы, высокий лоб с вдавленными висками и выражение холодной надменности в серых глазах. Тщательно прилизанные волосы так светлы, что издали шеф кажется лысым и, несмотря на молодость и энергичную линию челюсти, он напоминает хорошо сохранившуюся мумию.
Остальной персонал, две пожилые стенотипистки дворянского происхождения и бухгалтер с больным пищеводом, сидят в другой, более темной части зала. Там же, в углу возле перегородки, стоит столик Михала, за которым он проводит каждый день по несколько минут, составляя сводки о расходе фуража и отчет о сделанных рейсах, согласно доставленным ему накладным. Розовые, желтые и белые бумажки — все они враги жизни, все они делают ее невозможной.
Сейчас, входя через стеклянную дверь, он сразу же замечает, что этот день не такой, как все. Повсюду звучат веселые возгласы. Кика стоит за высокой спинкой кресла шефа и трется о плечо работодателя тугой грудью. Шеф, наклонив к ней голову, смеется, обнажив ровные белые зубы. Его волосатые костлявые руки свободно лежат на зеленом сукне, издали блестит массивный перстень с печаткой.
Михал окидывает контору быстрым взглядом. Деревянная стенка делит зал до половины, поэтому, стоя в дверях, можно видеть все помещение. На каждом столе он замечает перевязанные цветной лентой кульки со сладостями и пряничного, покрытого глазурью святого Николая. Только его столик в углу пуст. На нем нет ничего, кроме стопки накладных.
Михал говорит себе, что это его не трогает, что ему все равно, но вместе с тем он знает, что от него смердит конским навозом, и понимает, что вторгся в это веселье, как Пилат в символ веры.
Он неловко кланяется и спешит в свой угол.
— Алло, уважаемый, — останавливает его голос шефа, еще трепещущий от смеха, но уже холодноватый. — Алло, почему так поздно?
Направляясь сюда, он пробовал найти какое-нибудь оправдание, но так и не придумал. Он начинает импровизировать на ходу.
— Каштанка опять легла, — говорит он. — Мы ее утром с трудом подняли и выехали с опозданием. Самое время избавиться от этой клячи, — добавляет он.
Тишина, воцарившаяся после этих слов, звенит у него в ушах. Покрытые рыжими волосами пальцы шефа лениво шевелятся на сукне.
— Да, Каштанка с брачком, — через некоторое время отвечает он сдержанным голосом, — но пока еще тянет.
Михал чувствует, что это только начало. Все смотрят на него. И действительно, шеф встает из-за стола и начинает расхаживать по ковру. Выглядит он прекрасно. На нем грубошерстный пиджак с разрезом сзади, пепельного цвета бриджи и узкие красноватые сапожки из крокодиловой кожи.
— Дело в том, — говорит он, — что вы не следите за перевозками. Час тому назад с вокзала звонил конвоир, сказал, что вы куда-то пропали и нет никого, кто бы мог подписать накладные.
Да, этого Михал не может объяснить. Движимый отчаянной надеждой, он загораживает шефу дорогу и пробует заглянуть ему в глаза, чтобы тот понял.
— Поверьте, у меня было дело. Такое… Ну, бывают в наше время такие вещи…
Шеф садится в свое высокое кресло, иронически смотрит на него.
— В конце концов, у кого вы работаете? У меня или где-то в другом месте?
На это Михал не находит ответа. Он чувствует, что становится маленьким-маленьким, как червь, выползший из конского навоза.
— И еще один вопрос, — добавляет неумолимо шеф, барабаня тупыми ногтями по столу. — Я сегодня провел ревизию фуража в конюшне. Не хватает четырех мешков овса.
Михал опускает голову, чувствуя, как щеки его заливает краска. Не глядя, он угадывает улыбку панны Кики, ту сладострастную улыбку, которой женщины приветствуют падение боксера на ринге. Должен ли он сказать, что передавал ключи Данецу? Нет, он не может этого сделать.
— Я всегда выдавал корм под расписку, — бормочет Михал. — Если вы недовольны мной… — уставив глаза в пол, он ждет приговора.
Стенотипистки за перегородкой свистящим шепотом обмениваются какими-то своими замечаниями, бухгалтер щелкает на счетах.
— Я надеюсь, что вы сделаете из этого выводы, — объявляет наконец шеф сухим любезным голосом. — Я в любую минуту могу найти другого заведующего конюшней, но мне рекомендовали вас люди, к которым я испытываю уважение.
Не поднимая глаз, Михал подходит к своему столику. Берет в руки накладные. «Есть вещи существенные и несущественные», — думает он. Но несмотря на это, руки у него дрожат, он не может прочесть написанных химическим карандашом заявок.
— Прикажите запрячь гнедого в одноконную бричку, — доносится до него голос шефа, — и пошлите Кулика к Гнотке. Там надо перевезти диван. А большой «фаэтон» отправьте к Бойко за гвоздями.
Михал знал, что Гнотке является управляющим дома, в котором живет шеф, и что этот рейс будет бесплатным. Он знал также, что гвозди с фабрики Бойко будут отправлены по железной дороге не раньше, чем в понедельник. Он обещал матери прийти сегодня обедать, но что он может сделать? И на вечернюю раздачу кормов он тоже должен остаться. С передачей ключа покончено.
«Есть вещи существенные и несущественные, — повторил он про себя с отчаянным упорством. — Есть вещи существенные и несущественные».
Но в данную минуту он не видит между ними разницы. Он не может поверить философам.
Позвякивая стеклами, дребезжа венками из жести, покрытой серебрянкой, во двор въезжает катафалк. Черные кони заворачивают в галопе, сталкиваясь боками. Внезапно осаженные, они фыркают, беспокойно бьют копытами. От них пышет влажным жаром. Темно. Над островерхой башенкой на крыше конюшни горит звезда. Катафальщики в перекошенных треуголках — гротесковые тени наполеоновских маршалов или полишинелей — качаются на козлах.
Они начинают блеять нестройными пьяными голосами:
Был я как-то, уха-уха!
В Радомышле, уха-ха!
Там упала, уха-уха!
Баба с дышла, уха-ха!
Служащие «Экспедитора» окружают их дружелюбным участием. Вишневский, ни о чем не спрашивая, распрягает лошадей.
— Видно, неплохие похороны были, — говорит Данец.
— Как отсюда до Прошовиц! — отвечает с воодушевлением один из полишинелей, валится вниз, попадает прямо в объятия Пацулы и достает что-то из кармана.
— Ребята, есть четвертинка, — вопит он торжествующе. Михал незаметно выскальзывает за ворота.
В трамвае от голода и усталости у него подкашиваются ноги. Он опускается на освободившееся место, делая вид, что не замечает стоящую в проходе старую женщину.
«Пойду к Терезе», — думает он. До комендантского часа есть еще немного времени. Он пойдет к Терезе. Он имеет право на какой-нибудь отдых. И сразу мир становится терпимым, почти приятным. Он представляет, как будет рассказывать Терезе о Каштанке, о том, как ее поднимали рабочие, о благородном негодовании шефа, о возвращении катафальщиков. Он слышит свой голос, полный сарказма, и видит, как дрожит кончик носа у Терезы от сдерживаемого смеха, как ее глаза, темные, с обведенными фиолетовой каемкой зрачками, то поблескивают веселым удивлением, то снова щурятся в ожидании главного. И вскоре вся горечь дня превратится в нелепую шутку, в кошмарный юмор висельника. Но вместе с тем он будет знать, что она понимает и чувствует подоплеку его веселья, и, смеясь до изнеможения — как он только может смеяться с нею, — будет ощущать тепло ее духовной близости.
Обрадованный перспективой встречи, он звонит в дверь, условный сигнал: два длинных, два коротких, — окончательно просветлев, когда вместо матери ему открывает Мачек, сын хозяйки. Мачек — щуплый юноша с густыми светлыми волосами и забавным носом, усеянным коричневыми веснушками. Он посещает занятия подпольного политехнического института, дома клеит из картона модели самолетов, у него вид человека, довольного жизнью.
— Привет, Михал, — говорит он, — как дела?
— Как сажа бела, — отвечает Михал, но без горечи, и в эту минуту ему кажется, что действительно все в порядке.
В комнате матери тоже нет, но он уже слышит, как она идет из глубины квартиры, — наверно, заболталась с Ядвигой. Она ускоряет шаги, почти бежит. В звуке этих шагов заключена история долгого, полного муки ожидания. И вот, не успев еще взглянуть в ее прозрачное лицо, в эти глубоко запавшие неспокойные глаза, Михал начинает бунтовать.
— Я не мог прийти к обеду, — говорит он раздраженным, обороняющимся тоном, застывая в приветственном объятии. — Я действительно хотел, но не мог.
— Почему ты сердишься? — спрашивает мать.
Чуть отступив, она смотрит на него с нежностью и печалью.
Михал зол на себя, что не смог сдержать этого взрыва, но сложный механизм семейной любви уже действует.
— Ты не представляешь себе, — говорит он с обидой, — как мучит меня сознание, что ты беспокоишься безо всякой причины.
Она продолжает смотреть на него, и страдальческая снисходительность этого взгляда погружает его в бездну стыда. Наконец мать с трудом улыбается.
— Есть клецки и немного картошки. Сейчас я тебе подогрею.
Когда они уже сидят друг против друга, по обе стороны стола, Михал думает над тем, как бы это все загладить. Он часто мечтает о том, чтобы был какой-нибудь способ, дающий возможность заглянуть непосредственно человеку в сердце, без необходимости пробиваться сквозь несущественные мелочи, сквозь капризную пену нервного возбуждения, высокомерия, сквозь бесчисленные рефлексы самообороны.
Мать кажется ему сегодня более усталой и сгорбленной, чем обычно. Она тупо глядит на слепое от черной шторы окно, веки у нее покраснели. Он нежно кладет руку на ее узкую, глянцевую, как пергамент, ладонь. Тогда она встает, подходит к ночному столику у постели, молча возвращается и кладет перед Михалом зеленоватый твердый конверт, покрытый уродливыми печатями и штемпелями. Это письмо от Моники. Письмо из лагеря.
Несмотря на черных орлов, напрягших жадные когти, несмотря на толстые цифры, копошащиеся на бумаге, словно черви, письмо от сестры было все таким же по-детскому отважным.
«Liebe Mutti! Ich bin gesund und fühle mich gut» [38]. Несколько следующих строчек грубо замазано фиолетовой тушью. Вид этого причиняет боль, как будто рот зажала чья-то гнусная рука. Из-под этого кляпа вырывается уже только несколько слов в нижнем углу: «Ich begrösse Dich herzlich, Deine Monika» [39].
Михал не говорит ни слова, мать тоже молчит. Никакие утешения не имеют смысла. Это и так самое лучшее, чего они могут ждать. Единственное, что им остается, — это сдерживать свое воображение. Но в итоге этого большого напряжения, испытываемого сейчас Михалом, появляется крупица раскаяния. Он не пойдет к Терезе. Не оставит мать одну.
Михал украдкой поворачивает голову к стене, у которой стоит кровать. Там, рядом с фотографией покойного отца, висит фотография Моники. Она смотрит веселыми, умными глазами, безгранично веря в свою молодость, счастливая своим дерзким гимназическим обаянием. Не впервые соседство этих снимков вызывает в Михале дрожь мистического страха.
Он наклоняется к матери и говорит:
— Не беспокойся. Все будет хорошо. Увидишь.
Старая женщина вздрагивает, как будто вдруг очнувшись ото сна. Ее лицо неестественно спокойно.
— Ах, я совсем забыла! Сюда заходил твой приятель. Такой молодой, симпатичный…
— Рыжий?
— Да, рыжий. Он просил передать тебе вот это.
Она лезет за вырез платья. «Если бы я был гестаповцем, — думает Михал, — я бы знал, где искать эти записки». Он разворачивает сложенный маленьким квадратиком листок. «Я живу у Гольчей. Приходи сразу, как только сможешь. Рыжий».
* * *
Стоит мороз. Спокойный, прозрачный мороз без ветра. В высоком небе ярко горят звезды, похожие на осколки стекла. С грохотом опускаются жалюзи закрываемых магазинов. На улицах еще много людей. Они пробираются мелкими, скованными холодом шажками в ущельях между стенами домов и белеющими в мутном свете снежными сугробами. Мостовые почти пусты. Изредка проедет автомашина, светя узкими щелочками затемненных фар. Михал любит мороз, суровое веселье мороза. Но сейчас он очень сердит. Ему хочется отругать Романа. Поселиться у Гольчей! Если бы он хоть немного подумал, то сообразил бы, что тот так и сделает. У Гольчей! Збышек Гольч, щуплый, субтильный, как девушка, умник, с которым он познакомился на подпольных семинарах по философии — еще летом, когда не работал в «Экспедиторе» и у него было время заниматься, — уже три месяца как сидит в тюрьме. Его упрятали за торговлю сукном. В этом как будто нет ничего особенно опасного, но Роман не должен отдавать себя в руки глупой капризной Ирены. Михал обязан сказать ему об этом во имя их будущей безопасности, но вместе с тем он знает, что Рыжий высмеет его и не даст себя уговорить. Михал чувствует бессилие своего гнева, и это его злит.
Из-за угла выкатывается дребезжащая пролетка. На ее заднем сиденье, развалившись, сидит огромный святой Николай с ватной бородой, в высокой красной митре, с подпрыгивающим посохом в руках. Перед ним на узкой скамеечке трясутся две детские фигурки — черный чертик и белый ангелок.
Михал лезет в карман, нащупывает в нем плитку краденого шоколада. Он забыл отдать ее матери. И вдруг весь прошедший день кажется ему одной мучительной цепью нелепостей.
Роман — в спортивном свитере и серых гольфах. Он шлепает домашними туфлями, попыхивает трубочкой, у него вид счастливого домоседа.
— Будь как дома, — говорит он Михалу, и его маленькие зеленоватые глазки светятся гордостью хозяина.
Почти пустая, похожая на ящик комната в новом доме. Низкая, покрытая домотканым шерстяным покрывалом тахта, низкая полка для книг, два кресла, напоминающие садовые стулья, и круглый стол светлого дерева. Стенные шкафы, никаких картин, никаких цветов. Из-за покрытых бесцветным лаком дверей доносится звон моющейся посуды.
— Предупредил ребят? — спрашивает Михал.
— Конечно.
Садятся. Роман с любовью трет ручки кресла мощными руками, его широкое, покрытое юношеским пушком лицо светится счастьем.
— Ирка, Павел пришел, — кричит он в закрытую дверь.
— Сейчас закончу, — отвечает пронзительный девичий голос.
Михал знает, что не сможет говорить свободно.
— Новый «ящик», — шепчет он, — устроим временно в чайной «Розочка». Предыдущий провал ее не затронул. Я думаю, что можно снова активизироваться.
Роман кивком головы выражает согласие.
— Теперь надо бы подумать, откуда это идет…
— Наверняка из «Семерки», — говорит Роман, — из этой шпиковской забегаловки. Клос ходил туда последнее время. Хвалился, что у него стукачи раскалываются.
— А теперь он сам расколется.
Роман кладет трубку на стол.
— Думаю, что не расколется. Он большой ловкач.
Михалу кажется, что Рыжего мало волнует создавшееся положение. Видно, что он наслаждается внезапно обретенной свободой.
Кухонная дверь открывается, и входит жена Гольча. На ней вишневый шелковый халатик, голубые туфли без пяток с пушистой белой оторочкой спереди, на босу ногу. Тяжелые каштановые волосы спадают на ее низкий лоб, посредине маленького личика вызывающе горят красным пятном губы.
— Привет, Павлик, — подает она Михалу худенькую холодную руку.
Роман не спускает с нее глаз, кажется, что он светится изнутри. Достаточно на него взглянуть, чтобы понять бесполезность всяких нравоучений. И Михал отказывается от нравоучений. Он ощущает почти болезненную зависть. Ему хочется перестать быть собою — ему хочется быть таким же беглецом в страну молодости.
— Знаешь что? — говорит Рыжий. — Я думаю, надо тяпнуть. Ну-ка, Ирка, принеси, что у тебя там есть.
— Я должен идти, — защищается Михал.
— Не темни, старик. У нас есть время.
Ирка приносит из кухни бутылку водки, две рюмки, тарелку с нарезанным соленым огурцом. Роман наливает.
— Иди сюда ко мне, Ирусь. — Он сажает ее на колени, обнимает. — Ну, поехали!
Рыжий и Ирка попеременно пьют из одной рюмки. Ее губы оставляют на стекле красный след. Роман старательно прикладывает к нему губы. Они все теснее прижимаются друг к другу. Правая рука Романа исчезает в вырезе вишневого халатика.
Михал сидит взбешенный, одинокий, с рюмкой в руках. Он догадывается, что на Ирке под этим халатиком ничего нет. Каждым своим нервом он угадывает шелковистую, горячую гладкость ее кожи.
А они слились устами, закрыли глаза. Их лица побледнели и застыли. Кажется, что они умирают пронзительной, сладкой смертью. Голубая туфелька падает на пол с сухим, как будто бы забытым стуком, пола халата распахивается, открывая смуглую детскую ногу.
Вдруг Ирена вскакивает с колен Рыжего, задевая стол.
— Что о нас подумает Павел? — восклицает она, ища ногой туфель и поправляя растрепанные волосы.
В ответ Роман разражается радостным, грохочущим смехом. Продолжая смеяться, он подливает водки.
— Принеси-ка лучше вилку, — говорит он. — Нечем поддеть огурец.
— И еще один вопрос, — говорит Михал сдавленным голосом, когда Ирена исчезает за дверями. — Мы должны изменить клички.
— У меня уже есть, — отвечает громко Рыжий. — С этого дня я называюсь Ирена.
И Рыжий, вызывающе глядя в лицо Михала, поднимает рюмку.
Когда он возвращается, город почти пуст. Приближается комендантский час. Большой белый рынок залили голубые воды луны. Чернеет матовая мостовая. От остановки на углу отходит одинокий, наполненный голубым светом трамвай. Постепенно выплывает бетонный островок между путями. Михал останавливается как зачарованный. На краю этого островка вделана в мостовую красная сигнальная лампочка. И над ней, как над угольком угасающего костра, стоит маленький ангел в золотой короне. Белая рубашка складками ниспадает до самой земли, крылья криво свисают с худых опущенных плеч. Ребенок молитвенно сложил руки над мерцающим внизу светом. Может быть, он пытается согреть их? Розовым светом светятся маленькие пальчики.
Сдерживая волнение, Михал идет быстрее. Из-за угла долетает каменное эхо шагов патруля.
Он застает мать уже в постели. Она сидит выпрямившись, с лицом, обращенным к двери.
— Мне стало как-то нехорошо, — объясняет она. — Я устроила себе отдых. Решила почитать в кровати.
— Ну, конечно. Правильно.
— Я все тебе приготовила. Сыр и хлеб. В кастрюльке немного брюквы, разогрей ее на плитке.
— Хорошо. Обязательно.
Михал садится за стол, жует кусок сухого белого сыра. Он слышит шелест переворачиваемой страницы, потом легкий протяжный вздох и через минуту ритмичное дыхание. Он на цыпочках подходит к кровати. Рука с книгой лежит на одеяле, мать спит с раскрытым ртом. Михал осторожно снимает с нее очки, кончиками пальцев робко поправляет упавшие на лоб волосы.
Он очень устал. Он с тоской поглядывает на свою уже постланную тахту в глубине комнаты. Ему жаль этих часов одиночества и тишины. Он гасит верхний свет, зажигает маленькую лампочку на столе и достает из шкафа толстый том «Истории искусств» Гаммана. Он читает о трудностях, которые испытывал Харменс Рембрандт ван Рейн, работая над своим «Ночным дозором». Этот отчаянный спор со старшинами цехов, с тупыми, почтенными мещанами, кажется ему тривиальным и бессмысленным. Он зевает, каждый абзац перечитывает по нескольку раз, потому что имена и факты вылетают из головы, не оставляя в памяти никакого следа. Наконец он понимает, что ничего из сегодняшних занятий не получится. Но все-таки ему не хочется прекращать их. Тогда он достает из ящика блокнот и черную клеенчатую тетрадь. С тревогой думает он о том, что сейчас ему будет стоить меньших трудов. Ему хочется описать свою встречу с ангелом на пустом рынке. Он пробует представить себе белую фигурку в короне, такой, как видел ее, покорно склонившейся над маленьким источником тепла. И тут он снова вспоминает о шоколаде. Оп тихо выходит в коридор, на ощупь находит карман висящего на стоячей вешалке кожуха. Под дверью кабинета отца Мачека виднеется тоненькая полоска света. Михал возвращается в комнату, кладет плитку шоколада на ночной столик возле матери. Он понимает, что этим он окончательно завершил сегодняшний день.
«Не буду писать, — решает он. — Поболтаю немного с Мачеком и лягу спать». Он берет со стола сигареты и снова выходит в коридор. Полоска под дверями гаснет. В этом кабинете Мачек спит и занимается. Его отец редко бывает дома. У него какие-то таинственные дела в городе.
Михал на цыпочках подходит к двери.
— Мачек, ты спишь? — спрашивает он вполголоса.
Через некоторое время до него доносятся заглушенные расстоянием слова:
— Входи быстрее и не зажигай свет.
Затемнение отодвинуто, длинный треугольник лунного света разрезает комнату, извлекает влажные блики из ручек кожаных кресел. Мачек стоит у окна.
— Посмотри, — говорит он.
В первый момент Михал видит только мозаику густых теней под деревьями.
— Там, на той стороне, — говорит Мачек.
На той стороне, напротив, из приоткрытых дверей парадного сочится желтоватый туманный свет. Отблеск его падает на гладкий верх черного автомобиля. Если пристальнее всмотреться, то можно увидеть перед радиатором полоску голубого света и дрожащее красное облачко под задними колесами. Машина ждет, можно себе представить ее приглушенное пульсирование.
— Видишь их?
Теперь Михал различает в тени, возле парадного, две неподвижные фигуры.
Вдруг желтый свет темнеет от движения каких-то теней. Идут. Первый — громадный верзила в тирольской шляпе и клеенчатом плаще. За ним изможденный мужчина в одном пиджаке, с руками, сложенными на непокрытой голове. Последними идут двое в больших черных шляпах с высокими тульями. Свет в парадном гаснет, все заливает темнота. Отчетливо слышен металлический стук дверцы, и машина медленно трогается с места, приседая и слегка похрапывая.
Мачек и Михал продолжают смотреть на замершую улицу.
— Черт, — говорит Мачек, — опять кто-то попался. Михал не отвечает.
— Черт. Сидишь тут, как мышь в ящике, — шепчет Мачек.
Они не могут оторваться от окна. Наконец Михал отходит, присаживается на подлокотник кресла.
— У меня к тебе просьба, Мачек, — неуверенно начинает он.
— Я слушаю.
— Знаешь, если у нас в доме будет что-то не того, ну, ты понимаешь, нужно будет установить какой-нибудь сигнал.
— А что? Уже чем-то попахивает?
— Да нет, ничего серьезного. Но некоторое время я должен быть начеку. Видишь ли, — добавляет он, — наше окно выходит во двор, а кроме того, я не хочу пугать мать.
Мачек на минуту задумывается.
— Хорошо, — говорит он. — В случае чего здесь будет стоять горшок с примулой.
— Спасибо тебе.
Мачек подходит и сильно, от всей души пожимает Михалу руку.
* * *
Приближалась весна — как всегда, полная надежды. Когда на рассвете он поднимал затемнение, небо вплывало в комнату жемчужной зарею. За окном виднелась деревянная галерейка, окаймлявшая двор с трех сторон. Лоснящиеся перила и покрытые облупившейся коричневой краской балясины были шершавыми от росы. Кирпичная стена напротив отделяла двор от монастырских садов. Он давно приглядел их как путь к отступлению. Лишь бы добраться до винтовой лестницы в конце галерейки. С нее одним прыжком можно перепрыгнуть на стену. Сейчас ветки деревьев набухали пурпуром почек, и по ним уже прыгали лоснящиеся веселые дрозды.
Он открывал окно, захлебывался чистым холодом, терпкостью и сладостью земли. Горький осадок городского дыма был лишь маленькой капелькой на дне этого утреннего бокала.
В воскресенье он ходил на прогулку с Терезой. В колеях загородных дорог отсвечивалось бледное небо, река была полноводная, темно-коричневая, шумела глубоким, торопливым голосом. Они не могли нигде сесть. Земля была пропитана водой, как губка. Они целовались, опершись о ствол прибрежной вербы. Возвращаясь домой, Михал смотрел на окно Мачека, не испытывая никаких предчувствий. Он не ожидал увидеть на нем горшок с примулой. У него было впечатление, что дело Клоса заглохло.
В течение зимы попался только связной Зыга. Его сцапали в поезде на маленькой станции недалеко от города — может быть, это была чистая случайность. Он пытался убежать и, к счастью, получил автоматную очередь в легкие. Умер в полицейской машине.
Для мертвых дело было окончено. Живым весна несла надежду.
Случалось, что в ясный, наполненный шелковыми дуновениями день Михал смотрел на конюшню, на тощих кляч, на тонущий в грязи и навозе двор, как на что-то ушедшее, что не имеет уже значения. И улыбался. Его смешило, что он притворяется, что каждое его слово, каждый его жест — только роль, от которой он может в любую минуту отказаться, от которой он уже, собственно, отказался.
Но разыгрывающаяся драма по-прежнему имела в себе достаточно мрачной страсти, чтобы не позволять слишком часто подобные парения.
Через гетто он теперь проезжал засветло. Лица за проволокой уже не были фосфоресцирующими пятнами. Они красноречиво говорили о полном своем опустошении. Черные рты дышали в дебрях растрепанных бород, глаза дико блестели.
Коридор между ограждениями значительно сократился. Маленькая треугольная площадь с фигурой божьей матери была сейчас за пределами гетто. В окнах убогих домов не осталось ни одного стекла. Разбитые двери валялись у порога или криво свисали с петель. Стекло хрустело под ногами людей в клеенчатых плащах. Они кружили на лестницах, исчезали в темных пастях ворот и снова появлялись, бросая на серые грузовики потертые чемоданы, стенные часы, охапки грязных постелей. Потом однажды здесь появились груженные тюфяками и плохой мебелью крестьянские возы. Новые жители получали во владение «очищенный» квартал.
— Как кончат с ними, примутся за нас, — говорили люди в трамвае.
Если утро было ненастным и холодным, такое предсказание принимали решительным молчанием. Но в погожие дни всегда находился какой-нибудь оптимист.
— Не успеют!
А трамвай набирал скорость и с сумасшедшим дребезжанием мчался через потерянные позиции, через территорию, уже отданную на уничтожение, вычеркнутую из всех списков надежды.
* * *
Без двух минут десять Михал небрежной походкой идет к скрещению аллей перед клумбой магнолий. Терраса летнего кафе демонстрирует в молодом солнечном свете желтые потеки на стене и ряд приземистых облупившихся колонн. Сложенные почерневшие стулья навалены беспорядочной грудой возле закрытых на железный засов дверей в кухню. По грязным мраморным столикам скачут воробьи. Чуть дальше, среди голых кустов, торчит гипсовая голова основателя театра. Она прикрыта шапкой голубиного помета, с нависших бровей свисают его мягкие сталактиты, на припухших щеках и на носу картошкой — белые полосы, каждая из которых кончается замерзшей каплей. Каменная скамья у памятника пуста. На нее падает косая полоска неяркого света, просеянного сквозь ветви больших деревьев, уже присыпанных мглой несмелой зелени. Где-то неподалеку шумит и звенит улица. На повороте у вокзала слышится тонкий веселый скрежет трамвая. Михал замедляет шаги, смотрит на скамью взглядом человека, которого охватило ленивое искушение отдыха. В левой руке он держит свернутую трубкой газету, а правой рассеянным движением гладит отворот расстегнутого полушубка. На самом краю пальцы нащупывают две твердые головки булавок, одну под другой. Он колеблется, медленно идет дальше, в сторону круглой клумбы. Вокзальные часы, которые ему видны отсюда, показывают без одной минуты десять.
У магнолии еще нет листьев, но уже тянутся вверх блестящие красно-коричневые почки. Некоторые начинают уже распускаться, и в трещинах кожуры виднеется розовость и белизна.
Приняв равнодушный вид Михал, прищурив глаза, оглядывается по сторонам. Двое солдат тащат под руки хохочущую толстую девку в порыжевшей меховой шубке.
— Vodka gut! [40]
— Urlaub ist Urlaub [41].
Няньки неистово трясут детские коляски. Продавец гребней с красной бульдожьей физиономией раскладывает свой товар. Из большого деревянного ящика стреляют яркие лучи зеркалец. Посреди дорожки три девочки в чулках в резинку играют в классы. Раскорячившись, они смешно подпрыгивают на худых жеребячьих ногах.
Михал время от времени смотрит на каменную скамью под памятником. Уже больше десяти.
«Это он! — неожиданно подумал Михал. — Это наверняка Дадос».
К скамье подходит плечистый мужчина в куртке из грубошерстной материи, обшитой тесьмой, в высоких сапогах, плотно облегающих толстые икры, с белесыми усами на широком загорелом лице.
Михал обходит клумбу, с трудом сдерживая судорожную поспешность. Мужчина посмотрел на скамейку, но прошел мимо, не замедляя шага.
«Сейчас он вернется», — думает Михал. Он садится прижимается к углу шершавой спинки из песчаника и разворачивает газету. Из-за газеты он следит за удаляющимися мощными плечами и лисьей шапкой провинциального фасона. Мужчина не возвращается. Он сворачивает в улицу, ведущую к центру города. Вместо него сквозь туннель солнечных пятен и дрожащих теней идет жандарм с черной овчаркой на поводке.
Михал пробует читать: «Генерал Мороз обманул трусливые надежды союзников». «Победа ближе, чем вы думаете, — говорит фюрер». «Генерал-губернаторство все активнее участвует в военных усилиях рейха».
Жандарм прошел мимо. Уже пять минут одиннадцатого. «Господа с Даунинг-стрит должны наконец признать свое поражение. Их большевистские союзники…»
Холодная тень падает на газету. Рядом с Михалом садится горбатый человечек в мятом пальто и клетчатой кепке. Чуть ниже воротника, на месте горба, сукно вытерто, виднеются нитки основы. Михал, недовольный, отодвигается дальше в угол. Горбун кладет на колени портфель, достает из него хлеб в промасленной бумаге. Разворачивая бумагу, он бросает взгляд на соседа. Как будто так, из простого любопытства. Он жует хлеб с грудинкой своими заячьими зубами и посматривает на Михала.
Михал колеблется: не встать ли? Но прогулка без цели может показаться подозрительной. Он возвращается к газете: «Господа с Даунинг-стрит…» Горбун заворачивает недоеденный кусок, наклоняется и трогает его за локоть.
— Закурить не хотите?
Пахнуло чем-то неприятным, кислым. В длинных костлявых пальцах коробка «Клубных». Толстые сигареты лежат на гофрированной бумаге.
Удивленный, застигнутый врасплох, Михал ответил заученной фразой:
— Охотно, но немного погодя. Я только что курил.
Прежде чем взять сигарету, он внимательно вглядывается в незнакомца. Серое лицо с длинным носом по-мальчишески озорно улыбается. На правом отвороте пальто у него поблескивают две маленькие булавки.
Одна сигарета кажется Михалу белее остальных. Когда он неуверенно протягивает к ней руку, горбун подбадривающе кивает головой. Да — он попал точно: вместо табака — плотно свернутая инструкция.
Михал прячет сигарету в верхний карман пиджака. «Черт побери, никогда бы не подумал!» — удивляется он.
Они сидят рядом. Солнце нежно ласкает голову. Из громкоговорителя перед вокзалом доносится металлический звук вальса.
— Передайте, пожалуйста, — говорит Дадос, — что курьер с деньгами попался в Словакии. Надо дать новый маршрут.
— Это все?
— И просили сообщить более точные данные о военных эшелонах, идущих на восток.
— Хорошо. Что-нибудь еще?
Осунувшееся серое лицо гаснет, губы брезгливо кривятся. Вид у него жалкий. Ноги в черных башмаках едва достают до земли.
— Вам есть где переночевать? — спрашивает Михал.
— Не надо, — отвечает Дадос с горечью. — Я сегодня возвращаюсь к себе.
На что он обиделся? Может быть, я проявил мало внимания, мало сердечности? Такие люди легко ранимы.
— Чем-нибудь я могу вам помочь?
— Конечно. Скажите, где можно купить эластичные чулки? Расширение вен, — добавляет он сердито.
С этим Михал сталкивается впервые. Черт его знает, может быть, они есть в любой аптеке, а может быть, их вообще нельзя достать.
— Это вам нужно для себя? — спрашивает он, чтобы выиграть время.
— Да, — скрипит Дадос. — У меня эта гадость появилась недавно. Дорога чертовски тяжелая. В горах еще снег по пояс.
— Это вы один?..
— А вы как думали?
Они встают. Михал смотрит сверху на искривленные плечи, на потертую клетчатую кепку. Ему становится неловко оттого, что он возвышается над этим человеком. Это приводит к тому, что его уважение окрашивается нежностью. Они медленно идут в направлении почты. Он должен уходить, искать своих лошадей, но никак не может этого сделать.
— И в Будапеште вы были? — спрашивает он несмело.
— Ну, конечно. Четыре дня тому назад.
Михала охватывает жадное, бешеное любопытство. Он готов вырвать из него весь этот Будапешт — свободные от страха улицы, звенящие шумными голосами и цыганской музыкой кафе, освещенные театры, университет, заполненный молодежью. Он так себе все представляет. От тоски по свободе у него перехватывает дыхание, как от дурманящего аромата.
— Я пробовал в сороковом году, — говорит он, — но не получилось.
Дадос презрительно кривит pot.
— Когда знаешь ходы, то никакой философии не надо.
— Расскажите, как там? Как живут люди?
В возбуждении он начинает жестикулировать, повышает голос.
— Гм, обыкновенно, — говорит Дадос. — Жратва в последнее время подорожала, жиры дают по карточкам. И у них уже чувствуется война.
— Ну, хорошо, а люди? Люди как?
— Люди как люди, — отвечает Дадос.
Михал не отступает. Он упорно придерживается возникшей в его воображении картины.
— А цыганские оркестры играют в кафе над Дунаем?
Горбун останавливается, наклоняет голову, как бы стараясь вспомнить.
— Черт его знает. Может быть, и играют. Я по кафе не шлялся.
— Пойдемте направо, — говорит Михал печально.
С обсаженной деревьями аллеи они сворачивают в старую извилистую улочку. Михал вспоминает, что где-то здесь аптека, в которой работает знакомый Романа. Роман брал у него цианистый калий для всей группы. В случае затруднений он сошлется на Романа.
Мрачное, с полукруглыми сводами помещение пахнет травами и валерьянкой. С резных шкафов глядят полированные лица греческих мудрецов. Телефон находится за шкафами, в глубине.
— Фирма «Собчак»? — спрашивает Михал. — За банками из «Экспедитора» приехали?
В трубке булькает сварливый голос:
— Никто не приезжал. Сколько еще ждать?
— Все в порядке, сейчас будут, — говорит Михал и вешает трубку.
Дадос сидит рядом на низком табурете. Он завернул штанину. В полумраке поблескивает голубая худая икра, переплетенная венами. Девушка в белом халате стоит на коленях, роется в выдвинутом ящике.
— Не знаю, найдется ли такой маленький размер, — говорит она в задумчивости.
Дадос сердито смотрит на нее. Его лицо как бы говорит: нравлюсь я вам или нет — но я такой!
— До свидания, — говорит Михал. Он несмело пожимает узкую руку человека, который четыре дня тому назад был в Будапеште.
На улице на него нахлынула куча забот. Затерявшаяся где-то в центре города телега, неполученный груз, закипающее негодование шефа в конторе. Куда они могли деваться? Он оставил их в конюшне сгружать сено.
Михал внимательно смотрит в окна трамвая. Бедные кварталы, полные беспокойства и нищеты. Даже влажный блеск весны не сумел смыть с человеческих лиц следы тревожной поспешности, голода, раздражения. Михал думает о Будапеште — звучащем цыганскими скрипками преддверии рая.
Трамвай останавливается. Его звонок нетерпеливо дребезжит. Пробка. Впереди стоят телеги. В переполненной польской части вагона поблескивают внимательные взгляды, пробегает шепоток. Молодые люди начинают протискиваться к выходу. Но на мостовой толпа утихает. Нигде не видно жандармских фургонов. Это не облава. Это обыкновенное уличное происшествие. Вместе с другими Михал идет вдоль трамвайного пути. Впереди виднеется красная машина пожарной команды. Это не мотопомпа, а лебедка. Ее стрела свободно повисла над чем-то. Чуя недоброе (такое уже случалось не один раз), Михал расталкивает зевак. Подвода стоит поперек трамвайного пути, выпряженный розоватый мерин смиренно опустил шею и безразлично обнюхивает мостовую. Каштанка лежит на боку и бьется головой, как вытащенная из воды рыба. Данец дергает ее за уздечку. Вот лебедка заскрежетала, натягиваются ремни. Лошадь отчаянно гребет передними ногами, подковы высекают из булыжника искры. Наконец копыта коснулись земли. Рывок вперед, подскок на полусогнутых ногах. Лошадь сидит на задних ногах, как собака. Ее тесно окружают зеваки, какой-то трамвайщик снял с себя ремень и бьет ее со смехом.
Михал подходит к подводе. Прячет в себя, заталкивает в глубину души улицы Будапешта, заснеженные горные перевалы, увечную фигуру Дадоса. Он стоит возле оглобли с таким выражением, как будто здесь его место, как будто он ни на минуту не отходил отсюда.
* * *
Направляясь сюда, он мысленно входил в быстрые горные потоки, под пахнущие свободой раскидистые лапы огромных елей. Хрустят под ногой камешки, между мхов и корней текут холодные источники. Небо и земля подвешены в голубоватом пространстве, серебряные прогалины колеблются на далеких склонах. «Попрошу его, чтобы перевел меня к границе», — думает Михал и позволяет мечте безо всякого труда исполняться. Все кажется легким. Мать поселится у теток в Варшаве, а ее находящееся за сотни километров беспокойство превратится в спокойную нежную печаль.
Но в «Розочке» он Старика не застал. Марта спрятала рапорт Дадоса в карман фартука с деловым и безразличным выражением на лице, как какую-нибудь квитанцию. Затем, раскачивая тяжелыми бедрами, она вынесла из-за ситцевой занавески чашку чайного эрзаца «Нико». Маленькое кафе пусто, полуденное солнце тихо лежит на четырех квадратных столиках. Сквозь застекленные двери слышно сонное урчание автомашин. Марта аккуратно сметает салфеткой какие-то невидимые крошки и ставит перед Михалом чашку.
— Павел, вас Ирена ищет, — говорит она.
— Что ему надо?
Марта пожимает полными плечами.
— Он не сказал.
Укоризненный взгляд из-за очков напоминает ему: моей первой обязанностью является скрытность.
Михал потихоньку цедит сквозь зубы невкусную, подслащенную сахарином жидкость. С тоскою думает о Лиде. С ней всегда можно было поговорить, пошутить. Никакой другой «ящик» не будет таким, как у Лиды. Еще месяц, два, утешает он себя, и, может быть, он опять заработает. Хлопоты, усилия, задания прошедших месяцев выстраиваются в длинный, монотонный ряд. Со скептической улыбкой Михал расстается со своими недавными грезами.
Перед домом он останавливается, чтобы посмотреть на окно Мачека. Примулы нет. Все в порядке.
Из подъезда выходит Роман.
— Привет! А я был у тебя.
— Я слышал, что ты меня ищешь. Подымись наверх.
— Не могу, брат, спешу. Проводи меня немного.
Они идут, плечо к плечу, большими спокойными шагами. На лице Романа какое-то особенное, кошачье выражение веселого возбуждения, и Михал знает, что произошло что-то важное.
— Сегодня ночью были у меня, — говорит Роман тихо.
— У тебя?
— На старой квартире. У матери.
«Началось», — думает Михал и инстинктивно съеживается.
— И что? — спрашивает он.
— К счастью, мать не знает, куда я выехал. Она могла это говорить с полной убежденностью. Но, разумеется, ее хотели забрать. Положение спас наш хозяин, доктор. Он наговорил им, что я устраивал пьяные дебоши, что я со скандалом расстался с семьей и порвал всякие отношения. Был обыск. Ничего не нашли.
— Ты дал знать Старику?
— Я оставил записку в «Розочке».
Они останавливаются на углу, поворачивают к дому Михала.
— Кто мог выдать?
Роман пожимает плечами.
— Это скоро выяснится. Знаешь, — добавляет он через минуту, — во всей этой истории есть одна интересная подробность. С ними был какой-то поляк; во всяком случае, человек, говорящий по-польски. Он не вошел в комнату, остался в коридоре. Мать слышала, как он говорил: «Последняя комната за прихожей». Он наводил их, понимаешь? Мать утверждает, что определенно знает этот голос.
— Ага, — говорит Михал.
— Ей могло показаться. Знаешь, как это бывает, когда человека поднимут ночью.
Они опять подошли к дому Михала.
— Что собираешься делать? Смыться из города? — спрашивает Михал.
Роман, улыбаясь, показывает крепкие редкие зубы.
— Поживем — увидим.
— Во всяком случае, не болтайся по улицам. Сиди на заднице в хазе.
Роман смеется, хлопает Михала по плечу.
— Не бойся, брат, я везучий.
Он уходит широким, дерзким шагом.
— Не говори так, — кричит ему вслед Михал. — Никогда так не говори!
* * *
Комната пахнет лавандой. Это последняя мода. В одной из аптек можно достать сушеные цветы лаванды.
Их добавляют в табак. Михал только что смешал огромную порцию в жестяной коробке и медным стержнем набивает гильзы. В воздухе еще звучит смех, но, когда Тереза отошла от стола, все замолкают. Кудрявый художник Юрек, которого Тереза прозвала Сывороткой, потому что он работает на молокозаготовительном пункте и от него всегда пахнет кислятиной, сгребает свои зеленые и розовые формуляры, так их развлекавшие минуту назад. Веселье исчезает с его лица, в глазах появляется глуповатая угрюмая задумчивость. Михал сосредоточенно набивает сигареты, но время от времени украдкой смотрит на комод, где под лампой с зеленым абажуром блестит клеенчатая обложка его тетради. Он хотел прочесть Терезе свое эссе об импрессионистах, но как раз в это время явился Сыворотка с этой листовкой о поездке на работу в Германию.
Тереза что-то ищет в стенном шкафу. Из-за приоткрытых дверец виден только край ее пепельной юбки и открытая почти до колена икра в блестящем шелковом чулке.
Это продолжается долго. Из глубины шкафа доносится какой-то странный шелест, и Михалу даже кажется, что Тереза разговаривает сама с собой.
— Я помогу тебе, — предлагает Сыворотка, тяжело поднимаясь со стула.
— Нет, нет, — отвечает Тереза встревоженным голосом. — Не вставай, я уже нашла.
Она быстро выпрямляется, раскрасневшаяся, с растрепанными темными волосами, держа в руках бутылку смородинного вина. Запирает шкаф на ключ и некоторое время стоит, прислонившись к нему спиной, как бы желая преградить удивленному художнику Путь. В черном свитере под горло, с испуганной улыбкой в широко открытых глазах, она была воплощением сжимающей сердце юной дикости.
Михал смотрит на оторопевшее лицо Юрека с чувством грустного удовлетворения. Он лучше знает обычаи этого дома. Он знает, что Тереза не терпит, когда роются в ее вещах. Он знает, что она никому не позволяет заглядывать ни в свой шкаф, ни за ширму, загораживающую кровать. На этой ширме из серого полотна всегда висят приколотые репродукции. Сегодня пришла очередь Пикассо. Голубой и розовый период. «Акробатов» в верхнем левом углу до половины закрывает переброшенное через ширму платье.
Пока Тереза разливает в рюмки вино, Михал не может удержаться от того, чтобы не продемонстрировать перед Сывороткой свое превосходство завсегдатая.
— Тереза, новое платье, — говорит он. — Я тебя еще не видел в коричневом.
Девушка быстро поворачивает голову. Всегда у нее какая-то странная настороженность в глазах.
— Ах, это. Я привезла его из дому. Это сестры. Надо будет укоротить.
Она поднимает рюмку и улыбается художнику.
— Ну, Юрек, за «посадку капусты».
— Уж я им посажу, — отвечает Сыворотка. — Долго меня будут искать.
Ноздри Терезы опять задрожали.
— Покажи еще раз. — Она протягивает руку к немецким листовкам.
Здесь и подкрепленный самыми суровыми карами приказ явиться в назначенный срок на сборный пункт, и декларация, утверждающая, что явившийся едет добровольно, и, наконец, зеленая анкета, полная странно звучащих вопросов. Задыхаясь, Тереза зачитывает некоторые из них:
«Умеете ли ухаживать за не рогатым скотом?»
«Умеете ли сажать капусту?»
«Умеете ли полоть свеклу?»
Ее смех так заразителен, что они тоже не могут сдержаться. Михал заглушает в себе мысль, что теперь Сыворотка исчезнет с горизонта.
За стеной раздается металлический плеск фортепьяно.
— Совы просыпаются, — говорит Тереза.
В этой старой заброшенной вилле, где Тереза занимает угловую комнату возле кухонной лестницы, живет неопределенное количество старых дев — пугливых созданий, иногда проскальзывающих по темному коридору, дающих знать о своем существовании чадом подгоревшего масла или бренчанием рассохшихся клавишей.
Обычно это «Турецкий марш», отстукиваемый в отчаянном темпе.
Михал и Тереза обмениваются понимающими улыбками: это мелодия их совместных вечеров. Пахнущий лавандой дым извивается под зеленым абажуром, не сообразуясь с ритмом. Некоторое время им кажется, что они одни.
Сыворотка опять собирает свои бумажки. Теперь он в задумчивости рвет их, комкает и кладет на блюдце. Потом поджигает спичкой. Желтое пламя колеблется, поднимаясь к потолку темной полоской копоти. Угрозы, лживые обещания, нескладные вопросы превращаются в ломкую хрустящую корку пепла. Выпуклыми неподвижными глазами художник всматривается в белые колечки букв, все еще заметные на обуглившейся бумаге. В эту минуту Михал поборол в себе мелочную неприязнь. Все трое склоняют головы над блюдцем, ощущая свое братство.
— Вы не возражаете, если я погашу свет и открою окно? — спрашивает Тереза.
Художник медленно поднимается.
— Я пойду, Тереза.
Он стоит с опущенными руками, большой и беспомощный.
За стеной все еще бренчат «Турецкий марш». Тереза подходит на цыпочках, осторожно целует Сыворотку в небритые щеки.
— Держись, Юрек. Смотри, чтобы тебя не схватили. Михал, внезапно переполненный нахлынувшими чувствами, пожимает его большую влажную ладонь.
Сыворотка мигает глуповатыми глазами.
— Будьте уверены, — говорит он молодцевато.
Когда Тереза возвращается от дверей, в руках у Михала открытая тетрадь. Он замечает замешательство на лице Терезы.
— Поздно, Михал. Сегодня, наверно, не успеем.
Он глотает слюну, борется некоторое время с избытком воздуха в горле. Наконец говорит тихим, полным неестественного спокойствия голосом:
— Знаешь, Тереза, если бы ты хотела, я мог бы сегодня остаться. Я сказал дома, что иду на именины и могу задержаться до утра.
Грудь девушки колышется под свитером, но она не опускает взгляда, улыбается смело и нежно.
— Нет, Михал. Нет. В другой раз. Не сердись на меня.
Она обхватывает руками его шею. И теперь существуют только ее влажные губы, ровные зубы и густые волосы под его пальцами. Потом они стоят друг возле друга. Полная тишина. Фортепьяно замолкло. Руки Михала покоятся на плечах девушки.
— Закурим еще, — говорит наконец Тереза, осторожно выскальзывая из его рук, — по толстой, на прощанье.
Михал скручивает цигарку и протягивает Терезе. Тереза вставляет ее в серебряный мундштук. Они садятся в углу по обе стороны лампы, курят в молчании. Перед глазами Михала возникает металлический будильник, тикающий на ночном столике матери. Ему как-то не по себе. Он хотел бы, чтобы эта минута длилась на зыбком рубеже радости и печали, а вместе с тем хотел бы, чтобы его вообще здесь не было и он не знал бы этого мучающего сердце волнения.
Темный коридор полон влажного холода. Их одновременно охватывает дрожь. На каменные ступеньки бельэтажа выползает снизу слабый дрожащий отсвет. Кто-то идет из подвала — слышно усталое шарканье. На повороте перед дверями появляется свеча. Одна из «сов» несет ведро картошки. Пламя освещает незашнурованные мужские ботинки, спущенные носки, бахрому завязанной на груди шали. Они прижимаются к стене, чтобы пропустить ее. Женщина ставит ведро и светит им — они ощущают на себе ее пристальный взгляд.
— Когда-нибудь я все тебе объясню, — шепчет Тереза и всовывает ему под мышку тетрадь, которую он забыл.
* * *
Внезапно злобно вернулась зима. Серо на улицах, гуляют сквозняки. Мокрый порывистый ветер хлещет в глаза дождем и снегом. Из-под шин маленькой телеги летит жидкая кашица. Михал трясется, съежившись на козлах рядом с пьяным Куликом. Они везут ящики с содовой водой — удивительно неудобный груз. Возчик щелкает кнутом, ругает лошадь:
— Пошел! Пошел, гнедой! А то продам цыганам!
Быстрой рысью они вылетают на перекресток, Михал вырывает вожжи из рук Кулика, в последнюю минуту останавливая лошадь. Хомут налезает гнедому на уши. Жандарм с металлическим полумесяцем на груди пропускает колонну военных автомашин. Прохожие бредут через мостовую, как через горный поток. На посиневших лицах выражение решимости; калоши, поднятые воротники, опрокидываемые ветром зонты. Вода стекает с полей потемневших шляп.
Михал смотрит на хлопающие брезентом грузовики. На первом плане проплывают солдаты, как печальные видения, лишенные смысла.
Но вот Михал выпрямляется, как по сигналу тревоги. По телу проходит горячая волна. Возможно ли это? Эта неуверенная походка, этот наклон головы… Теперь он не видит ничего, кроме маленькой серой фигурки, шатко бредущей по тротуару. Лицо прикрыто, левая рука придерживает воротник под подбородком. Но осанка, характерная сутулость, осторожные, словно скользящие, движения Михалу известны.
Человек подходит к краю тротуара. Под обтрепанной штаниной те же растрескавшиеся красные шевровые полуботинки. Он наклоняет голову, и из-под шляпы показывается треугольник выгоревших желтых волос.
— Эй, но! — Кулик хлопает кнутом, телега неожиданно делает рывок.
Михал, наклонившись вбок, почти лежит на сиденье. Он должен убедиться. И вдруг лицо прохожего тоже поворачивается на какое-то мгновение — длинноносое, бледное лицо с прищуренными, слегка косящими глазами и белыми ресницами.
Михал не знает, встретились ли их взгляды или только скользнули, но он чувствует в груди холодную дрожь страха.
* * *
— Он уже ждет. Сейчас я вас проведу, — говорит тихо Марта и показывает глазами на двух с иголочки одетых торговцев за столиком возле окна. После вчерашнего ненастья прояснилось. Высоко над крышами города ползут влажные облака, зал чайной то погружается в сумрак, то освещается холодным светом.
Михал терпеливо пьет свой «Нико». Наконец торговцы выходят, и Марта уводит его за ситцевую занавеску, к боковой двери, ведущей на лестницу.
— Второй этаж, налево. Постучите сильно четыре раза.
Чувствуется, что Старик здесь свой человек. Из темной прихожей он вводит его в небольшую комнату, обставленную плетеной мебелью, наполненную фигурками и статуэтками. На диване шелковые подушки, расшитые клоунами и бабочками, между окнами черный коврик с тигром. Искусственные цветы в вазах, фарфоровые собачки и коломбины — все это наивное старосветское уродство почти волнует, как детское представление о красоте. В этом гнездышке старой девы солидность Старика вызывает добродушную иронию. Но в его небольших глазах, внимательно смотрящих через съехавшее набок на вдавленной переносице пенсне, сейчас видна только сосредоточенность, большое, напряженно изучающее внимание.
— Итак, вы уверены, что это был Клос? — спрашивает он.
Михал закрывает глаза, пытаясь вызвать в памяти картину вчерашней встречи.
— У меня нет ни тени сомнения, — говорит он.
Старик откидывается на скрипучую спинку креслица, в котором его короткий широкий торс едва умещается. На его лице появляется выражение успокоенности.
— Да. Тогда бы все сошлось, — ворчит он. — Это звенья одной цепи.
Он в задумчивости потирает пальцами кончик носа. Вид у него мирный, солидный и в то же время не совсем серьезный. Каждый раз это впечатление застает Михала врасплох, но он знает, что оно вызвано обманчивой внешностью Старика. Старик — штабной полковник; в мундире он кажется переодетым учителем, а в гражданском — переодетым ксендзом.
— Да, все сходится: Зыга, обыск в доме Ирены, Лида…
— Лида?! — кричит Михал, сжимая руками спинку стула.
— Да, ведь вы еще не знаете, — говорит спокойно Старик. — Сегодня утром ее взяли в магазине.
Где-то в глубине города брызнул резкий сверлящий звук сирены. Они замолкают. Слушают, как он ввинчивается в улицы все более зычным воем. Потом подходят к окну. Старик стоит, широко расставив ноги, скрестив руки на груди. Тротуары пустеют, последние прохожие поспешно исчезают в подъездах. Из-за поворота, со стороны Главного почтамта, выскакивают два мотоциклиста. Каски, торчащие из колясок стволы ручных пулеметов. Потом черный «ситроен», несущийся с бешеной скоростью, а потом фургоны — два, три, четыре. Защитные жандармские плащи под брезентом. Проехали.
— Где-то большая драка, — говорит Старик. Слово «драка» звучит в его устах неестественно.
Они садятся на свои прежние места.
— Обратите внимание на одну вещь, — начинает Старик. — Зыгу арестовали какие-нибудь два месяца тому назад. Это был непосредственный результат следствия. Два последних случая произошли с интервалом в несколько дней. Новая методика действует более успешно. Но у меня такое впечатление, что Клос не отказался от сопротивления. Он водит их по периферии, по окраинам. — Старик увлекается в присущей ему холодной учительской манере. — Почему он выдал Зыгу, когда он был в пути, а не на явочной квартире? Потому что он знал, что его ожидают в назначенное время и что его отсутствие вызовет тревогу. Также и в отношении новых дел. У него были все основания считать, что старые явки сгорели.
— О боже, — прерывает его Михал, — почему же Лида… Я же предупреждал ее, чтобы она бросила к черту этот магазин!
Старик разводит руками, в его жесте вежливая безнадежность. Потом он наклоняется за лежащим на полу толстым портфелем, вытаскивает из него какую-то потрепанную брошюрку без обложки, похожую на телефонную книгу.
— Посмотрите, — говорит он. — Последний Fangbuch [42].
Смоченным слюною пальцем он переворачивает страницы с закругленными потрепанными краями. Он похож на солидного абонента, невинно перелистывающего каталог, а не секретный документ гестапо, выкраденный с помощью сложной системы обмана и подкупа.
— Вот здесь, — придерживает он найденное место.
Через страницу бегут длинные строчки рубрик. Михал читает со страхом, отвращением и каким-то оттенком бессмысленной зависти. «Роман Гурский. Кличка Рыжий». Затем следует дата рождения, адрес матери, вопросительный знак в клетке «Beruf» [43] и в конце сложный, но соответствующий истине портрет.
— Видите: Ирена уже у них. Все это за день до налета на его квартиру.
— Он должен немедленно уехать из города, — говорит Михал.
Старик рассеянно кивает головой.
— Да. Я нашел ему убежище в деревне и приказал сматываться.
«Послушает ли он?» — думает Михал.
— Но, например, Лиды здесь нет, — говорит Старик. — Из этого следует, что они ничего о ней не знали. Это была импровизация. Видимо, после того, как Клос скомпрометировал себя, они прижали его и он был вынужден что-то подбросить. На какое время им этого хватит?
Михал встает и начинает ходить по комнате.
— Понимаете, — продолжает Старик, — я не верю, чтобы он их перехитрил. На следствии можно сопротивляться, сказав себе, что все равно конец. Но теперь будет ходить, как собака на поводке. Теперь он должен покупать каждый день жизни. Раз он стал платить, они выжмут из него все до последнего гроша.
Михал тупо рассматривает фигурки на этажерке, садится на тахту, гладит подушку с идиотским клоуном, опять встает. Старик следит за ним бесстрастным взглядом.
— Вывод один, — говорит он, не повышая голоса. — Мы должны его ликвидировать.
Михал встает, смотрит, как Старик педантично прячет в портфель список разыскиваемых.
— Вот так, дорогой Павел. Это единственный логичный вывод. В противном случае мы все окажемся в каком-нибудь из последующих номеров.
— Кто это сделает? — спрашивает Михал.
Старик встает, неловко высвобождается из креслица.
— Никто за нас этого не сделает, — говорит он ворчливо. — Я прошу установить слежку, и как можно скорее. А также как можно умнее, — добавляет он, закрывая с треском портфель.
* * *
Они лежат в сене. Вдыхают аромат сена и сухой пыли. В открытых дверях небольшого склада видно темнеющее небо с точечками первых звезд, черные перила балкона, косой рельс и блок лебедки, с помощью которой поднимают наверх мешки с овсом и брикеты комбикорма.
Иногда тихим, причудливым зигзагом пронесется летучая мышь. Внизу, во дворе скрипит насос и шумит вода в ведрах. Это катафальщики еще возятся возле своих черных лошадей. Из конюшни «Экспедитора» сквозь балки перекрытия слышится позвякивание недоуздков и монотонный хруст пережевываемого корма.
Михал назначил встречу здесь, так как место акции недалеко отсюда, а кроме того, уже нечего скрывать: вскоре он бросит эту работу. Он наконец принял настойчивое предложение Старика и переходит в организацию на зарплату.
Шершень с шумом потягивается.
— На сене хорошо спать с девушкой, — говорит он мечтательно. — У отца в деревне мировой овин.
Катафальщики все еще возятся, топчутся, глухо ругаются, наливают воду в кадки.
«Ну уходите же!» — мысленно подгоняет их Михал. Шершень, зевая, тихо скулит.
— Они должны скоро быть, — бормочет он. — Все обмозговано до точки, а у Длинного курок всегда на взводе. Мы с ним осенью прикончили того гестаповца, поэтому я и знаю.
Шершавые стебли щекочут Михалу шею, но он не двигается. Он смотрит в сгущающуюся синеву неба, пытается ни о чем не думать, но не может заглушить слов стихотворения, звучащего где-то внутри его:
Здесь не видно, безусловно,
И не слышно, несомненно,
Как крадется тигр коварный
В чаще джунглей сокровенной.
Почему именно это? Почему сейчас? Собственно, он даже не хочет знать почему. Он приказывает себе перестать, но четверостишия наплывают сами, независимо от его воли.
Как в погоне за добычей,
Сети веток разрывает
И, ленивый от величья,
В зелень золотом вползает.
Слово «ленивый» растягивается, в нем появляется носовая интонация, это единственное выигрышное место в скучно, механически интерпретированной концовке. Он не может больше обманывать себя: ему известен звучащий в нем голос. Он видит собранный в гармошку лоб, сдвинутые брови альбиноса и пригашенный взгляд, уходящий по косой мимо слушателей.
Михал никогда не понимал, находит ли Клос в этом какое-нибудь удовольствие или только демонстрирует свою великолепную память — память прирожденного конспиратора. Он мог декламировать часами — всегда плохо, но всегда без единой ошибки. Чаще всего Тувима.
Они слушали его в некотором замешательстве. Все это было немного подозрительно, двусмысленно. Стихи были сплющенными, лишенными цвета, неизвестно как соотносящиеся с удручающе убогой фигурой. Что собой представлял Клос? Выпив одну рюмку водки, он обычно переворачивал ее кверху дном. Не помогали никакие уговоры. «Я обещал жене никогда не пить больше одной». Это раздражало. Они удивлялись его характеру, но чувствовали в этом малоприятную педантичность. Прекрасный конспиратор, — признает Михал, и ему становится удивительно не по себе, как будто он пренебрег какими-то обязанностями дружбы, как будто он вспоминал человека, который по его вине никогда не существовал в действительности. Все всегда бывает слишком поздно. Откуда он мог знать, что людей заранее надо вознаграждать за то, что их ожидает?
Здесь не видно, безусловно, И не слышно, несомненно…
Скрипнула лестница, и они с Шершнем приподнялись.
— Идут, — шепчет Шершень.
На фоне холодного квадрата неба появляется всклокоченная мальчишечья голова. Потом тонкая, подпоясанная ремешком фигурка в нерешительности останавливается посредине.
— Ну как, Дудек? — спрашивает Михал приглушенным голосом.
— А где Длинный? — подозрительно спрашивает Шершень.
Дудек переступает порог и исчезает в тени.
— Длинный сейчас будет. Он уже, наверно, все сделал.
— Как это «наверно»?
— Наверняка, — поправляется Дудек. — Все шло по плану…
— Ну и что? Ты был при этом? — прерывает его Шершень.
— Бог ты мой, дай же мне сказать.
Слышно, как он споткнулся о брус, разгреб сено руками и сел со вздохом облегчения.
— Все шло по плану, — повторяет он. — Клоса провожал тот лысый стукач из «Семерки». Я околачивался на углу, а Длинный ждал в воротах. Лысый попрощался и ушел, через минуту Клос с Длинным вышли из ворот, и я видел, как они разговаривали на тротуаре. Они говорили минут пять. Потом Длинный вытащил из кармана платок и вытер нос. Это был знак, что я не нужен. Так мы уговорились. Наверно, Длинный боялся, чтобы я не спугнул Клоса. Но я на всякий случай следил за ними издалека. Они пошли на дамбу, туда, где незастроенные участки. Идеальное место, ни души. Ближе подойти я не мог, а то бы они меня увидели, поэтому я вернулся к вам…
— Идиот! — шипит Шершень.
— Мы так уговорились. Он велел мне уходить.
— Ты слышал выстрел? — спрашивает Михал.
— Нет, — бормочет Дудек сердито. — Но Длинный наверняка его там уложил, — добавляет он с надеждой.
— А если Клос махнет Длинного, тогда что? — спрашивает Шершень.
— Длинный велел мне уйти, — упрямо повторяет Дудек.
Они замолкают. Во дворе тихо, в чердачном окне блестят далекие звезды.
— Нужно бы туда пойти, — говорит после паузы Шершень.
— Нет, — возражает Михал. — Подождем еще.
Они лежат, и теперь Михал не думает уже ни о чем. Он чувствует только ритмичное пульсирование в гортани, будто сквозь него течет время. Сено дурманит, сено вызывает зуд. Оно под рубашкой, в ботинках. Слышен легкий шум дыхания. Холодный ночной ветер шевелит волосы. Вдруг Дудек вскакивает.
— Идет, — говорит он.
И вот большая тень заполняет проем. Маслянисто блестит кожаная куртка. Длинный медленно переступает порог.
Они ждут, что он скажет, но Длинный молчит. Тогда они начинают спрашивать наперебой:
— Ну, как прошло?
— Сделал?
Голова Длинного в темноте, плечи уперлись в прямоугольный экран неба.
— Дерьмо, — говорит он через минуту тоном, полным горечи и обиды.
Он слегка наклоняется, ищет что-то в карманах. Потом чиркает спичкой, и из темноты появляется его лицо — бронзовое, злое, с глубокими бороздами, идущими от носа к сжатым губам.
Никто не обращает на него внимания. Все смотрят на спичку, гаснущую под сеткой сухих стеблей. Михал чувствует, как нужна Длинному сигарета.
— Садись, — приглашает он.
Но Длинный продолжает стоять. Красная точка сигареты то разгорается, то гаснет.
— Не смог, курва, — говорит он наконец.
— Такое хорошее место! — вздыхает Дудек с сожалением.
— Не смог, — повторяет Длинный тихо. — Если бы он, холера, пробовал защищаться! — вытолкнул он вдруг из себя. — Если бы убегал! Так нет, Я видел, как он вздрогнул, когда я подошел к нему в воротах. Сразу посмотрел на мои руки. Я держал их в карманах, в правой была «дура». Хватило бы одного рывка. Он тоже, мерзавец, держал лапы в карманах, но сразу же вытащил их, точно хотел мне показать, что ничего там нет. «Привет, Короткий! — сказал он мне. — Может быть, поговорим перед этим?» — «Я пришел с тобой поговорить», — сказал я. И мы вышли за ворота. Он осмотрелся, нет ли засады, а потом сказал так: «Короткий, давай сделаем это дело, как люди. Я один, у меня нет оружия, и я не буду убегать. Я расскажу тебе все, как есть, а ты сделаешь так, как найдешь нужным». Тогда я подал знак Дудеку, чтобы он ушел. Он и без того был у меня в руках, я мог его прикончить в любую минуту. Вся его защита была в разговоре…
— Нужно было сразу! — не выдерживает Шершень. Длинный молчит, но в его молчании чувствуется презрение, с которым встречают поспешные советы.
— Что он тебе сказал? — спрашивает Михал.
— Сначала он рассказал мне, как его били. И что они не много могли из него вытянуть, потому что он быстро терял сознание. А потом говорил, что с тех пор, как его выпустили для приманки, он старается водить их по ложному следу, по сгоревшим адресам. Он думает, что они в конце концов убедятся, что все уже поздно, что они нас спугнули. Я повел его в сторону незастроенных участков вдоль реки. Хотел его там прикончить. Все время держал палец на курке, и он, конечно, знал об этом, но разговаривал так, как будто ему ничего больше не угрожает. «Почему ты не смываешься, Клос?» — спрашиваю его. А он отвечает, что они разнюхали, где его жена, и что, если он убежит, они ее посадят. Рассказывал мне о жене. Она живет где-то под Кельцами в деревне с ребенком. У них трехлетняя девочка. Мы стояли на дамбе. Уже было темно и полная тишина вокруг. И тогда он говорит мне: «У меня к тебе одна просьба, Короткий. Сделайте так, чтобы она не узнала, как было. Сообщите ей, что я погиб от рук гестапо».
Длинный замолчал. Опершись о косяк, он гасит сигарету о подошву.
— Михал, — начал он через минуту, сдерживая раздражение, — ты с нами не ходишь, тогда спроси Шершня, он тебе скажет. У меня на счету четыре человека. Я прикончил вооруженного фрица в его собственной квартире… — Ему не хватает слов, он ударяет рукой о косяк. — Холера! Может, каждый из вас сделал бы это. Я не смог.
Только теперь он садится на землю, тут же в дверях. На сеновале снова воцаряется молчание, и только слышится жесткий шорох сена.
Михал ждет, когда Шершень заговорит первый, но Шершень молчит. Наконец тишину прерывает ломающийся, неестественно серьезный голос Дудека:
— Он теперь, паразит, сменит хазу, и всю слежку надо начинать сначала.
— Мы должны установить слежку за лысым из «Семерки», — оживляется Шершень. — Он нас наверняка наведет на след.
После внезапной активности Шершня Михал чувствует облегчение, какое приносит надежда на непредвиденное решение судьбы, и даже сейчас, когда решает выяснить вопрос до конца, в душе рассчитывает на милость случая.
Михал встает, стряхивает с себя сено.
— Ну, хорошо, — говорит он, — кто это сделает?
— Не я, — бурчит Длинный из дверей. — Я пас…
Дудек и Шершень сидят тихо в темноте. Михалу уже некуда отступать. Он достает из кармана спички, трясет ими.
— Хорошо, — говорит. — Тогда будем тянуть жребий.
Он пропускает между пальцами граненые палочки, на ощупь находит круглые головки. Одну из них ломает. Те двое подходят к нему. Стоят в немом ожидании. Мощная широкая тень Шершня и детская щуплая фигурка Дудека. Михал протягивает к ним кулак.
— Тяните.
Некоторое время они колеблются. Потом Дудек делает резкое, плохо рассчитанное движение. Ощупывая руку Михала, он натыкается на спички и тащит первую с края. Когда через долю секунды он делает легкий шаг назад, Михал уже знает, что Дудеку повезло.
Шершень долго не может решиться. Он поочередно касается то одной, то другой спички, а в сердце Михала растет горькая уверенность в поражении. «Приговор — это не мое дело, — думает он. — Надо все это отменить, надо отступить». И тогда Шершень наконец нащупывает спичку, вырывает ее из руки Михала. И сразу же слышится его нервный, сдавленный смех. Михал трет большим пальцем конец оставшегося обломка. Ему кажется, что товарищи бросили его среди ночи.
— Я, — говорит он, зная, что еще не полностью понял смысл того, что произошло.
* * *
Если бы он смог сосредоточиться, если бы перо послушно бежало по бумаге, он был бы в безопасности. Но на странице тетради в клеенчатой обложке всего несколько строчек. Напрасно Михал наклоняет голову, напрасно закрывает глаза, чтобы помочь неясным спутанным мыслям. Сегодня он отказался от анализа художественных стилей, от рассуждений об изменениях, которым подвергается мир в восприятии художника. Он решил рассказать о себе. Он надеялся, что таким образом он увидит свою судьбу изнутри и перестанет ее бояться. Михал начал описывать конюшню на Цельной, но после нескольких фраз растерялся, вспоминая события последнего вечера, неудачу со спичками и неумолимо надвигающееся преследование Клоса, которое приблизит день окончательной развязки. Он сидит, подперев голову кулаком, с авторучкой в неподвижной руке. За его спиной по комнате бесшумно суетится мать, выдвигает ящики, что-то приводит в порядок и переносит с места на место, погруженная в гущу мелких забот, составляющих ткань ее повседневной жизни. Он знает, что ее снедает желание снять с него неизвестную тяжесть. Наконец он наклоняется и строчит что попало. Он пишет: «Рембрандт — великий художник, а я — идиот». Он пишет: «Жизнь глупа». Он пишет: «Здесь не слышно, безусловно, и не видно, несомненно, как лежит в навозе лошадь и не может помочиться, и не может помочиться и п… никак не может…»
Но все это напрасно. Мать останавливается позади него, ее рука, легкая, как высохший лист, ложится ему на волосы.
— Скажи мне, сынок, — говорит она покорно, — что с тобой происходит. Скажи матери.
— Ничего со мной не происходит. — Он отводит голову от ее рук. — Ничего со мной не происходит. Я пробую писать.
Мать обходит стол, садится напротив него. Ее нелегко обмануть. Она всматривается в него своими бледно-голубыми глазами, от сочувствующей мудрости которых убежать невозможно.
— Я знаю тебя — говорит она. — Как же я могу тебя не знать? Я все чувствую. Я вижу, как ты мучаешься. Ты уже целую неделю ходишь молчаливый, грустный. Мне не нужны твои тайны, но, может быть, я сумею тебе в чем-нибудь помочь.
Михал кладет ручку. За окном меркнет небо. На белые волосы матери ложится розовый отблеск.
— Когда ты был маленький, — говорит она, — ты с каждой своей бедой приходил ко мне, помнишь?
«Да, наверно, так было, — думает Михал, пробуя заглянуть в то очень далекое время и найти какие-нибудь общие черты у себя и того забытого ребенка, которого так легко можно было утешить. — Бедная мать, — думает он, и сердце его сжимается от жалости, — она потеряла даже возможность утешать». Ее бессильная любовь может уже только умножать страдания тех, кого она любит. Это он должен ее утешить, но что он может сделать? Самое большее — неумело врать.
— Все это глупости, — говорит он, глядя в окно. — Мелкие заботы, которые пройдут. Ты не волнуйся.
— Я знаю, — отвечает она. — Ты не хочешь или не можешь мне сказать. И это самое тяжелое, самое страшное. У нас отняли даже возможность взаимопонимания. Но ведь я тебя родила. О ком же я должна беспокоиться?
Михал хочет погладить ее руку, но она опускает голову и погружает пальцы в свои редкие старые волосы.
— Боже, боже, — вздыхает она. — Когда я думаю о Монике, о тебе, все во мне болит. Для этого ли я вас вырастила? Для такой ли судьбы? Молодость, самая прекрасная пора жизни…
Михал встает, начинает ходить по комнате, чтобы скрыть волнение. Это как раз те слова, которые нельзя произносить. Все спасение в твердости. Твердости по отношению к самому себе. Жалость к себе — это гибель.
— Прости меня, — говорит мать, как бы отвечая на его мысли, — прости, что я об этом говорю. Но человек не камень. Он не может постоянно все в себе подавлять. Когда я думаю, что другие в вашем возрасте учатся, веселятся, живут нормально…
Михал встает.
— Что мы можем сделать? — прерывает он ее тоном, который ему самому кажется слишком резким.
В комнате уже совсем серо, и сгорбленный силуэт матери на фоне окна, с маленьким узелком волос, печально венчающим голову, кажется нематериально легким.
— Я помню ту войну, — продолжает она приглушенным, смягчившимся от воспоминаний голосом. — Это была моя молодость. Боже! Каким теперь все то кажется приятным, каким человечным. Хотя и тогда воевали и убивали, но вне фронта человек сохранял свое право на жизнь. Как раз тогда я познакомилась с твоим отцом. Мы были обручены, мы были счастливы, И никто не отнимал у нас это счастье, никто не хотел его уничтожить. Мы учились, мечтали о будущем…
В душе Михала зреет бессознательный горький протест. Он не хочет подпустить к себе тоску о счастье, и когда ему удается отогнать ее, то уже невозможно разрушить преграду, вставшую между ним и матерью. Он хочет быть солидарным с бесчеловечностью своего времени, и его грубость, его звериная жестокость будит в нем злую яростную гордость.
Мать замолкает.
— Темно уже, — говорит Михал. — Спущу штору и зажгу свет.
— Боже мой, — вздыхает мать. — Постигнет ли когда-нибудь кара этих извергов? — Она щурит от света измученные, покрасневшие глаза.
Слышно, как кто-то осторожно скребется в дверь. Михал улыбается, счастливый, что на этот раз секрет известен им обоим и он может отозваться.
— Скоро последние известия, — говорит он приглушенным голосом и гладит мать по руке. — Пойду послушаю.
Мачек ждет его в коридоре в перепачканной серой куртке. Они осторожно открывают дверь на лестницу. Уже месяц, как это стало их вечерним ритуалом.
Лестничная клетка наполнена влажным мраком. Тихо. Они поднимаются наверх, бесшумно крадутся на цыпочках. Дверь чердака обита железом, а замок немилосердно скрипит. Мачек поворачивает ключ быстрым, сильным движением.
На чердаке пахнет мышами, сажей и сохнущим бельем. Они проходят мимо просматриваемых насквозь каморок из досок и сворачивают в темный угол за последней трубой. Мачек, встав на колени, зажигает фонарь и из основания трубы вытаскивает несколько кирпичей.
— Держи, — подает он Михалу конец проволоки. Михал на ощупь идет к противоположной стене и закрепляет там антенну. Тем временем Мачек вставляет шнур в скрытую за стропилом розетку. Радиоприемник представляет собой маленький металлический остов без футляра. Когда Михал возвращается, в темной нише светятся красные нити лампочек.
Сидя на корточках на покрытом известковой пылью полу, они стараются отыскать голос правды в хаосе скрежета и треска. За морями, за черным небом кто-то поет гнусавым баритоном, как будто не зная, что делается на свете. Мачек уходит от него, крутит ручки, опять погружаясь в колючие дебри треска и свиста.
— Сегодня чертовски плохой прием, — говорит он.
Где-то в глубине проскальзывает знакомый глухой гул. Он пробует его задержать, вытащить наверх. Но его сразу же перекрывает усиливающийся шум глушителей. Он безуспешно, со все возрастающим упорством ненависти борется с ними.
— Это немецкая совесть так трещит, — говорит Михал. Мачек относится к вопросу по-деловому.
— Лампы уже старые. С новыми я ушел бы от этого прохвоста.
Время последних известий проходит, и они уже знают, что сегодня им послушать не удастся. Внезапно в этом уродливом хаосе блеснул чистый звук фортепьяно. Обдуманно размеренный спад, а потом неожиданное переплетение фуги, как будто кто-то строил стрельчатый свод из твердых стеклянных кирпичиков.
— Оставь, — просит Михал. — Это Бах.
— Как хочешь, — добродушно бурчит Мачек.
И вот тьма чердака наполняется мудрой, удивительно спокойной архитектурой музыки, и весь хаос мира оседает на дно, как муть во взбаламученном колодце. Михал закрывает глаза и отдыхает, успокаивается. В эту неописуемую минуту, погруженный в кристальную гармонию, он опять свободен, опять нерушимо верит в существование совершенной гармонии, которой не могут угрожать никакие страсти, никакая грязь и никакая ложь.
* * *
Большая комната конторы полна приятной весенней прохлады. Сквозь открытое окно врываются резкие звуки уличного шума — скрежещут трамваи, цокают копыта лошадей, то усиливается, то затихает шум моторов. Перед своим столом, держа руки в карманах, прохаживается шеф. Поскрипывает хорошая, добротная кожа его черных сапог.
— Ну что? — говорит он, не глядя на стоящего в дверях Михала. — Я думаю, что, так или иначе, мы должны были расстаться. Может быть, и лучше, что инициатива исходит от вас. Между прочим, вы понимаете, что в подобных случаях у фирмы по отношению к работнику нет никаких обязательств.
— Я знаю об этом, — признается Михал.
Ему хочется уйти. Его рассеянный взгляд скользит по знакомым картинам. Все эти лошади, глядящие вытаращенными глазами, эти дышащие собачьи морды с длинными высунутыми языками кажутся ему нелепым воспоминанием.
Ощущение отдаления, похожее на отплытие от берега, не оставляет Михала все эти дни, а сегодня он испытывает его особенно отчетливо. Каждая его мысль, каждое впечатление несется по поверхности все того же темного течения ожидания, набирающего сейчас головокружительную скорость, как поток, приближающийся к водопаду.
Сегодня вечером он встретится с Дудеком и посмотрит на дом в немецком квартале, где у лысого осведомителя из «Семерки» поселился Клос, познакомится с местом, выбранным для убийства. Собственно, только это он в полной мере и осознает.
Сапоги шефа продолжают скрипеть, он кашляет и наконец говорит презрительным тоном, который теперь для Михала пустой звук:
— Если быть откровенным, то я должен сказать, что плакать по вас мы не будем.
Панна Кика бросает из-за машинки внимательный, горящий скрытым возбуждением взгляд.
— Да, — продолжает шеф. — Я в вас ошибся. Я думал, что вы будете энергичным, обязательным и инициативным. Не скрою, что, если бы вы обнаружили эти качества, ваше положение в фирме было бы совершенно иное. Но я ошибся. И поэтому мы расстаемся почти без сожаления.
Он обходит стол и садится, положив на сукно волосатую костлявую руку, словно ценный предмет, требующий специальной установки и места.
Михал замечает, что весенний ветер, дующий из окна, приятно ласкает ему виски. Сделав это открытие, он чуть заметно улыбается.
— А вы со своей стороны ничего не хотите нам сказать? — спрашивает шеф.
— Нет, — отвечает Михал.
Разочарованная панна Кика наклоняется над машинкой.
* * *
— Четвертый этаж. Вот те два окна с правой стороны балкона, — Дудек не поворачивает даже головы, а Михал мельком смотрит через плечо, стараясь сохранить видимость рассеянности и безразличия.
Они медленно идут по тротуару. Еще светло. Теплый вечерний свет косой сужающейся полоской лежит на крышах коробкообразных домов на противоположной стороне улицы. Стекла верхних этажей блестят ярким отблеском заката.
Движение здесь невелико. С полными сетками, сделав последние покупки, идут женщины. Иногда проходят пожилые, старательно выбритые чиновники, прижимая к животу кожаные портфели. Иногда мелькнет тирольская шляпа, значок со свастикой на отвороте клеенчатого плаща.
— Все квартиры в доме заняты немцами, — говорит Дудек. — На первом этаже живет офицер гестапо. Шершень считает, что безопаснее всего перед домом.
Михал нетерпеливо кивает головой, словно отмахиваясь от ненужных советов. Перед этим пареньком ему хочется держаться бодро и самоуверенно, но когда он заглядывает в себя, то обнаруживает беспокойство человека, ищущего путей к бегству.
Они приближаются к угловому дому. На той стороне улицы стоит газетный киоск, сейчас он закрыт. Это единственное укрытие — выбора нет. Михал знает, что завтра с наступлением темноты он будет здесь караулить. На перекрестке стучат подкованные сапоги. Идет зеленоватый плащ, на поясе револьвер, островерхая фуражка. С этой стороны виден весь киоск. Сможет ли он скрыться в его тени?
— Они возвращаются обычно около восьми, — говорит Дудек. — Со стороны рыночной площади. Парадное в этом доме после захода солнца всегда запирают, у каждого жильца есть свой ключ. Лысый открывает, а Клос ждет на тротуаре.
Михал измеряет на глаз расстояние. От киоска до подъезда двадцать метров. Немного далековато. Он должен подбежать и выстрелить в упор. Два раза — и в лысого тоже, наверняка у него в кармане револьвер. Почему они не сказали об этом? Ведь ясно, что в этой ситуации в игру входят два человека, а не один. Михал чувствует себя обманутым. Он с горечью закусывает губу.
— Где вы будете стоять? — спрашивает он грубо.
— Я возле магазина тканей на рыночной площади, а Шершень там, за следующим перекрестком. Как увижу, что они идут, выйду на край тротуара и закурю сигарету.
— Любой может в этом месте закурить сигарету, — говорит Михал. — А кроме того, нет уверенности, что будет уже так темно и я замечу огонь.
— В таком случае я громко кашляну, — предлагает Дудек. — Я умею оглушительно кашлять.
Он останавливается и кашляет, будто щелкает кнутом, какой-то толстый железнодорожник испуганно оглядывается.
Довольный Дудек скалит молодые лопатообразные зубы. Он совсем еще ребенок, ему бы сидеть за школьной партой и чертить сердечки на промокашке.
Они завернули за угол. Дудек дает пояснения Михалу, как будто показывает собственное хозяйство.
— Здесь, за этим забором, автомастерская. Шершень подставит несколько кирпичей под забор, чтобы тебе было легче перепрыгнуть. Двор с другой стороны выходит на приусадебные участки.
— Хорошо, — говорит Михал и смотрит в глубь боковой немощеной улицы. По обеим ее сторонам поднимаются коробки недостроенных кирпичных домов. Маленькие, привязанные к палкам деревца робко начинают свою весеннюю городскую жизнь. «Не буду прыгать ни через какие заборы», — думает он.
Темнеет. Улица совершенно пуста. Они идут посредине мостовой. Земля слегка проминается, скрипит под ногами гравий. Завтра он здесь будет бежать.
— Хочешь посмотреть на садики? — спрашивает Дудек.
— Завтра посмотрю, при свете.
Дудек разочарован. Он хотел бы еще что-нибудь сделать, еще чем-нибудь помочь.
— Я останусь с тобой. По новой прикинем все возле дома.
— Нет. Иди к черту.
Они останавливаются в том месте, где улочка выходит на асфальтированную трассу, являющуюся границей немецкого района.
— Завтра втроем составим окончательный план, — говорит Михал.
— В десять в «Розочке»?
— Хорошо.
Они пожимают друг другу руки, и Дудек исчезает за углом.
Михал медленно идет назад между молчаливыми кирпичными корпусами. Он не спешит на ту слишком открытую враждебную улицу, на которой должен провести еще полчаса, а может быть, и больше, не вызывая подозрений. Солидные плиты тротуара раздражают его. С сомнением осматривает он киоск. Ему кажется, что киоск на виду, словно на сцене. И вдруг, собрав всю свою волю, он заставляет себя не отскочить в сторону: возле двери ключом манипулирует Клос. Михалу видны только его сгорбленные плечи, но он точно знает, что это Клос. И в то же время он чувствует, что охвативший его нервный спазм каким-то образом передался и Клосу: серый силуэт вздрогнул. Но когда, сделав несколько шагов, Михал позволил себе обернуться, он услышал лишь треск захлопываемой двери. Он ускоряет шаги и сворачивает к стене. Клос может следить за ним из окна лестничной клетки. Михал спиной чувствует его взгляд. Только за поворотом он начинает успокаивать себя, что мог ошибиться. Ведь он не видел, чтобы Клос обернулся ему вслед. Он не может даже воссоздать то неуловимое движение, которое он почувствовал скорее нервами, чем взглядом. «Кажется, он все-таки меня не заметил», — думает Михал и обманывает самого себя, что ничего не знает о трусливом ручейке надежды, прокладывающем себе путь где-то во мраке подсознания. «Теперь не удастся», — шепчет этот отвергнутый голос без слов.
* * *
Напрасно Михал звонил, как было условлено. Напрасно стучал. Ее не было. Он не мог с этим согласиться. Он должен ее сегодня увидеть. Сегодня он должен выяснить и закончить все важные дела своей жизни, даже если завтра он начнет ее заново. Поэтому он продолжал стучать и звонить в высокую дверь в стене сада, через которую по крытой лестнице можно было попасть на кухню и в угловую комнату Терезы. Он не хочет отступать, ему кажется, что его упорство наконец призовет ее, где бы она ни была. За красиво выгнутыми решетками окна высокого бельэтажа были, как обычно, темны, и весь дом, серый от влажного сумрака, выглядел так, будто в нем давно уже никто не жил. Но этот декадентский «дворец гипсовых карликов», как Тереза называла виллу, всегда защищается от улицы видимостью безжизненности, и Михал знает, что только сзади, со стороны сада, можно выследить его жизнь. Несколькими шагами дальше на облупившихся столбах, поддерживающих две растрескавшиеся от старости вазы, висят ворота из ржавых прутьев. Михал входит в калитку рядом с этими воротами, заходит за угол дома по скрипящему гравию дорожки. В окне эркера Терезы не видно ни полоски света. Михал поднимает камешек, бросает в стекло.
«Может быть, она пошла к «совам»?» — думает он. Любое объяснение лучше самого очевидного, что ее попросту нет дома. Потом он поднимается по выщербленным ступеням террасы, оплетенной еще безлистым диким виноградом. Он никогда сюда не входил. Звонок отдается пустым эхом в каких-то далеких темных пространствах. Он звонит долго, еще и еще, и вот наконец слышит шелест быстрых, пугливых шагов, какой-то шепот, мышиные голоса тревоги. Он пробует звонить условленным с Терезой сигналом и ждет.
Вдруг за дверями раздается недоброжелательный, затаившийся женский голос:
— Кто там?
— Тереза дома? — спрашивает он.
Наступает новая минута молчания. Потом тот же голос нелюбезно отвечает:
— Нет.
— А когда будет? — настаивает Михал.
Опять тишина и шепот, наконец другой, более старый и приятный голос спрашивает:
— А вы кто?
Михал называет свою фамилию. Он не знает, известна ли она «совам», но готов сделать все, чтобы рассеять их странную подозрительность.
— Уходите, — слышит он.
В этих словах, сказанных почти шепотом, есть что-то такое, от чего Михала охватывает ужас. Он в отчаянии нажимает на ручку.
— Впустите меня, — говорит он. — Умоляю вас, скажите, что случилось.
И тогда дверь приоткрывается. Через щель он видит две закутанные в шали головы. За ними маячит третья фигура. В помещении полутемно, его освещает только свет, падающий из какой-то боковой комнаты.
— Так вы ничего не знаете? — допрашивает его одна из женщин.
— Что случилось? — кричит он. — Скажите!
— Войдите в дом, — говорит самая старая.
Она захлопывает за ним дверь. В темноте блестят дверцы каких-то застекленных шкафов, пахнет книжной пылью и капустой.
— Ее сегодня утром взяли, — шепчет ближайшая тень.
Михал стоит онемев. Он чувствует только тяжесть опущенных рук.
— Это из-за той еврейки, — добавляет полный гневной обиды более молодой голос.
— Из-за какой еврейки? — говорит Михал.
— Знаете, — шепчет самая старая, — мы сами ничего не знали. Она скрывала еврейку в своей комнате. Школьную подругу. Никто этого не знал. Сегодня утром ворвались к нам и спрашивают, кто здесь ночью ходит по саду. Они, должно быть, ее заметили. Вы знаете, там, за стеной, полицейские казармы. Перевернули весь дом вверх ногами. Она сидела в комнате Терезы, уже одетая, на диване. Тереза тоже, в шляпе, в пальто, как перед выходом на улицу. Обе ждали… — Голос ее прерывает сухое, похожее на икоту рыдание. — Мы действительно ничего не знали, — заканчивает она сквозь слезы.
— Что за ужасное легкомыслие! — выкрикивает вторая.
Михал отчетливо видит Терезу в облегающем черном пальто с каракулевым воротником, в шляпке с маленькими, загнутыми вверх полями, из-под которой выбиваются на виски пушистые волосы. Он видит, как она сжимает под мышкой потертую сумку, сшитую из белых и черных полосок кожи, и как она смотрит на дверь широко открытыми потемневшими глазами, которые даже в испуге немного улыбаются. Какое-то мгновение ему кажется, что эта минута еще длится и что он должен что-то сделать, чтобы остановить, задержать ее дальнейший ход. Ощущение бесполезности отрезвляет его мучительным спазмом сердца. Это настоящая физическая боль. Он делает глубокий вдох, чтобы обрести голос.
— Можно войти в ее комнату? — спрашивает он. Перепуганные соседки преграждают ему дорогу.
— Лучше не надо.
— Не делайте этого.
Тогда третья фигура, не принимавшая до этого участия в разговоре, приближается из глубины к Михалу.
— Конечно, — говорит она низким, хриплым голосом. — Я провожу вас.
Михал идет через какую-то темную крытую галерею, а потом по хорошо ему знакомому кухонному коридору с голой лампочкой под потолком и с выложенным каменными плитами полом. Его проводница открывает последнюю дверь, и в темноте новым приступом боли встречает Михала запах лаванды.
Внезапно вспыхнувший свет открывает картину грубого разбоя. Зияют пустотой выдвинутые ящики, на полу валяются книги, письма, бумаги. Следы грязных подошв на клочках репродукций Утрилло, Брейгеля, Ван Гога. Ширма повалена на умывальник, сброшенная с тахты постель беспорядочно вздымается на паркете.
Михал делает несколько робких шагов. Под ногой скрипит стекло. В углу возле шкафа — смятый тоненький чулок. Повсюду валяются вещи, напоминая растерзанные живые существа. Вот испещренный квадратиками и крестиками листок. Когда-то давно они играли в «морской бой». Кого спасать? Кого защищать? Все уничтожено.
Беспомощным взглядом он смотрит на это разорение. Наклоняется (с каким трудом дается каждое движение!) и поднимает с пола почерневший серебряный портсигар. Его пальцы нащупывают маленькое углубление, оставленное небольшими острыми зубами Терезы. Он на минуту закрывает глаза.
— Вам надо уходить, — говорит тихо женщина в дверях.
Михал совсем забыл о ней. Только теперь он замечает ее лицо — наверняка виденное уже не раз, но не замеченное в свете счастья, — лицо, увядшее в самом расцвете красоты, трагично бледное, с глубоко залегшей тенью вокруг черных, огромных, неестественно блестящих глаз.
Он послушно выходит, и комнату Терезы опять наполняет темнота.
Женщина спускается с ним вместе по темной лестничке, открывает дверь на улицу. Через минуту, когда его уже охватывает свежесть моросящего дождя, он вспоминает робкое прикосновение ее руки, а до сознания доходит звук слов, произнесенных грудным голосом: «Я обо всем знала».
Он идет домой, по опустевшему городу. Он не знает, наступил ли комендантский час, — он ничего не знает.
А навстречу по блестящей от дождя мостовой приближается дребезжание металла, хрипение мотора, кашель забитой выхлопной трубы. Два луча желтого света, две пригашенные фары смотрят на него — может быть, с очень далекого расстояния, а может быть, с близкого. Слышится скрип тормозов, грузовик останавливается прямо перед ним. Какой-то мужчина что-то говорит ему из окна кабины затерянным в темноте голосом, и качающаяся колымага отправляется в свой одинокий путь.
Некоторое время Михал продолжает стоять, наконец идет дальше по середине вымершей улицы.
* * *
Мать открывает ему дверь, прежде чем он успевает позвонить. Она ждала его в коридоре, прислушиваясь к шагам на лестнице. Она внимательно смотрит на него, открывает рот и ничего не говорит. В последнее мгновение она сдерживает свое «что случилось?» — этот крик материнской тревоги, которого с таким страхом ждал Михал. В молчании входят они в комнату. В молчании садится Михал перед тарелкой супа. Он берет в руку ложку, но не отдает себе в этом отчета, не видит тарелки, он весь погружен в себя, он среди растоптанных вещей, в темноте пустых улиц.
Мать ни на минуту не отрывает глаз от его лица. Он чувствует это и встречает полный жертвенной готовности ее взгляд, и вдруг слова сами срываются у него с губ.
— Тереза арестована, — говорит он.
Мать медленно складывает руки на груди.
— Боже мой!
— Она скрывала еврейку, — говорит он.
— Боже мой!
Ему нечего больше сказать, и над столом воцаряется тишина, но Михал осознает, что он не один. В каждой морщинке материнского лица заключены скорбные, полные участия мысли о Терезе, о девушке, которую мать видела всего несколько раз. Твердый комок в груди Михала становится мягче, подходит к горлу, чтобы наконец превратиться в обычную человеческую печаль.
— Будешь есть? — спрашивает тихо мать.
Михал отрицательно качает головой.
— Я разогрею тебе это на ужин, — говорит она.
Она встает, убирает со стола. Ее заботливая, полная нежности суета приносит успокоение.
И до момента, когда приходит пора ложиться спать, ничего не меняется. Они ходят осторожно, почти на цыпочках, делая лишь самые необходимые дела, говорят лишь самые необходимые слова, дружественные и полные участия друг к другу. Они знают, что каждое неосмотрительное движение может нарушить состояние временной нечувствительности.
Вернувшись из ванной, мать долго молится возле кровати, а кончив молиться, целует Михала на ночь, и Михал обнимает ее взволнованный. Потом он садится на тахту в темной комнате не раздеваясь. Окно он оставил открытым, бумажная штора легко шелестит от ночного ветра. У него такое чувство, словно все его будущее ушло из-под ног. И некуда сделать следующий шаг. А идти дальше надо. Не думая об этом, он знает, что должен сделать еще несколько дел, которые кажутся ему унылыми, лишенными смысла призраками поступков. Когда наконец дыхание матери сменяется ритмичным сонным посапыванием, Михал тяжело поднимается и зажигает у изголовья кровати маленькую лампочку. Некоторое время он стоит, стараясь мысленно восстановить прерванную нить своих дел. Наконец он подходит к печке и из щели между кафелем и стеной достает завернутый в тряпку револьвер Длинного. Потом он становится на колени возле тахты. Из-под ремней, придерживающих пружины, он достает плотно сложенный квадратик бумаги — последнюю газету, которую не успел прочитать и пустить по кругу. Все это он заворачивает в лежащий на столе номер «Гонца». Потом осторожно поднимает бумажную штору и вылезает через окно на наружную галерейку. Дождь перестал, на крышах лежит водянистый свет луны. Он идет в тени вдоль стены, обходит две стороны двора и останавливается у винтовой лестницы. Одна из ее ступенек шатается. Он вытаскивает доску, прячет под нее свой сверток и возвращается той же дорогой.
Потом он медленно раздевается. Каждое его движение рождается из автоматизма мускулов, но почему-то сегодня в них есть некоторая скованность — так раненый человек охраняет в себе источник боли. Он должен побороть себя, чтобы погасить лампу и залезть под одеяло. Он боится воспоминаний, которые только и ждут темноты и бессонной неподвижности тела. Чтобы защититься от них, он начинает обдумывать детали завтрашней операции. Они кажутся ему совершенно нереальными. Улица, газетный киоск, ворота, дом на углу, забор автомастерской. Картины накладываются, как безжизненные фотографии, на единственную реальность — опустошенную комнату Терезы.
Он с трудом вспоминает серую фигурку Клоса, сгорбившуюся у дверей дома. Он знает, что эта картина содержит в себе самые различные возможности, которые надо предвидеть. Поэтому он начинает строить предположения над пропастью ожидающей его действительности.
«Иногда он ходит один, — думает Михал. — Это лучше. И не всегда возвращается в одно время. Он может обойти засаду, и тогда завтра это не состоится. А если он меня видел? Если он меня видел, — продолжал Михал размышлять, — он может приготовиться к обороне».
Мертвая картина улицы постепенно наполняется тревожным содержанием. Он уже не так спокоен. В душу его закрадывается страх.
Михал видит себя стоящим в тени киоска, видит идущих со всех сторон штатских — из-за угла, из ворот, с противоположной стороны улицы. Штатские с руками в карманах, в шляпах, надвинутых на глаза, хорошо знакомые штатские с собачьими лицами.
Теперь ему страшно, он сжимает зубы от страха. Выстрелы распарывают темноту быстрыми белыми полосами. Бешеный бег с сердцем в горле. Он видит немощеную боковую улочку, идущую куда-то под уклон, он бежит по ней вниз. И тогда из-за следующего угла выезжает притаившаяся машина, берет его в холодные ножницы фар. Ослепленный, он мечется из стороны в сторону, как заяц, и не находит выхода из потока света, а вокруг сверкающие звезды, все более плотный поток лучей. Он почти уверен, что так оно и будет. «Но все-таки надо через забор, — думает он. — И надо оставить один патрон. Для себя».
Он пробует и другие варианты, но этот остается в памяти самым отчетливым. Измученный, он ворочается в постели, плотно сжимает веки. Это длится очень долго. Недавняя боль содрогается где-то в глубине, как оседающий фундамент охватившего его страха. Картины все время возвращаются, полные жестоко-выразительных деталей. «Если бы я мог молиться», — думает Михал и чувствует над собой огромную черную бездну.
Вдруг он вспоминает, что цель всего этого — убийство Клоса. Он должен убить Клоса, обладателя многих тайн.
Измученного Клоса с бледным бегающим взглядом, с любовью к жене и маленькой трехлетней девочке, которые ни о чем не знают, Клоса с памятью, полной стихов.
В страхе за собственную жизнь Михал не пожертвовал ему ни одного удара сердца. Значит, вот как это бывает? Он призывает на помощь лица Терезы и Моники. Говорит самому себе, что вот он предает все, даже собственное отчаяние. Он полон отвращения, но не может освободится от страха.
Где-то в монастырском саду хрипло запел первый петух. Михал поворачивается к стене. Всем сердцем он хочет заснуть. Заснуть и никогда уже не проснуться.
* * *
Одним рывком он садится в постели. Непрерывно звонит звонок, дверь гудит от тяжелых ударов. Трещит сорванная светомаскировка. Жесткий картон с хрустом и хлопаньем падает на стол, серый рассвет врывается в комнату, вместе с ним через подоконник перелезает большая черная фигура. Твердые голенища, на фуражке блестят череп и кости. Их опережает крик:
— Auf! Hände hoch! [44]
И Михал спускает на пол босые ноги со странным чувством облегчения. Он видит неясный силуэт матери на кровати. Видит, как она медленно поднимает вверх худые белые руки, по которым сползают рукава рубашки.
На какой-то миг кажется, что все утихло, так как прекратились звонки и удары. Слышны лишь ворчание грубых голосов и тяжелые шаги в коридоре.
Черный стоит посреди комнаты, широко расставив ноги. Он направляет на Михала кулак с револьвером. Внезапно их становится больше. Штатский в кожаном пальто и тирольской шляпе, офицер в хорошо подогнанной шинели.
— Dort! [45] — кричит черный, показывая дулом на простенок между дверью и стеной.
Михал на ощупь всовывает ноги в туфли и, шлепая, идет к стене. Твердая лапа опускается ему на плечо, поворачивает его лицом к стене.
— Nein, Sie bleiben sitzen! [46] — Это, наверно, матери.
— И оставайтесь в кровати, мамаша, — говорит штатский тяжеловесным польским языком.
Ими наполнена вся квартира. Отовсюду слышен треск открываемых шкафов, грохот выдвигаемых ящиков. В соседней комнате пани Ядвига, мать Мачека, что-то объясняет по-немецки ясным отчетливым голосом. Бешеное, как удар по щеке, «Maul halten!» [47] заглушает ее слова.
Теперь они вытаскивают чемоданы из-под кровати. Какие-то вещи падают на пол.
Холодный металл упирается Михалу в плечо.
— Kannst du nicht die Hände recht halten, Kerl? [48]
Это не черный и не штатский. В его голосе звучит справедливое порицание. Краем глаза Михал замечает зеленую шинель. Он выпрямляется и поднимает выше руки, которые начинают уже дрожать. Офицер не отходит.
— Isfame? [49] — спрашивает он.
— Vorname? [50]
Михал удивляется спокойному звучанию собственного голоса во время ответов.
— Geboren? [51]
— Beruf? [52]
Потом шелест бумаги и брошенное куда-то в глубину «stimmt?» [53], на которое нет ответа.
В это время штатский выдвигает ящики стола. Михал чуть поворачивает голову и видит, как тяжелые лапы нетерпеливо перелистывают записи, хватают французский словарь и трясут им в воздухе, а потом пренебрежительно бросают на пол. Теперь штатский держит тетрадь в клеенчатой обложке. Перелистывает страницы. Читает. Михал смотрит на его лицо. Толстый нос, толстые красные щеки, твердые губы, от твердых, как кулаки, слов. Он читает, наморщив низкий лоб, и Михал со странным напряжением следит за выражением этой физиономии, за признаками тех впечатлений, которые могут на ней появиться.
Офицер отходит, скрипит сапогами возле шкафа.
— Na, was ist denn das, Gerhardt? [54] — спрашивает он через минуту.
Штатский переворачивает еще одну страницу, потом хлопает тетрадью об стол.
— Ach, Mensch, Scheiss! [55] — говорит он, пожимая плечами.
У Михала начинает болеть спина. Он все чувствительнее ощущает холод, проникающий под тонкую пижаму. Его слегка знобит, но он спокоен, совершенно спокоен.
Почти с благодарностью принимает он приказ черного:
— Anziehen! [56]
Михал осторожно ступает между разбросанными книгами и одеждой. Поднимает с пола брюки, рубашку, свитер. Одевается, не обращая внимания на направленное на себя дуло. Мать выразительно смотрит на него с кровати. Она держит сжатые руки на голове, беззвучно двигает белыми губами.
— Fertig? [57] — спрашивает черный.
— Jawohl [58].
— Dann raus! [59]
Они выводят его в коридор. Здесь уже стоит лицом к стене Мачек под охраной двух жандармов в касках и с автоматами.
Опять слышен голос пани Ядвиги, объясняющий что-то настойчиво и с достоинством. В глубине квартиры все еще шаркают тяжелые сапоги, хлопают двери. Коридор наполняется людьми.
— Alles in Ordnung? [60] — спрашивает офицер.
Кто-то легко бежит частыми шажками.
— Мачек, возьми!
Они оборачиваются вместе. Пани Ядвига держит наспех завернутый сверток — теплые кальсоны и свитер.
— Na, gut! [61] — говорит милостиво черный, показывая Мачеку, чтобы тот взял сверток.
Мать Михала тоже появляется на пороге комнаты в своем выцветшем халатике, со свертком в руках.
— Zos! [62] — говорит офицер.
Штатский открывает дверь на лестницу, жандармы в касках становятся по бокам. Тогда офицер показывает на Михала дулом и говорит равнодушным тоном:
— Der kann bleiben [63].
Они стоят теперь тесно сплотившейся группой: отец Мачека, в поношенной коричневой пижаме, пани Ядвига с высоко поднятой головой в облаке светлых растрепанных волос и громко всхлипывающая старая служанка Франтишка. Рука Михала крепко сжимает хрупкие трясущиеся пальцы матери.
Они прислушиваются к удаляющемуся, как гром, топоту ног на лестнице. Слушают и молчат, и только лицо пани Ядвиги становится все бледнее.
* * *
— Это приказ, — говорит Старик. — Все бросать и сматываться.
Они сидят в плетеных креслицах, среди искусственных цветов Марты, среди ее статуэток и вышитых клоунов.
— Здесь адрес. — Он подает Михалу конверт. — Это та же самая явка, где сидит Рыжий, то есть Ирена, или как его там. Только никаких глупостей.
— Я хочу в лес, в лес, — говорит Михал.
Старик кривится, поправляет пенсне.
— Посмотрим. А пока надо ждать. Никому не писать, даже матери.
— Мать уезжает в Варшаву. Она сейчас у знакомых.
— Хорошо.
— А Клос? — спрашивает Михал.
Старик сердито кашляет.
— Я сказал: все бросить. Вы сгорели. Слишком близкое попадание.
Они замолкают. В косом луче света мечутся частички пыли.
— К какой организации принадлежал этот ваш приятель? — спрашивает Старик.
— Не знаю. Учился в подпольном политехническом институте.
— Это выяснится.
Старик поднимает с пола свой портфель. Встает. Некоторое время смотрит на Михала.
— Выспаться на явке. И уходить… — Старик по-дружески кладет руку Михалу на плечо. — Да, — вздыхает он. — Все мы уже чертовски от этого устали.
* * *
Михал стоит у окна между коленями деревенских баб, между выступающими из-под лавок корзинами. За стеклами вагона опять начался мелкий обложной дождь. В его косых полосах движутся телеграфные столбы, размокшие пашни, зеленые квадраты озимых. На горизонте темным полукругом стоит лес.
Набившиеся в тамбур парни из строительного батальона поют под стук колес визгливыми голосами:
Наша жизнь пусть несется с песнею вдаль.
Наша жизнь молодая тверда, как сталь.
Михал опирается о косяк. Лихорадочное тепло усталости заливает его щеки. Он опустошен. Он страшно устал, и его клонит ко сну.
Говорят, что Христофор Колумб, пускаясь в плавание, имел на борту своей каравеллы старые карты, составленные арабскими мореплавателями. Если это верно, то выходит, что Атлантику он пересекал не первым и свое открытие совершил на путях, давно проложенных другими.
Повторение судьбы Колумба суждено, в сущности, каждому человеку. Сколько бы прежде составленных карт ни ориентировало того, кто пускается в плавание по житейскому морю, каждый заново открывает в нем свои материки и вместе со своим поколением накапливает новый, неповторимый жизненный опыт. Одна из самых популярных книг в послевоенной польской литературе — трилогия Романа Братного — так и называется: «Колумбы, год рождения 1920». Ян Юзеф Щепанский принадлежит к тому же поколению. Он родился в 1919 году, и его роман повествует о тех, чье двадцатилетие наступало под грохот рвущихся бомб, в багровом зареве пылающей Варшавы, в хаосе только что открытого и внезапно обрушившегося мира, в котором протекли их детство и юность. Дым пожарища заволакивал короткое прошлое и не позволял различить очертания будущего.
В том рухнувшем мире берега открываемых земель встречали юных пришельцев недружелюбно. Они вселяли предчувствие беды и рождали неясное представление о каннибальстве. Поэтому, как бы трагична ни была происшедшая катастрофа, она вселяла и надежды: быть может, мир, который поднимется из-под пепла, будет лучше и чище погребенного под обломками?
Такой надеждой проникнуты лучшие из книг, написанных от лица «Колумбов, рожденных в 1920-м». И та же надежда, питаемая неистребимой верой в то, что человек рожден для жизни справедливой и умной, является источником поэтического лиризма, отличающего все главы грустной — и вместе с тем очень светлой — книги Яна Юзефа Щепанского «Мотылек».
Литературная судьба автора этой книги необычна и нелегка. Писать он начал рано, первые вещи его датированы 1940 годом. Но встреча с читателем состоялась куда позднее: его первая книга «Штаны Одиссея» вышла лишь в 1954 году — далеко не сразу после того, как была написана. А еще год спустя появилась написанная дважды «Польская осень». Впервые она писалась во время войны, в партизанском подполье, где находился молодой писатель в год гитлеровской оккупации; рукопись была утеряна; автор взялся за нее во второй раз, когда война закончилась. И только после этих двух книг увидели свет его первые рассказы. Однако в литературных кругах имя Щепанского было известно до выхода первой книги. Критик Влодзимеж Мацёнг писал, что Щепанский долгое время был автором, о котором говорилось, что в ящиках его письменного стола лежат шесть книг, напрасно дожидающихся издателя.
Быть может, эти сложные обстоятельства литературной биографии явились причиной того, что Щепанский так никогда и не появлялся перед читателем как новичок-дебютант. В польскую литературу он сразу вошел как зрелый и своеобразный мастер с богатой и хорошо разработанной палитрой красок. Он писал о пережитом, о том, через что прошел он сам вместе с большинством своих читателей. И, продолжая возвращаться к одному и тому же кругу тем и переживаний, он всякий раз находил иную точку зрения, и потому иным становилось его отношение к героям. Он был патетичен в «Польской осени», ироничен в «Штанах Одиссея»; в «Мотыльке» он повел своего читателя в мир, полный лирических воспоминаний об открытиях, которые совершал в нем ребенок, потом подросток и, наконец, юноша, ввергнутый в жестокую бурю войны и подхваченный ее опаляющим ветром.
Одиннадцать глав романа — это одиннадцать воспоминаний, одиннадцать открытий, и каждое из них приносит новому Колумбу разочарование, сталкивая его с неясной угрозой, с новыми проявлениями затаенной враждебности, со внезапно возникающей тайной смерти, которая так и остается нераскрытой, даже и тогда, когда война делает смерть событием самым обыденным, и герой книги — сам «Колумб» — вынужден идти на предумышленное убийство человека по слепой случайности доставшегося ему жребия.
Щепанского никогда не увлекала литературная мода. Он избегает нарочитых построений, чурается всяческих формальных изысков. Его проза реалистична, его стиль стремится к лаконизму, язык сочен, обогащен диалектизмами народной речи; в ранних повестях и рассказах забота о том, чтобы с фонетической точностью передать доподлинный говор крестьян, одолевает его с силой, вызывающей в памяти такие русские аналогии, как «Партизанские повести» молодого Всеволода Иванова с ворвавшейся в них свежестью сибирской чалдонской речи пли «Россия, кровью умытая» Артема Веселого, где стихия революции привольной речью «братишек» взорвала привычный литературный язык. Это стремление к точной передаче слышимой речи не влечет за собой никакого разрушения традиционной литературной формы. Как только герой уступает место автору, тот сразу приводит все в порядок и продолжает свой обстоятельный, неторопливый, полный точных наблюдений и склонный к тщательному анализу рассказ. Именно память на живые детали и умение вдумчиво их анализировать во всей совокупности составляют наиболее сильную сторону таланта Щепанского.
Давно, вскоре после выхода первых своих книг, Ян Юзеф Щепанский обронил о себе фразу, как бы винясь перед критиками и опережая упрек, который ожидал он от них услышать. Он писал, что герои его недостаточно положительны, а их поступки слишком мало годятся для примера. Смысл признания был таков: что поделаешь, пишу о тех, с кем сталкивала меня жизнь, и изображаю их такими, какими видел…
Но ни сам Щепанский, ни критики, которые говорили о его книгах, не сказали о главной примете героев этих книг: в каких бы сложных (и чаще всего трагических) обстоятельствах ни являлись они перед читателем, они заставляют ощутить, что рождены все они для иной жизни, для иных дел, что обладают они человеческим талантом, погибающим втуне в силу различных неблагоприятных и от них не зависящих обстоятельств, и что они — в преимущественном своем большинстве — по природе добры, а не злы. И если они вынуждены разрушать и убивать, то это происходит не по присущим им склонностям, но вопреки им.
Одна из излюбленных Щепанским ситуаций, дающая возможность для таких именно размышлений, появляется уже в рассказе «Конец легенды», принадлежащем к числу самых ранних вещей Щепанского, но опубликованном лишь в 1956 году в сборнике «Сапоги».
Начало рассказа приводит читателя в вокзальную толпу времен оккупации. Из толпы — как бы кинематографическим приемом, крупным планом — выхватывается один человек. У него нет имени, только кличка, и кличка эта Серый. «Действительность оборвалась для него на последнем ночном постое… Называли там друг друга именами животных, деревьев и птиц, поминали в разговорах названия глухих лесных нор и мельниц, неведомых картам ручьев и болот, причем все эти названия были полны для каждого живым, почти одушевленным содержанием». Серый — партизан, который впервые за все время войны соприкасается с давно покинутым миром, и самым большим потрясением для него оказывается то, что мир этот почти не переменился, «что он увидал его таким же, каким был им покинут». Тут наступает и второе потрясение: Серый начинает сопоставлять со вновь обретенным миром самого себя и убеждается в том, насколько переменился он сам.
Все это происходит в дни рождества, накануне встречи Нового года. И вот Серый попадает в знакомый с детства дом добрых знакомых, где за время его отсутствия девчонки успели превратиться во взрослых девушек, где оживленно и весело готовятся к новогоднему маскараду и где вокруг него сразу начинается веселая суета, такая страшно далекая от всего, что он оставил в лесу.
Тут никто не менял имен. Тереза осталась Терезой, Иза — Изой. Хозяин дома, господин Войно, не изменил ни одной из своих привычек, запомнившихся Серому с тех пор, как он в последний раз был в этом доме. И к самому Серому внезапно возвращается его собственное полузабытое имя — Юзек… Казалось бы, все складывается так, что утомленный и выбитый из колеи герой должен наконец отогреться в этом обойденном войною доме и обрести давно утраченное равновесие. Однако равновесие не возвращается. Напротив, война настигает его и здесь, от нее нет отпуска; то, что было пережито в лесу, безвозвратно разлучило его с прошлым, поставило непереходимые рубежи, лишило общего языка с теми, кого он вновь повстречал в этот новогодний вечер и кто невредимым дошел сюда со своими привычками, взглядами, увлечениями. Было все это прежде и у Серого — интерес к искусству, склонность к философским абстракциям, защита абстрактных идеалов, — и все это оказалось давно растерянным в лесных укрытиях, в грязи и крови последних месяцев его жизни. Он не может ответить собеседникам даже на простые вопросы. «Ведь были у вас бои? — спрашивают его. — Были успехи?» Но что толку рассказывать здесь об этих боях и успехах? В лесу говорилось: «Сегодня у нас будет пу-пу!..» — и все знали, что это означает предстоящую схватку, из которой не все возвратятся живыми. И после схватки тоже говорилось немного и чаще всего о самом незначительном. У людей там была общая судьба, и они привыкли понимать друг друга без слов. А тут нужно выискивать поражающие воображение сюжеты, вспоминать нечто необычное, умалчивать о вещах, не подходящих для девичьего уха. Да что там девичье! Неосторожное упоминание о том, что они не могли обременять себя пленными, оказалось непонятным хозяину дома. «Ведь это ненужная жестокость!»
Но особенно постылым и глубоким становится для Серого его отчуждение от людей, окружающих его в этот новогодний вечер, когда он постигает все суесловие привычных диалогов, всю пустоту звучащих вокруг многозначительных речей и громких слов. «Исторический эпос… Легендарные подвиги…»
«Так легко уйти от ответственности за конкретное дело, если знаешь немного литературу…»
И тогда возникает самый важный вопрос, настойчиво и неотступно требующий ответа: «За что вы боретесь? За какую Польшу?» Этот вопрос возникает с разных сторон. На него нужно ответить — не спрашивающему, а самому себе. Здесь, в доме Войно, его задает сверстник Серого, который вообще избегал всякой борьбы, отсиделся в сторонке. Но тот же вопрос был уже однажды задан Серому в лесу, когда невдалеке от их отряда расположились парашютисты Армии людовой. Серый заговорил с одним из них и услышал от него: «За какую Польшу вы боретесь? За такую же, какой она была раньше? За санационную, капиталистическую, помещичью?» Серый не был готов к ответу — ни тогда, ни долгие месяцы спустя, в канун последнего военного года.
Не заданный вслух, тот же скрытый вопрос снова явственно звучит в «Мотыльке».
Это может показаться анахронизмом. Разве сама история не дала ответа на этот вопрос уже четверть века тому назад? Кто же не знает, кому досталась победа и какую Польшу построили победители, очистив от захватчиков свою землю?
И все же вопрос этот, как один из самых насущных, продолжает возникать в современной польской литературе, и на него по-своему отвечают и Тадеуш Конвицкий в своем «Современном соннике», и Адольф Рудницкий в новых «Голубых страницах», и Ежи Анджеевский, и Юлиан Стрыйковский, и с ними Ян Юзеф Щепанский в «Мотыльке».
В этом заключается один из важнейших элементов долга писателя: объяснить не только своему поколению, но и последующим, почему история складывалась так, как она сложилась, а не по-другому.
Для того чтобы найти свой ответ, Щепанский обращается к детским и юношеским воспоминаниям. Они дороги ему каждой своей подробностью, и тем сильнее боль, которую он испытывает, обнаруживая во всем, что с самых ранних истоков формировало его жизненный опыт, симптомы смертельной болезни, уже тогда обрекшей этот мир на гибель.
Первое соприкосновение с темой смерти происходит в главе «Мотылек», открывающей книгу и давшей ей название. Это одно из самых ранних воспоминаний лирического героя, ведущего повествование. Память возвращается в безоблачные годы самого начала жизни. В сад, который казался огромным как мир и заключал в себе для ребенка его Вселенную. К детской игре, когда обыкновенные сосновые шишки — «большие, коричневые, блестящие, будто их кто-то почистил пастой», — так легко одушевляются и могут превратиться в коров. А другие, «маленькие, мягкие, влажные от смолы, со слипшимися зелеными лепестками, розовыми по краям», — это овечки. А стоит только захотеть, и коровы тут же превратятся в лошадей, а овечки станут жеребятами. И все это будет совсем взаправду.
Это свойство — творить чудеса, по-своему пересоздавать мир и убежденно верить в свое всемогущество — присуще всем детям, и об этом очень точно писал Юлиан Тувим. Он сказал, что рано или поздно это свойство утрачивается. Но некоторым удается сохранить его, и такие люди становятся поэтами.
Глава «Мотылек» написана, как стихотворение. Точнее, как лирическая притча.
Несложная на первый взгляд тема обретает поэтическую глубину. В притче появляются подспудные, еще непостижимые для героя смыслы, и короткий эпизод оказывается развернутым символическим образом, вмещающим в себя главное содержание книги.
Среди шишек-жеребят, среди капель росы мальчик видит сухой листик, которого только что не было. Листик движется. Он вползает на детскую ладонь. Раскрывается, блеснув на миг «черно-коричневыми крапинками на пушистом бархате». Листик оказывается мотыльком. Он «не прилетел, а пешком вышел из травы. Может быть, он болен?»
Мальчик заговаривает с ним как с приятелем. «Здравствуй… Где ты живешь?.. Покажи, какие у тебя крылышки…» Детский глаз изменяет масштабы. Все видно крупно, ясно. У мотылька волосатые ножки. За детскую руку он хватается словно бы маленькими коготками. Мальчик хочет помочь ему раскрыть крылья, но вот они уже не те, что были: бархат местами вытерт. Это, наверно, плохо.
Начинается дождь. Надо помочь мотыльку спрятаться, не промокнуть. Мальчик находит ямку-домик и принимается заталкивать мотылька туда. Нет, это не насилие. Ведь мальчик очень осторожен. И он очень искренне хочет, чтобы все было «как лучше». Но, «коснувшись этой беззащитной хрупкости, он почувствовал дрожь, похожую на отвращение. Мотылек отчаянно хватался ножками за его руку, нужно было немного дернуть, чтобы его оторвать». Но ведь нельзя же, чтобы мотылек промок. А отверстие слишком маленькое. «Голова мотылька входила в него без труда, но крылышки не пролезали. Теперь, уже сложенные, они качались из стороны в сторону, а ножки беспомощно перебирали воздух».
Мальчик осторожен. Он раскапывает отверстие палочкой. «Еще немного, и все будет хорошо. Сейчас, сейчас, мотылек. Крылышки у него немного помялись, но он уже почти весь влезал внутрь. Он, видимо, понял, в чем дело, и перестал перебирать ножками. Одна из них слегка вздрагивала, но вообще он проявлял большое терпение».
Так хочется, чтобы мотылек не промок, чтобы ему не было никакого вреда, чтобы все было хорошо. Однако ощущение неясной угрозы все нарастает. Происходит что-то непоправимое. Мальчик не умеет понять, что именно; он уговаривает себя, что все идет хорошо, но сознание случившейся беды не исчезает. Когда он палочкой подталкивал мотылька в нору-домик, «словно ток прошел у него по руке, он уткнулся во что-то мягкое. Он отбросил палку, конец которой был выпачкан чем-то белым. У него наверно насморк, объяснил он себе. Но краешек крыла все еще высовывался из норки. Мальчик прикрыл мотылька плоским камнем. «Теперь на него не будет капать. Когда дождь пройдет, я его открою».
Однако он уже знает, что не пойдет, не сможет себя заставить вернуться к «домику» мотылька.
Он слишком ясно чувствует, чем обернулось его доброе желание помочь другому созданию, защитить его от опасности. Это первая в его только что начавшейся жизни гибель живого существа, и он сам — вопреки собственной воле — оказался причиной этой гибели. Он искренне не хотел этого.
Короткую главку пришлось рассказать подробно, потому что она концентрирует в себе нравственное содержание всей книги. Так, Лев Николаевич Толстой начинал «Хаджи-Мурата» с рассказа о том, как он проходил летним лугом и увидел цветущий репей, который зовут «татарином». Попытался сорвать, и зря. Цветок не дался и — сорванный — был уже нехорош. Он погублен без толку. А потом попался другой куст того же «татарина». Тот был переехан колесом, но после поднялся и хоть стоял боком, но все же стоял. «Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братии кругом его».
Здесь нашла сжатое выражение тема жизнеспособности, биологической стойкости живого, упрямого сопротивления всем невзгодам.
«Мотылек», напротив, напоминает читателю о хрупкости человеческой жизни, о том, какой незащищенной и зыбкой оказывается она перед лицом обрушенных на нее превратностей судьбы.
Это аспект, рожденный полученным опытом, всей суммой открытий Колумба, рожденного в Польше (то есть на сложнейшем перекрестке исторических путей) на двадцатом году нашего века и оказавшегося в первом же большом своем плавании свидетелем крушения мира, в котором протекло начало его биографии.
Можно ли удивляться, что из этого открытия возникло множество трудных проблем, которые до сих пор продолжает решать современная польская литература? Эти проблемы все еще принимают в наследство и куда более молодые писатели, вступающие в литературу в наши дни. Да и не только писатели. В социологических исследованиях, основанных на классных сочинениях выпускников средней школы, сдававших экзамены летом 1967 года, отмечено, что наибольший интерес был проявлен к «третьей теме». Под этим номером в списке предложенных тем числилась следующая: «Война и ее трагические последствия в свете литературы Польской Народной Республики». Материалом служили книги, входящие в школьную программу и написанные задолго до «Мотылька»: «Медальоны» Зофьи Налковской, «Пепел и алмаз» Ежи Анджеевского и «Немцы» Леона Кручковского. Один из социологов огорчался: такой круг чтения «не дает полного образа войны»; писатели показывают ее «лишь в моральных аспектах». Другой возражал, отстаивая важность именно аспектов моральных и показывая, что именно они дали широту лучшим из сочинений, написанных перед получением аттестата зрелости.
В статье на ту же тему, напечатанной в юношеской газете «Штандар млодых», рассказано, что школьник-абитуриент с материалами, почерпнутыми из книг для внеклассного чтения, сопоставил услышанное по радио сообщение о боях во Вьетнаме и это сопоставление пробудило мысли об освободительной борьбе народа, о героизме, национальном самосознании и интернационализме — мысли, которые пришли к юному автору именно благодаря книгам, показывающим войну «лишь в аспектах моральных».
Тема четвертьвековой давности не только не исчерпана, но и до сих пор актуальна. Она живет не только в воспоминаниях ветеранов, но питает устремленные в завтрашний день размышления тех, кто вступает в жизнь и готовится к новым, собственным открытиям в предстоящем плавании. Когда Щепанский винился в том, что его герои не подают возвышающих примеров, он, вероятно, помнил и о том (настоящий художник не может об этом не помнить), что таким примером далеко не всегда является лишь впрямую рассказанный героический случай; стремление к подвигу — и куда более активное — может пробудиться и из чувства протеста против рептильной жизни, против изуродованного, не сумевшего противиться обстоятельствам характера, из потребности деятельно вмешаться в события и не покориться течению, но сильными саженками пойти ему наперекор. Лобовой пример, изображенный художником, может повториться разве лишь в силу инстинкта подражания; книги, подобные «Мотыльку», будят живую мысль, и в этом их сила.
Из главы в главу Щепанский показывает, как жизнь снимает с крыльев мотылька пыльцу, необходимую для того, чтобы мотылек мог жить и летать. Это происходит по-разному, и виноватых чаще всего доискаться трудно. Далеко не всегда это связано с войной, с вторжением врага извне; так же, как во вступительной главе, художник обращается к эпизодам гораздо более ранним. В главе «Черный» от искры, упавшей из печки, загорается плюшевая кукла-обезьянка, любимица сестры Моники. Для Михася она такая же живая и одушевленная, как все, с чем он встречается в этой открывающейся ему жизни. Как шишка-лошадь или как больной мотылек, которого он так неудачно пытался спасать. В случае с обезьянкой страшным для Михася оказывается то, с какой легкостью любимое существо может быть покинуто в беде. Так просто примиряется с происшедшим Моника. А ведь она любила свою обезьянку. И вот изувеченная макака валяется за печкой, и никому, даже Монике, нет до этого дела.
А тут еще и вторая история прихотливо сливается с главной: загоревшаяся обезьянка напоминает про зоологический сад. Михась с сестрой любили смотреть там медведей. Из разговоров взрослых они узнали, что черный медведь Шварц съел случайно упавшую в его вольер маленькую собачку. Больше он уже не сможет по-прежнему смотреть на медведей. И воспоминание про обожженную обезьянку, брошенную за печкой, доводит его до горячки и навсегда оставит трещину в отношении его к самым близким людям, которые не сумели и не захотели ничем ей помочь.
Потом вспоминается канун того дня, когда Михась впервые пойдет в гимназию. На нем новая форма. День полон неясных, но торжественных и счастливых предчувствий, и Михась, выполняя наказ матери, впервые без провожатых, один, отправляется к бабушке, чтобы показаться ей на этом важном жизненном переломе. Короткая глава «Концерт» построена сложно и тоже чрезвычайно важна для книги. Представления Михася о бабушке сложились из не очень ему понятных разговоров взрослых; они неясны, отрывочны и противоречивы. Отношения бабушки с родителями мальчика, видимо, оборваны какою-то ссорой. Комната бабушки — зыбкий мост в прошлое, последнее средоточие старых семейных преданий, уже всеми, кроме нее, позабытых. Там следы давно ушедшей молодости, в реальность которой так же невозможно поверить, как невозможно представить себе живым усатого наполеоновского офицера, изображенного на миниатюре. Но для бабушки эта миниатюра — одно из тех живых романтических воспоминаний, какие никогда не стареют и позволяют не стареть ее собственной душе. Эта глава говорит об отчуждении поколений, о непреодолимой их разобщенности. Однако с Михасем бабушку успевает внезапно связать музыка любимого концерта, который старуха и мальчик слушают вместе в наушниках старого детекторного приемника. Но тут же и обрывается эта последняя и тончайшая связь настоящего с прошлым; глава, как и предыдущие две, заканчивается смертью: бабушка умерла, видимо сразу же после того, как Михась ушел из ее комнаты. Умерла в одиночестве, и с нею ушли все старые предания и легенды семьи; снова крылья мотылька теряют какую-то долю пыльцы и их бархат оказывается стертым.
В главе «Топорик» происходит крушение мечты. Колумбы отправляются в первое путешествие, удирая из дому. Пусть они заранее знают, что возвращаться придется к вечеру. Но может быть, и завтра… «Как нам захочется» — вот что самое важное. Они запасаются хлебом и сыром, и им кажется, будто теперь они ни от чего не зависят и ничто не способно связать их волю в поисках приключения. Знакомые окрестности полны на этот раз неожиданностей, и на первых же шагах их поджидает открытие. Кто из школьников, увлекающихся историей, не совершал подобных открытий, когда поднятый кремень кажется обработанным человеческими руками и, несомненно, указывает на место стоянки каменного века? Но тут дело не в том, состоялось открытие или не состоялось. Произошло другое. Все было чудесно в дороге, но путешествие оборвалось, потому что хлеб и сыр съедены, сознание, что домашние будут беспокоиться, чересчур сильно; возвращаться приходится тем же вечером вопреки собственным намерениям. Уйти далеко не удалось; не удалось даже заблудиться как следует; желанная свобода не наступила. Сил для исполнения мечты не хватает, и даже найденный кремень потерян в дороге, и уже не удастся проверить, был ли это в самом деле топорик, сделанный в каменном веке, и открыли ли они стоянку доисторического человека.
За рассказом о крушении мечты следует рассказ о нарушении юношеской клятвы, а затем рассказывается история о том, как началась и окончилась первая любовь Михала, как первый идеал «прекрасной дамы» оказался пустой и совершенно ему чужой мещаночкой, чье духовное существо совершенно исчерпывалось банальным и стишками и картинками, которые заполняли любимый ею альбом, переданный Михалу с надеждой, что и он напишет туда что-нибудь в том же роде. Как будто ничего серьезного не происходит в этом рассказе. Он полон милых подробностей; в нем с превосходной поэтической точностью переданы юношеские волнения, переживания и надежды, связанные с первой любовью. Но тем сильнее потрясение, испытанное подростком, тем болезненнее и неизгладимее вынесенная из этого открытия травма.
И наконец, стремление стать живописцем сводит Михала с искалеченными биографиями, со способными, даже талантливыми, но выброшенными из колеи, надломленными людьми, от которых он узнает, что и эта любовь жестока и требовательна, что счастливой и разделенной она может оказаться лишь для немногих, самых лучших, беспощадно испытавших себя и сумевших доказать свое право прийти в искусство и отдать ему без остатка всю жизнь.
Это единственное из пережитых Михалом потрясений, которое основано на справедливом и необходимом требовании, а не вытекает из неустройства общественной жизни. Однако справедливость в этом случае не утоляет душевной боли и не облегчает жизнь такому человеку, как художник Карч, одному из влюбленных в искусство и жестоко отринутых им.
В школе живописи Карча и Желеховского наступает для Михала конец детства и начинается юность. Там Колумб совершает седьмое и последнее из своих открытий перед тем, как проститься с родительским домом.
А из дома, уже с изрядно поредевшей пыльцой на крыльях, Михал попадает в казарму школы подхорунжих, где ему приходится прощаться со многими прежними представлениями о духовной чистоте, о добропорядочности, о любви и откуда он выходит в строю, где рядом с ним, тщательно изготовленные по одному образцу, «затянутые в гладкое сукно», распевая и звеня шпорами, ступают в ногу такие же молодые люди, «полные веры в себя, полные надежды и любви к жизни».
Человеку свойственно сохранять благодарное воспоминание о годах детства и юности, даже если эти годы протекали трудно, в бедах и неблагополучии. Детство Михала по всем внешним приметам благополучно, хоть и далеко не безмятежно. Надо ли удивляться, что обо всем добром и ясном повествователь рассказывает в тональности, порой близкой к идиллической пасторали? Если бы автор ограничил себя одной этой интонацией, его рассказ мог бы показаться слащавым и неправдивым. Он резко контрастировал бы с последующими событиями и не позволял бы понять их. Но в «Мотыльке» такая тональность то и дело отступает перед вторжением тревог и болей подростка. Откуда же они приходят? Михал не упивается идиллией, он глубоко задумывается, и вместе с ним задумывается читатель. И когда наступает час исторической катастрофы, быстрота, с какой рушится искренне дорогой художнику мир детства Михала, уже не является неожиданной. Художник задолго до этого заставил нас ощутить неблагополучие внутри той сложившейся жизни, которая не смогла устоять под первым же серьезным ударом.
Поврежденные крылья, искалеченная психика относятся к тем травмам поколения, какую в Польше критики и публицисты называют «моральным горбом». Когда и как была нанесена эта травма? К прямому и однозначному ответу прийти трудно. Не приходит к нему и Щепанский, но эта его книга в ряду других книг по-своему объясняет, почему прежняя жизнь не восстановилась, да и не могла восстановиться вновь, хоть трудная война и была выиграна. Уже в сентябре 1939 года предопределилось со всей категоричностью, что победа должна стать двусторонней: чтобы сохранить жизнь — не одному человеку, но целому народу, — предстоит залечить не только раны, нанесенные извне и почти смертельные, но и уничтожить давно образовавшуюся внутри организма злокачественную опухоль.
То, что это еще не для всех было ясно, а для иных и прямо враждебно, привело к разобщению сил, к трагедии Варшавского восстания, к подмене подлинных интересов народа мелкой корыстью политических самолюбий, которая так часто делала подвиг в этой борьбе напрасным и смерть бессмысленной. Об этом напоминают и долго еще будут напоминать выстроившиеся побатальонно могилы военного кладбища в Варшаве, где похоронены погибшие повстанцы, цвет нации, юноши и девушки в возрасте семнадцати-двадцати лет, так и не узнавшие, что решимость их не была напрасной. О том же говорят могилы Пальмиры, живые цветы у обагренных кровью камней на варшавских улицах, фигура Ники с занесенным мечом — все то, что до сих пор сохраняет трагическую складку на облике сегодняшней Полыни. Эта складка объясняет, почему в польской литературе последнего двадцатилетия так часто звучало сомнение в необходимости совершенного подвига и возникало изображение «антигероя». Не избежал этого сомнения и Щепанский. В «Конце легенды» партизану Серому противостоит рефлектирующий, отстаивающий «политический реализм», ниспровергающий «патриотические мифы» и этим оправдывающий свой уход от борьбы «антигерой» Сицинский. Тогда Щепанский не ответил, кто из них прав. Он лишь показал, как трудно Серому в этот новогодний вечер. В «Мотыльке» ответы куда яснее. Четыре последних открытия Михала не оставляют никакого сомнения: какой бы трудной и опустошительной ни была борьба, как бы ни снимала она с крыльев последние остатки пыльцы, но, только борясь, можно сохранить сами крылья.
Нотой страшной, последней усталости кончается книга.
Михал в поезде.
Поезд такой же, как тот, в котором ехал в свой короткий отпуск из лесу Серый. В вагон набились бабы с кошелками. В коридоре парни из немецкого строительного батальона орут песню. Солдатские песни похожи. Когда Михал оканчивал школу подхорунжих, их песни звучали на тот же лад. И то было в канун сентября 1939 года. Девятое открытие Михала (глава «Граница») уже показало нам, что после этого произошло. Бодрая песня парней из баудинста нас не обманывает: мы слишком хорошо знаем, что ничего доброго не сулит им эта бодрость, а испытания Михала подходят к концу.
Между самим Михалом и Серым лежит целая пропасть. Причиной тому не только предшествующий опыт героя — он, вероятно, очень близок и тождествен у обоих, — но и весь последующий опыт художника. На те вопросы, на какие еще не умел ответить Серый десантникам, Михал дал бы ответ без запинки.
К этому его привели одиннадцать трудных открытий, которые дано было ему совершить в своих плаваниях по штормовому житейскому морю.
1
Житель горных районов Польши. — Здесь и далее примечания переводчика.
2
Стихи даны в переводе М. Павловой.
3
Харцер — в довоенной Польше бойскаут.
4
Ну вот, мы мечтаем. Мы фантазируем, парим в облаках… (нем.)
5
«Лесной царь» (нем.).
6
Кто мчится, кто скачет… (нем.)
7
Стой, парень (нем.).
8
«История искусств», издательство «Пропилеи».
9
Апсара — танцовщица из свиты главного индийского божества ведийского периода — Индры; Кхаджурахо — комплекс храмов, яркий образец средневекового зодчества Северной Индии (X–XI вв.).
10
Комплекс храмов во Вьетнаме.
11
Пещерные храмы в северном Хайдарабаде (Индия) с знаменитыми скульптурами и фресками.
12
Перевод В. Державина.
13
В Париже в каждом предместье Каждый день солнце…
14
Они жили в одном предместье…
15
Зеленая земля (лат.).
16
Набросок (франц.).
17
Коссак — семья польских художников: Юлпуш (1824–1899) И его сын Войцех (1857–1942).
18
Анри Руссо (1844–1910) — французский художник-примитивист.
19
Вершина в Западных Татрах.
20
Житейской мудрости (франц.).
21
Район Варшавы.
22
Район Варшавы.
23
Гм, хорошо, хорошо (нем.).
24
Тюрьма в Кракове.
25
Только для немцев (нем.).
26
Пожалуйста (венгр.).
27
Сейчас вы выходите (нем.).
28
Здесь нет станции (нем.).
29
Вы выходите! (нем.)
30
Да, да… скоро. На станции. Мне надо немного времени (нем.).
31
Сейчас же (нем.).
32
Вон! Вместе с этим барахлом (нем.).
33
Давай, давай! Быстрее! (нем.)
34
Это действительно очень тяжело (нем.).
35
Господин полковник (нем.).
36
Руки вверх! (нем.)
37
Железнодорожный охранник (нем.).
38
Дорогая мамочка! Я здорова и чувствую себя хорошо (нем.).
39
Сердечный тебе привет, твоя Моника (нем.).
40
Водка хорошо! (нем.)
41
Отпуск есть отпуск (нем.).
42
Книга учета выявленных подрывных элементов (нем.).
43
Профессия (нем.).
44
Встать! Руки вверх! (нем.)
45
Туда! (нем.)
46
Нет, вы сидите! (нем.)
47
Молчать! (нем.)
48
Ты не можешь держать руки как следует, парень? (нем.)
49
Фамилия? (нем.)
50
Имя? (нем.)
51
Родился? (нем.)
52
Профессия? (нем.)
53
Правильно? (нем.)
54
Гм, а что здесь случилось, Герхард? (нем.)
55
Ах, человек, дерьмо! (нем.)
56
Оденься! (нем.)
57
Готов? (нем.)
58
Да (нем.).
59
Тогда выходи! (нем.)
60
Все в порядке? (нем.)
61
Ну, хорошо! (нем.)
62
Пошли! (нем.)
63
Этот может остаться (нем.).