Книга: Время секонд хэнд
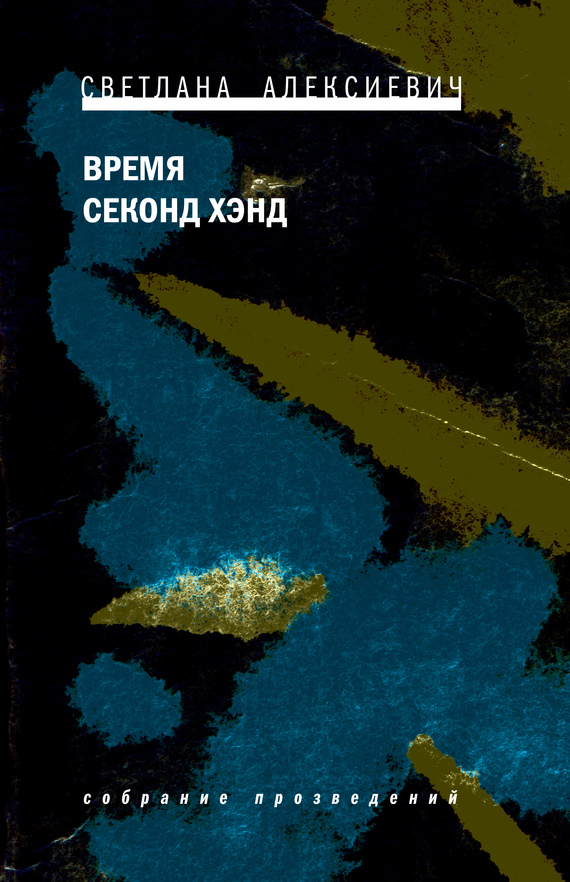
Время секонд хэнд
© Светлана Алексиевич, 2013
© «Время», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Жертва и палач одинаково отвратительны, и урок лагеря в том, что это братство в падении.
Во всяком случае, нам надо помнить, что за победу зла в мире в первую очередь отвечают не его слепые исполнители, а духовно зрячие служители добра.
Мы прощаемся с советским временем. С той нашей жизнью. Я пытаюсь честно выслушать всех участников социалистической драмы…
У коммунизма был безумный план – переделать «старого» человека, ветхого Адама. И это получилось… может быть, единственное, что получилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксизма-ленинизма вывели отдельный человеческий тип – homo soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, другие называют его «совком». Мне кажется, я знаю этого человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок прожила много лет. Он – это я. Это мои знакомые, друзья, родители. Несколько лет я ездила по всему бывшему Советскому Союзу, потому что homo soveticus – это не только русские, но и белорусы, туркмены, украинцы, казахи… Теперь мы живем в разных государствах, говорим на разных языках, но нас ни с кем не перепутаешь. Узнаешь сразу! Все мы, люди из социализма, похожие и не похожие на остальных людей – у нас свой словарь, свои представления о добре и зле, о героях и мучениках. У нас особые отношения со смертью. Постоянно в рассказах, которые я записываю, режут ухо слова: «стрелять», «расстрелять», «ликвидировать», «пустить в расход» или такие советские варианты исчезновения, как: «арест», «десять лет без права переписки», «эмиграция». Сколько может стоить человеческая жизнь, если мы помним, что недавно погибали миллионы? Мы полны ненависти и предрассудков. Все оттуда, где был ГУЛАГ и страшная война. Коллективизация, раскулачивание, переселение народов…
Это был социализм, и это была просто наша жизнь. Тогда мы мало о ней говорили. А теперь, когда мир необратимо изменился, всем стала интересна та наша жизнь, неважно какой она была, это была наша жизнь. Пишу, разыскиваю по крупицам, по крохам историю «домашнего»… «внутреннего» социализма. То, как он жил в человеческой душе. Меня всегда привлекает вот это маленькое пространство – человек… один человек. На самом деле там все и происходит.
Почему в книге так много рассказов самоубийц, а не обыкновенных советских людей с обыкновенными советскими биографиями? В конце концов, кончают с собой и из-за любви, из-за старости, просто так, ради интереса, из-за желания разгадать секрет смерти… Я искала тех, кто намертво прирос к идее, впустил ее в себя так, что не отодрать – государство стало их космосом, заменило им все, даже собственную жизнь. Они не смогли уйти из великой истории, распрощаться с ней, быть счастливыми иначе. Нырнуть… пропасть в частном существовании, как это происходит сегодня, когда маленькое стало большим. Человек хочет просто жить, без великой идеи. Такого никогда не было в русской жизни, этого не знает и русская литература. В общем-то, мы военные люди. Или воевали, или готовились к войне. Никогда не жили иначе. Отсюда военная психология. И в мирной жизни все было по-военному. Стучал барабан, развевалось знамя… сердце выскакивало из груди… Человек не замечал своего рабства, он даже любил свое рабство. Я тоже помню: после школы мы собирались всем классом поехать на целину, презирали тех, кто отказывался, до слез жалели, что революция, гражданская война – все случилось без нас. Оглянешься: неужели это мы? Я? Я вспоминала вместе со своими героями. Кто-то из них сказал: «Только советский человек может понять советского человека». Мы были люди с одной коммунистической памятью. Соседи по памяти.
Отец вспоминал, что он лично в коммунизм поверил после полета Гагарина. Мы – первые! Мы все можем! Так они с мамой нас и воспитывали. Я была октябренком, носила значок с кудрявым мальчиком, пионеркой, комсомолкой. Разочарование пришло позже.
После перестройки все ждали, когда откроют архивы. Их открыли. Мы узнали историю, которую от нас скрывали…
«Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожить» (Зиновьев, 1918).
«Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 1000 завзятых кулаков, богатеев… отнять у них весь хлеб, назначить заложников… Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, трепетал…» (Ленин, 1918).
«Москва буквально умирает от голода» (профессор Кузнецов – Троцкому). – «Это не голод. Когда Тит брал Иерусалим, еврейские матери ели своих детей. Вот когда я заставлю ваших матерей есть своих детей, тогда вы можете прийти и сказать: “Мы голодаем”» (Троцкий, 1919).
Люди читали газеты, журналы и молчали. На них обрушился неподъемный ужас! Как с этим жить? Многие встретили правду как врага. И свободу тоже. «Мы не знаем свою страну. Не знаем, о чем думает большинство людей, мы их видим, встречаем каждый день, но о чем они думают, чего хотят, мы не знаем. Но берем на себя смелость их учить. Скоро всё узнаем – и ужаснемся», – говорил один мой знакомый, с которым мы часто сидели у меня на кухне. Я с ним спорила. Было это в девяносто первом году… Счастливое время! Мы верили, что завтра, буквально завтра начнется свобода. Начнется из ничего, из наших желаний.
Из «Записных книжек» Шаламова: «Я был участником великой проигранной битвы за действительное обновление жизни». Написал это человек, отсидевший семнадцать лет в сталинских лагерях. Тоска об идеале осталась… Советских людей я бы разделила на четыре поколения: сталинское, хрущевское, брежневское и горбачевское. Я – из последнего. Нам было легче принять крах коммунистической идеи, так как мы не жили в то время, когда идея была молодая, сильная, с нерастраченной магией гибельного романтизма и утопических надежд. Мы выросли при кремлевских старцах. В постные вегетарианские времена. Большая кровь коммунизма уже была забыта. Пафос свирепствовал, но сохранилось знание, что утопию нельзя превращать в жизнь.
Это было в первую чеченскую войну… Я познакомилась в Москве на вокзале с женщиной, она была откуда-то из-под Тамбова. Ехала в Чечню, чтобы забрать сына с войны: «Я не хочу, чтобы он умирал. Я не хочу, чтобы он убивал». Государство уже не владело ее душой. Это был свободный человек. Таких людей было немного. Больше было тех, кого свобода раздражала: «Я купил три газеты и в каждой своя правда. Где же настоящая правда? Раньше прочитаешь утром газету “Правда” – и все знаешь. Все понимаешь». Из-под наркоза идеи выходили медленно. Если я начинала разговор о покаянии, в ответ слышала: «За что я должен каяться?» Каждый чувствовал себя жертвой, но не соучастником. Один говорил: «я тоже сидел», второй – «я воевал», третий – «я свой город из разрухи поднимал, днем и ночью кирпичи таскал». Это было совершенно неожиданно: все пьяные от свободы, но не готовые к свободе. Где же она, свобода? Только на кухне, где по привычке продолжали ругать власть. Ругали Ельцина и Горбачева. Ельцина за то, что изменил Россию. А Горбачева? Горбачева за то, что изменил все. Весь двадцатый век. И у нас теперь будет, как у других. Как у всех. Думали, что на этот раз получится.
Россия менялась и ненавидела себя за то, что менялась. «Неподвижный Монгол» – писал о России Маркс.
Советская цивилизация… Тороплюсь запечатлеть ее следы. Знакомые лица. Расспрашиваю не о социализме, а о любви, ревности, детстве, старости. О музыке, танцах, прическах. О тысячах подробностей исчезнувшей жизни. Это единственный способ загнать катастрофу в рамки привычного и попытаться что-то рассказать. О чем-то догадаться. Не устаю удивляться тому, как интересна обычная человеческая жизнь. Бесконечное количество человеческих правд… Историю интересуют только факты, а эмоции остаются за бортом. Их не принято впускать в историю. Я же смотрю на мир глазами гуманитария, а не историка. Удивлена человеком…
Отца уже нет. И я не могу договорить с ним один наш разговор… Он сказал, что им умирать на войне было легче, чем необстрелянным мальчикам, которые сегодня погибают в Чечне. В сороковые – они из ада попадали в ад. Перед войной отец учился в Минске в Институте журналистики. Вспоминал, что когда они возвращались с каникул, часто уже не встречали ни одного знакомого преподавателя, все были арестованы. Они не понимали, что происходит, но было страшно. Страшно, как на войне.
У меня с отцом было мало откровенных разговоров. Он жалел меня. Жалела ли я его? Мне трудно ответить на этот вопрос… Мы были беспощадны к своим родителям. Нам казалось, что свобода – это очень просто. Прошло немного времени, и мы сами согнулись под ее бременем, потому что никто не учил нас свободе. Учили только, как умирать за свободу.
Вот она – свобода! Такую ли мы ее ждали? Мы были готовы умереть за свои идеалы. Драться в бою. А началась «чеховская» жизнь. Без истории. Рухнули все ценности, кроме ценности жизни. Жизни вообще. Новые мечты: построить дом, купить хорошую машину, посадить крыжовник… Свобода оказалась реабилитацией мещанства, обычно замордованного в русской жизни. Свободой Его Величества Потребления. Величия тьмы. Тьмы желаний, инстинктов – потаенной человеческой жизни, о которой мы имели приблизительное представление. Всю историю выживали, а не жили. А теперь военный опыт уже не нужен, его надо было забыть. Тысячи новых эмоций, состояний, реакций… Как-то вдруг все вокруг стало другим: вывески, вещи, деньги, флаг… И сам человек. Он стал более цветным, отдельным, монолит взорвали, и жизнь рассыпалась на островки, атомы, ячейки. Как у Даля: свобода-воля… волюшка-раздолюшка… простор. Великое зло превратилось в далекое сказание, в политический детектив. Никто уже не говорил об идее, говорили о кредитах, процентах, векселях, деньги не зарабатывали, а «делали», «выигрывали». Надолго ли это? «Неправда денег в русской душе невытравима», – писала Цветаева. Но будто ожили и разгуливают по нашим улицам герои Островского и Салтыкова-Щедрина.
У всех, с кем встречалась, я спрашивала: «Что такое – свобода?». Отцы и дети отвечали по-разному. У тех, кто родился в СССР, и тех, кто родился не в СССР, нет общего опыта. Они – люди с разных планет.
Отцы: свобода – отсутствие страха; три дня в августе, когда мы победили путч; человек, который выбирает в магазине из ста сортов колбасы, свободнее, чем человек, который выбирает из десяти сортов; быть непоротым, но непоротых поколений нам никогда не дождаться; русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть.
Дети: свобода – любовь; внутренняя свобода – абсолютная ценность; когда ты не боишься своих желаний; иметь много денег, тогда у тебя будет все; когда ты можешь жить так, чтобы не задумываться о свободе. Свобода – это нормально.
Ищу язык. У человека много языков: язык, на котором разговаривают с детьми, еще один, это тот, на котором говорят в любви… А еще есть язык, на котором мы говорим сами с собой, ведем внутренние разговоры. На улице, на работе, в путешествиях – везде звучит что-то другое, меняются не только слова, но и что-то еще. Даже утром и вечером человек говорит по-разному. А то, что происходит ночью между двумя людьми, совершенно исчезает из истории. Мы имеем дело только с историей дневного человека. Самоубийство – ночная тема, человек находится на границе бытия и небытия. Сна. Я хочу это понять с дотошностью дневного человека. Услышала: «Не боитесь, что понравится?».
Едем по Смоленщине. В одной деревне остановились возле магазина. Какие знакомые (я же сама выросла в деревне), красивые, какие хорошие лица – и какая унизительная, нищая жизнь вокруг. Разговорились о жизни. «О свободе спрашиваете? Зайдите в наш магазин: водка стоит, какая хочешь: “Стандарт”, “Горбачев”, “Путинка”, колбасы навалом, и сыра, и рыбы. Бананы лежат. Какая еще свобода нужна? Нам этой хватит». – «А землю вам дали?» – «Кто на ней будет корячиться? Хочешь – бери. У нас один Васька Крутой взял. Младшему пацану восемь лет, а он рядом с отцом за плугом идет. У него, если наймешься на работу – не украдешь, не поспишь. Фашист!»
У Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» идет спор о свободе. О том, что путь свободы трудный, страдальческий, трагический… «Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит?» Человек должен все время выбирать: свобода или благополучие и устроение жизни, свобода со страданиями или счастье без свободы. И большинство людей идет вторым путем.
Великий инквизитор говорит Христу, который вернулся на землю:
«Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать и сам это знаешь».
«Столь уважая его (человека), Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал… Уважая его менее, менее от него и потребовал бы, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл… Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»
«Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться… и кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается…»
* * *
В девяностые… да, мы были счастливыми, к той нашей наивности уже не вернуться. Нам казалось, что выбор сделан, коммунизм безнадежно проиграл. А все только начиналось…
Прошло двадцать лет… «Не пугайте нас социализмом», – говорят дети родителям.
Из разговора со знакомым университетским преподавателем: «В конце девяностых студенты смеялись, – рассказывал он, – когда я вспоминал о Советском Союзе, они были уверены, что перед ними открывается новое будущее. Теперь картина иная… Сегодняшние студенты уже узнали, прочувствовали, что такое капитализм – неравенство, бедность, наглое богатство, перед глазами у них жизнь родителей, которым ничего не досталось от разграбленной страны. И они радикально настроены. Мечтают о своей революции. Носят красные футболки с портретами Ленина и Че Гевары».
В обществе появился запрос на Советский Союз. На культ Сталина. Половина молодых людей от 19 до 30 лет считают Сталина «величайшим политическим деятелем». В стране, в которой Сталин уничтожил людей не меньше, чем Гитлер, новый культ Сталина?! Опять в моде все советское. Например, «советские» кафе – с советскими названиями и советскими блюдами. Появились «советские» конфеты и «советская» колбаса – с запахом и вкусом, знакомыми нам с детства. И конечно, «советская» водка. На телевидении десятки передач, а в интернете десятки «советских» ностальгических сайтов. В сталинские лагеря – на Соловки, в Магадан – вы можете попасть туристом. Реклама обещает, что для полноты ощущений вам выдадут лагерную робу, кирку. Покажут отреставрированные бараки. А в конце организуют рыбалку…
Возрождаются старомодные идеи: о великой империи, о «железной руке», «об особом русском пути»… Вернули советский гимн, есть комсомол, только он называется «Наши», есть партия власти, копирующая коммунистическую партию. У Президента власть, как у Генсека. Абсолютная. Вместо марксизма-ленинизма – православие…
Перед революцией семнадцатого года Александр Грин написал: «А будущее как-то перестало стоять на своем месте». Прошло сто лет – и будущее опять не на своем месте. Наступило время секонд хэнд.
Баррикада – опасное место для художника. Ловушка. Там портится зрение, сужается зрачок, мир теряет краски. Там черно-белый мир. Оттуда человека уже не различишь, а видишь только черную точку – мишень. Я всю жизнь – на баррикадах, я хотела бы уйти оттуда. Научиться радоваться жизни. Вернуть себе нормальное зрение. Но десятки тысяч людей снова выходят на улицы. Берутся за руки. У них белые ленточки на куртках. Символ возрождения. Света. И я с ними.
Встретила на улице молодых ребят в майках с серпом и молотом и портретом Ленина. Знают ли они, что такое коммунизм?
Утешение апокалипсисом
Из уличного шума и разговоров на кухне (1991–2001)
Про Иванушку-дурачка и золотую рыбку
«Что я понял? Я понял, что герои одного времени редко бывают героями другого времени. Кроме Иванушки-дурачка. И Емели. Любимых героев русских сказок. Наши сказки – про везение, про миг удачи. Про ожидание чудесной помощи, чтоб все в рот само свалилось. Лежа на печи, иметь все. Чтобы печь сама блины пекла, а золотая рыбка все желания исполняла. Хочу то и хочу это. Хочу Царевну Прекрасную! И хочу жить в царстве ином – с молочными реками и кисельными берегами. Мы – мечтатели, конечно. Душа трудится и страдает, а дело мало движется, потому что на него сил уже не хватает. Дело стоит. Загадочная русская душа… Все пытаются ее понять… читают Достоевского… Что там у них за душой? А за душой у нас только душа. Поговорить любим на кухне, почитать книгу. Главная профессия – читатель. Зритель. И при этом ощущение своей особенности, исключительности, хотя оснований для этого никаких, кроме нефти и газа. С одной стороны, это-то и препятствует перемене жизни, а с другой стороны, дает ощущение смысла, что ли. Всегда висит в воздухе, что Россия должна сотворить, показать миру что-то из ряда вон выходящее. Богоизбранный народ. Особый русский путь. Сплошь у нас Обломовы, лежат на диване и ждут чуда. Но не Штольцы. Деятельные, проворные Штольцы презираемы за то, что срубили любимую березовую рощу, вишневый садик. Заводики там строят, делают деньги. Чужие нам Штольцы…»
«Русская кухня… Убогая “хрущобная” кухонька – девять-двенадцать (счастье!) квадратных метров, за тонкой стенкой туалет. Советская планировка. На окошке лук в баночках из-под майонеза, в горшке столетник от насморка. Кухня у нас – это не только место для приготовления пищи, это и столовая, и гостиная, и кабинет, и трибуна. Место для коллективных психотерапевтических сеансов. В девятнадцатом веке вся русская культура жила в дворянских усадьбах, а в двадцатом – на кухнях. И перестройка тоже. Вся “шестидесятническая” жизнь – это “кухонная” жизнь. Спасибо Хрущеву! Это при нем вышли из коммуналок, завели личные кухни, где можно было ругать власть, а главное – не бояться, потому что на кухне все свои. Там рождались идеи, прожекты фантастические. Травили анекдоты… Анекдоты процветали! Коммунист – это тот, кто Маркса читал, а антикоммунист – это тот, кто его понял. Мы выросли на кухнях, и наши дети тоже, они вместе с нами слушали Галича и Окуджаву. Крутили Высоцкого. Ловили Би-би-си. Разговоры обо всем: о том, как все хреново, и о смысле жизни, о счастье для всех. Вспоминаю смешной случай… Засиделись как-то за полночь, наша дочь, ей было двенадцать лет, тут же, на маленьком диванчике, уснула. А мы что-то громко заспорили. И она сквозь сон как заорет: “Не надо больше о политике! Опять Сахаров… Солженицын… Сталин…” (Смеется.)
Бесконечный чай. Кофе. Водочка. А в семидесятые годы пили кубинский ром. Все были влюблены в Фиделя! В кубинскую революцию! Че в берете. Голливудский красавец! Бесконечный треп. Страх, что нас прослушивают, наверняка прослушивают. В середине разговора обязательно кто-нибудь посмотрит со смешком на люстру или на розетку: “Вы слышите, товарищ майор?” Вроде риск… вроде игра… Получали даже какое-то удовольствие от этой лживой жизни. Ничтожное количество людей сопротивлялось открыто, больше было “кухонных диссидентов”. С фигой в кармане…»
«Сейчас стыдно быть бедным, неспортивным… Не успеваешь, короче. А я из поколения дворников и сторожей. Был такой способ внутренней эмиграции. Ты живешь и не замечаешь того, что вокруг, как пейзаж за окном. Мы с женой окончили философский факультет Петербургского (тогда Ленинградского) университета, она устроилась дворником, а я – истопником в котельной. Работаешь одни сутки, двое – дома. Инженер в то время получал сто тридцать рублей, а я в котельной – девяносто, то есть соглашаешься потерять сорок рублей, но зато получаешь абсолютную свободу. Читали книжки, много читали. Разговаривали. Думали, что производим идеи. Мечтали о революции, но боялись – не дождемся. Закрытую, в общем-то, вели жизнь, ничего не знали о том, что творится в мире. Были «комнатные растения». Все себе придумали, как впоследствии выяснилось, нафантазировали – и Запад, и капитализм, и русский народ. Жили миражами. Такой России, как в книжках и на наших кухнях, никогда не было. Только у нас в голове.
В перестройку все кончилось… Грянул капитализм… Девяносто рублей стали десятью долларами. На них – не прожить. Вышли из кухонь на улицу, и тут выяснилось, что идей у нас нет, мы просто сидели все это время и разговаривали. Откуда-то появились совсем другие люди – молодые ребята в малиновых пиджаках и с золотыми перстнями. И с новыми правилами игры: деньги есть – ты человек, денег нет – ты никто. Кому это интересно, что ты Гегеля всего прочитал? “Гуманитарий” звучало как диагноз. Мол, все, что они умеют – это держать томик Мандельштама в руках. Открылось много незнакомого. Интеллигенция до безобразия обнищала. В нашем парке по выходным дням кришнаиты устанавливали полевую кухню и раздавали суп и что-то там простенькое из второго. Выстраивалась такая очередь аккуратненьких стариков, что спазм в горле. Некоторые из них прятали свои лица. У нас к тому времени было уже двое маленьких детей. Голодали натуральным образом. Начали с женой торговать. Брали на заводе четыре-шесть ящиков мороженого и ехали на рынок, туда, где много людей. Холодильников никаких, через несколько часов мороженое уже текло. Тогда раздавали его голодным мальчишкам. Сколько радости! Торговала жена, а я то поднесу, то подвезу – все что угодно готов был делать, только не продавать. Долго чувствовал себя некомфортно.
Раньше часто вспоминал нашу “кухонную жизнь”… Какая была любовь! Какие женщины! Эти женщины презирали богатых. Их нельзя было купить. А сейчас времени на чувства ни у кого нет – все деньги зарабатывают. Открытие денег – как взрыв атомной бомбы…»
Про то, как мы полюбили и разлюбили Горби
«Горбачевское время… Огромные толпы людей со счастливыми лицами. Сво-бо-да! Все этим дышали. Газеты были нарасхват. Время больших надежд – вот-вот попадем в рай. Демократия – неведомый нам зверь. Как сумасшедшие, бегали на митинги: сейчас узнаем всю правду о Сталине, о ГУЛАГе, прочитаем запрещенные “Дети Арбата” Рыбакова и другие хорошие книги – и станем демократами. Как мы ошибались! Из всех радиоточек кричала эта правда… Скорее, скорее! Читайте! Слушайте! Не все оказались к этому готовы… Большинство людей не были антисоветски настроены, они хотели только одного – хорошо жить. Чтобы можно было купить джинсы, “видик” и предел мечтаний – автомобиль! Всем хотелось яркой одежды, вкусной еды. Когда я принесла домой солженицынский “Архипелаг ГУЛАГ”, моя мама была в ужасе: “Если ты сейчас же не уйдешь с этой книгой, то я тебя выгоню из дома”. У бабушки расстреляли мужа перед войной, а она говорила: “Ваську не жаль. Арестовали правильно. За длинный язык”. – “Бабушка, почему ты ничего мне не рассказывала?” – спрашивала я. – “Пусть моя жизнь сдохнет вместе со мной, чтобы вы не пострадали”. Так жили наши родители и их родители. Все катком было отутюжено. Перестройку сделал не народ, это сделал один человек – Горбачев. Горбачев и кучка интеллигентов…»
«Горбачев – секретный американский агент… Масон… Предал коммунизм. Коммунистов – на мусорку, комсомольцев – на свалку! Я ненавижу Горбачева за то, что он украл у меня Родину. Советский паспорт как самую дорогую вещь берегу. Да, мы стояли в очереди за синюшными цыплятами и гнилой картошкой, но это была Родина. Я ее любил. Вы жили в “Верхней Вольте с ракетами”, а я жил в великой стране. Россия всегда для Запада – враг, ее боятся. Кость в горле. Никому не нужна сильная Россия – с коммунистами или без них. На нас смотрят как на склад – нефти, газа, леса и цветных металлов. Нефть меняем на трусы. А была цивилизация без шмоток и барахла. Советская цивилизация! Кому-то надо было, чтобы ее не стало. Операция ЦРУ. Нами уже управляют американцы. Горбачеву хорошо за это заплатили… Рано или поздно его будут судить. Надеюсь, Иуда доживет до народного гнева. Я с удовольствием прострелил бы ему затылок на Бутовском полигоне. (Стучит кулаком по столу.) Настало счастье, да? Появились колбаса и бананы. Валяемся в говне и едим все чужое. Вместо Родины – большой супермаркет. Если это называется свобода, то мне такая свобода не нужна. Тьфу! Народ ниже плинтуса опустили, мы рабы. Рабы! При коммунистах кухарка, как говорил Ленин, управляла государством: рабочие, доярки, ткачихи – а теперь в парламенте сидят бандиты. Долларовые миллионеры. Им в тюрьме надо сидеть, а не в парламенте. Надули нас с перестройкой!
Я родился в СССР, и мне там нравилось. Мой отец был коммунистом, учил читать меня по газете “Правда”. Каждый праздник мы с ним ходили на демонстрацию. Со слезами на глазах… Я был пионером, носил красный галстук. Пришел Горбачев, и я не успел стать комсомольцем, о чем жалею. Я – совок, да? Мои родители – совки, дед и баба – совки? Мой совковый дед погиб под Москвой в сорок первом… А моя совковая бабка была в партизанах… Господа либералы отрабатывают свою пайку. Хотят, чтобы мы свое прошлое считали черной дырой. Я их всех ненавижу: горбачева, шеварнадзе, яковлева, – напишите с маленькой буквы, так я их ненавижу. Я не хочу в Америку, я хочу в СССР…»
«То были прекрасные, наивные годы… Мы поверили Горбачеву, сейчас уже никому так легко не поверим. Многие русские люди возвращались из эмиграции на Родину… Был такой подъем! Думали, что сломаем этот барак. Построим что-то новое. Я окончила филологический факультет МГУ и поступила в аспирантуру. Мечтала заниматься наукой. Кумиром в те годы был Аверинцев, на его лекции сходилась вся просвещенная Москва. Встречались и поддерживали друг в друге иллюзию, что скоро будет другая страна, и мы за это боремся. Когда я узнала, что моя однокурсница уезжает в Израиль, очень удивилась: “Неужели тебе не обидно уезжать? У нас все только начинается”.
Чем больше говорили и писали: “Свобода! Свобода!”, тем быстрее с прилавков исчезали не только сыр и мясо, но и соль, и сахар. Пустые магазины. Страшно. Все по талонам, как в войну. Нас спасла наша бабушка, она целыми днями бегала по городу и отоваривала эти талоны. Весь балкон был забит стиральным порошком, в спальне стояли мешки с сахаром и крупой. Когда выдали талоны на носки, папа заплакал: “Это конец СССР”. Он почувствовал… Папа работал в конструкторском бюро на военном заводе, занимался ракетами, и ему это безумно нравилось. У него было два высших образования. Вместо ракет завод стал штамповать стиральные машины и пылесосы. Папу сократили. Они с мамой были ярые перестроечники: писали плакаты, разносили листовки – и вот финал… Растерялись. Не могли поверить, что свобода – она вот такая. Не могли с этим смириться. На улицах уже кричали: “Горбачеву грош цена, берегите Ельцина!”. Несли портреты Брежнева в орденах, а портреты Горбачева – в талонах. Начиналось царствование Ельцина: гайдаровские реформы и вот это ненавистное мне “купи-продай”… Чтобы выжить, я ездила в Польшу с мешками лампочек и детских игрушек. Полный вагон: учителя, инженеры, врачи… Все с мешками и сумками. Всю ночь сидим и обсуждаем “Доктор Живаго” Пастернака… пьесы Шатрова… Как в Москве на кухне.
Вспоминаю университетских друзей… Мы стали кем угодно, но не филологами – топ-менеджерами рекламных агентств, банковскими служащими, “челноками”… Я работаю в агентстве недвижимости у одной дамы, которая приехала из провинции, бывший комсомольский работник. У кого сегодня фирмы? Виллы на Кипре и в Майами? У бывшей партноменклатуры. Это к тому, где надо искать деньги партии… А наши вожди… шестидесятники… Они крови на войне нанюхались, но были наивные, как дети… Нам надо было дневать и ночевать на площадях. Довести дело до конца – добиться Нюрнберга для КПСС. Мы слишком быстро разошлись по домам. Фарцовщики и менялы взяли власть. И вопреки Марксу, после социализма строим капитализм. (Молчит.) Но я счастлива, что жила в это время. Коммунизм пал! Все, он уже не вернется. Живем в другом мире и смотрим на мир другими глазами. Свободное дыхание тех дней я никогда не забуду…»
Про то, как пришла любовь, а под окнами танки
«Я была влюблена, ни о чем другом не могла больше думать. Жила исключительно этим. И вот мама утром будит: “Танки под окнами! Кажется, переворот!”. Я сквозь сон: “Мама, это учения”. Фиг вам! Под окнами стояли настоящие танки, я никогда не видела танки так близко. По телевизору шел балет “Лебединое озеро”… Прибежала мамина подруга, она очень волновалась, что задолжала партийные взносы за несколько месяцев. Говорила, что у них в школе стоял бюст Ленина, она его вынесла в подсобку, а теперь – что с ним делать? Все сразу стало на свои места: этого нельзя и того нельзя. Диктор зачитывала Заявление о введение чрезвычайного положения… Мамина подруга при каждом слове вздрагивала: “Боже мой! Боже мой!” Отец плевался в телевизор…
Позвонила Олегу… “Едем к Белому дому?” – “Едем!” Приколола значок с Горбачевым. Нарезала бутербродов. В метро люди были неразговорчивые, все ждали беды. Всюду танки… танки… На броне сидели не убийцы, а испуганные пацаны с виноватыми лицами. Старушки кормили их вареными яйцами и блинами. На душе стало легче, когда возле Белого дома я увидела десятки тысяч людей! Настроение у всех великолепное. Ощущение, что мы все можем. Скандировали: “Ельцин, Ельцин! Ельцин!”. Уже формировались отряды самообороны. Записывали только молодых, а пожилым отказывали, и они были недовольны. Какой-то старик возмущался: “У меня коммунисты жизнь украли! Дайте хотя бы умереть красиво!” – “Папаша, отойдите…” Сейчас говорят, что мы хотели защитить капитализм… Неправда! Я защищала социализм, но какой-то другой… не советский… И я его защитила! Я так думала. Мы все так думали… Через три дня танки уходили из Москвы, это уже были добрые танки. Победа! И мы целовались, целовались…»
Сижу на кухне у моих московских знакомых. Тут собралась большая компания: друзья, родственники из провинции. Вспомнили, что завтра очередная годовщина августовского путча.
– Завтра – праздник…
– А что праздновать-то? Трагедия. Народ проиграл.
– Под музыку Чайковского совдепию похоронили…
– Первое, что я сделала, взяла деньги и побежала в магазины. Знала, чем бы оно ни кончилось, а цены вырастут.
– Обрадовался: Горби уберут! Надоел уже этот болтун.
– Революция была декоративная. Спектакль для народа. Помню полное безразличие, с кем не заговоришь. Выжидали.
– А я позвонил на работу – и пошел делать революцию. Выгреб из буфета все ножи, которые были дома. Понимал, что война… нужно оружие…
– Я был за коммунизм! У нас в семье – все коммунисты. Вместо колыбельных мама пела нам революционные песни. И внукам сейчас поет. «Ты что, с ума сошла?» – Говорю. А она: «Я других песен не знаю». И дед был большевик… и бабка…
– Вы еще скажите, что коммунизм – красивая сказочка. У моего отца родители исчезли в лагерях Мордовии.
– Я пошел к Белому дому вместе с родителями. Папа сказал: «Пойдем. А то колбасы и хороших книг не будет никогда». Разбирали брусчатку и строили баррикады.
– Сейчас народ протрезвел, и отношение к коммунистам меняется. Можно не скрывать… Я работал в райкоме комсомола. В первый день все комсомольские билеты, чистые бланки и значки забрал домой и спрятал в подвале, потом картошку некуда было складывать. Я не знал, зачем они мне нужны, но представил, как придут отпечатывать и все это уничтожать, а это были дорогие для меня символы.
– Мы могли пойти убивать друг друга… Бог спас!
– Наша дочь лежала в роддоме. Я пришла к ней, а она: «Мам, революция будет? Гражданская война начнется?».
– Ну а я окончил военное училище. Служил в Москве. Дали бы нам приказ кого-то арестовать, то, без всяких сомнений, мы бы этот приказ выполнили. Многие бы выполнили его с усердием. Надоела неразбериха в стране. Все раньше было четко и ясно, все по предписанию. Был порядок. Военные любят так жить. Вообще люди любят так жить.
– Я боюсь свободы, придет пьяный мужик и спалит дачу.
– Какие, братцы, идеи? Жизнь коротка. Давайте выпьем!
19 августа 2001 года – десятилетний юбилей августовского путча. Я в Иркутске – столице Сибири. Беру несколько блиц-интервью на улицах города.
Вопрос:
– Что было бы, если бы ГКЧП победил?
Ответы:
– Сохранили бы великую страну…
– Посмотрите на Китай, где коммунисты у власти. Китай стал второй экономикой в мире…
– Горбачева и Ельцина судили бы как изменников Родины.
– Залили бы страну кровью… И забили бы людьми концлагеря.
– Не предали бы социализм. Не разделились бы на богатых и бедных.
– Не было бы никакой войны в Чечне.
– Никто не смел бы говорить, что Гитлера победили американцы.
– Я сам стоял у Белого дома. И у меня чувство, что меня обманули.
– Что было бы, если бы путч победил? А он и победил! Памятник Дзержинскому свергли, а Лубянка осталась. Строим капитализм под руководством КГБ.
– Моя жизнь не изменилась бы…
Про то, как вещи уравнялись с идеями и словами
«Мир рассыпался на десятки разноцветных кусочков. Как нам хотелось, чтобы серые советские будни скорее превратились в сладкие картинки из американского кино! О том, как мы стояли у Белого дома, уже мало кто вспоминал… Те три дня потрясли мир, но не потрясли нас… Две тысячи человек митингуют, а остальные едут мимо и смотрят на них как на идиотов. Много пили, у нас всегда много пьют, но тогда особенно много пили. Общество замерло: куда двинемся? То ли будет капитализм, то ли будет хороший социализм? Капиталисты жирные, страшные – это нам внушили с детства… (Смеется.)
Страна покрылась банками и торговыми палатками. Появились совсем другие вещи. Не топорные сапоги и старушечьи платья, а вещи, о которых мы всегда мечтали: джинсы, дубленки… женское белье и хорошая посуда… Все цветное, красивое. Наши советские вещи были серые, аскетичные, они были похожи на военные. Библиотеки и театры опустели. Их заменили базары и коммерческие магазины. Все захотели быть счастливыми, получить счастье сейчас. Как дети, открывали для себя новый мир… Перестали падать в обморок в супермаркете… Знакомый парень занялся бизнесом. Рассказывал мне: первый раз привез тысячу банок растворимого кофе – расхватали за пару дней, купил сто пылесосов – тоже в момент размели. Куртки, свитера, всякая мелочь – только давай! Все переодевались, переобувались. Меняли технику и мебель. Ремонтировали дачи… Захотели делать красивые заборчики и крыши… Начнем иногда с друзьями вспоминать, так со смеху умираем… Дикари! Совершенно нищие были люди. Всему надо было учиться… В советское время разрешалось иметь много книг, но не дорогую машину и дом. И мы учились хорошо одеваться, вкусно готовить, утром пить сок и йогурт… Я до этого презирала деньги, потому что не знала, что это такое. В нашей семье нельзя было говорить о деньгах. Стыдно. Мы выросли в стране, в которой деньги, можно сказать, отсутствовали. Я, как все, получала свои сто двадцать рублей – и мне хватало. Деньги пришли с перестройкой. С Гайдаром. Настоящие деньги. Вместо “Наше будущее – коммунизм” всюду висели растяжки “Покупайте! Покупайте!” Хочешь – путешествуй. Можешь увидеть Париж… Или Испанию… Фиеста… бой быков… Я об этом читала у Хемингуэя, читала и понимала, что никогда этого не увижу. Книги были вместо жизни… Так кончились наши ночные бдения на кухнях и начались заработки, приработки. Деньги стали синонимом свободы. Это волновало всех. Самые сильные и агрессивные занялись бизнесом. О Ленине и Сталине забыли. Так мы спаслись от гражданской войны, а то опять бы были “белые” и “красные”. “Наши” – “не наши”. Вместо крови – вещи… Жизнь! Выбрали красивую жизнь. Никто не хотел красиво умирать, все хотели красиво жить. Другое дело, что пряников на всех не хватило…»
«Советское время… У Слова был священный, магический статус. И по инерции на интеллигентских кухнях еще говорили о Пастернаке, варили суп, не выпуская из рук Астафьева и Быкова, но жизнь все время доказывала, что это уже неважно. Слова ничего не значат. В девяносто первом… Мы положили нашу маму в больницу с тяжелой пневмонией, и она вернулась оттуда героиней, у нее рот там не закрывался. Рассказывала о Сталине, об убийстве Кирова, о Бухарине… Ее готовы были слушать день и ночь. Люди тогда хотели, чтобы им открыли глаза. А недавно она снова попала в больницу, и сколько там была, столько молчала. Лет пять прошло всего-то, и реальность уже распределила роли иначе. Героиней на этот раз была жена крупного бизнесмена… Онемели все от ее рассказов… Какой у нее дом – триста квадратных метров! Сколько прислуги: кухарка, нянька, водитель, садовник… Отдыхать с мужем ездят в Европу… Музеи – понятно, а бутики… Бутики! Одно кольцо столько-то карат, а другое… А подвески… золотые клипсы… Полный аншлаг! О ГУЛАГе или о чем-то таком ни слова. Ну было и было. Что теперь спорить со стариками?
Я заходила по привычке в букинистический – там спокойно стояли все двести томов “Всемирки” и “Библиотека приключений”, та самая – оранжевая, которой я бредила. Смотрела на корешки и долго вдыхала этот запах. Лежали горы книг! Интеллигенты распродавали свои библиотеки. Публика, конечно, обеднела, но не из-за этого книги выносили из дома, не только из-за денег – книги разочаровали. Полное разочарование. Стало уже неприлично задавать вопрос: “А что ты сейчас читаешь?” В жизни слишком многое изменилось, а в книгах этого нет. Русские романы не учат, как добиться успеха в жизни. Как стать богатым… Обломов лежит на диване, а герои Чехова все время пьют чай и жалуются на жизнь… (Молчит.) Не дай бог жить в эпоху перемен – говорят китайцы. Мало кто из нас сохранился таким, каким был. Куда-то исчезли приличные люди. Всюду локти и зубы…»
«Если о девяностых… Я бы не сказал, что это было красивое время, оно было отвратительное. Произошел переворот в умах на сто восемьдесят градусов… Кто-то не выдержал и сошел с ума, больницы для душевнобольных были переполнены. Я навещал там своего друга: один кричит: “Я – Сталин! Я – Сталин!”, а другой: “Я – Березовский! Я – Березовский”. Их целое отделение – сталиных и березовских. На улицах все время стреляли. Убили огромное количество людей. Каждый день шли разборки. Урвать. Успеть. Пока другие не успели. Кого-то разорили, кого-то посадили. С трона – в подвал. А с другой стороны, кайф – все происходит на твоих глазах…
В банках стояли очереди людей, желающих начать свое дело: открыть булочную, продавать электронику… Я тоже был в этой очереди. И меня удивило, как нас много. Какая-то тетка в вязаном берете, мальчик в спортивной курточке, здоровенный мужик, смахивающий на зэка… Семьдесят с лишним лет учили: не в деньгах счастье, все лучшее в жизни человек получает бесплатно. Любовь, например. Но стоило с трибуны произнести: торгуйте, богатейте – всё забыли. Все советские книжки забыли. Эти люди совсем не были похожи на тех, с кем я сидел до утра и бренчал на гитаре. Три аккорда с грехом пополам я выучил. Единственное, что их объединяло с “кухонными” людьми, так это то, что им тоже надоели кумачовые флаги и вся эта мишура: комсомольские собрания, политзанятия… Социализм считал человека глупеньким…
Я очень хорошо знаю, что такое мечта. Все детство я просил купить мне велосипед, и мне его не купили. Бедно жили. В школе я фарцевал джинсами, в институте – советской военной формой плюс символикой разной. Иностранцы покупали. Обычная фарца. В советское время за это сажали на срок от трех до пяти лет. Отец бегал за мной с ремнем и кричал: “Спекулянт! Я под Москвой кровь проливал, а вырастил такое говнецо!”. Вчера преступление, сегодня – бизнес. В одном месте купил гвозди, в другом набойки – упаковал в полиэтиленовый мешок и продал как новый товар. Принес домой деньги. Накупил всего, полный холодильник. Родители ждали, что за мной придут и арестуют. (Хохочет.) Торговал бытовой техникой. Скороварками, пароварками… Пригонял из Германии машину с прицепом этого добра. Все шло валом… У меня в кабинете стояла коробка из-под компьютера, полная денег, я только так понимал, что это деньги. Берешь, берешь из этой коробки, а там все не кончается. Уже вроде все купил: тачку, квартиру… часы “Ролекс”… Помню это опьянение… Ты можешь исполнить все свои желания, тайные фантазии. Я много узнал о себе: во-первых, что у меня нет вкуса, а во-вторых, что я закомплексован. Не умею с деньгами обращаться. Я не знал, что большие деньги должны работать, они не могут лежать. Деньги – такое же испытание для человека, как власть, как любовь… Мечтал… И я поехал в Монако. В казино Монте-Карло проиграл огромные деньги, очень много. Меня несло… Я был рабом своей коробки. Есть там деньги или нет? Сколько их? Их должно быть больше и больше. Меня перестало интересовать то, что интересовало раньше. Политика… митинги… Умер Сахаров. Я пошел с ним попрощаться. Сотни тысяч людей… Все плакали, и я плакал. А тут недавно читаю о нем в газете: “Умер великий юродивый России”. И я подумал, что он вовремя умер. Вернулся из Америки Солженицын, все бросились в нему. Но он не понимал нас, а мы его. Иностранец. Он приехал в Россию, а за окном Чикаго…
Кем бы я был, если бы не перестройка? ИТР с жалкой зарплатой… (Смеется.) А сейчас у меня своя глазная клиника. Несколько сотен человек зависят от меня со своими семьями, дедушками, бабушками. Вы копаетесь в себе, рефлектируете, а у меня этой проблемы нет. Я работаю день и ночь. Закупил новейшее оборудование, отправил хирургов во Францию на стажировку. Но я не альтруист, я хорошо зарабатываю. Всего добился сам… У меня было только триста долларов в кармане… Начинал бизнес с партнерами, от которых вы бы в обморок упали, если бы они сейчас зашли в комнату. Гориллы! Лютый взгляд! Теперь их уже нет, они исчезли, как динозавры. Ходил в бронежилете, в меня стреляли. Если кто-то ест колбасу хуже, чем я, меня это не интересует. Вы же все хотели, чтобы был капитализм. Мечтали! Не кричите, что вас обманули…»
Про то, что мы выросли среди палачей и жертв
«Идем вечером из кино. В луже крови лежит мужчина. На спине в плаще дырка от пули. Возле него стоит милиционер. Так первый раз я увидел убитого человека. Скоро привык к этому. Дом наш большой, двадцать подъездов. Каждое утро во дворе находили труп, и уже мы не вздрагивали. Начинался настоящий капитализм. С кровью. Я ожидал от себя потрясения, а его не было. После Сталина у нас другое отношение к крови… Помним, как свои убивали своих… И про массовые убийства людей, которые не знали, за что их убивают… Это осталось, это присутствует в нашей жизни. Мы выросли среди палачей и жертв… Для нас нормально – жить вместе. Нет границы между мирным и военным состоянием. Всегда война. Включишь телевизор – все ботают по фене: и политики, и бизнесмены, и президент: откаты, взятки, распилы… Человеческая жизнь – плюнуть и растереть. Как в зоне…»
«Почему мы не осудили Сталина? Я вам отвечу… Чтобы осудить Сталина, надо осудить своих родных, знакомых. Самых близких людей. Расскажу про свою семью… Папу посадили в тридцать седьмом; слава богу, он вернулся, но отсидел десять лет. Вернулся и очень хотел жить… Сам удивлялся, что ему после всего, что он видел, хочется жить… Так было не со всеми, далеко не со всеми… Мое поколение выросло с папами, которые вернулись или из лагерей, или с войны. Единственно, о чем они могли нам рассказать, так это о насилии. О смерти. Они редко смеялись, много молчали. И пили… пили… В конце концов спивались. Второй вариант… Те, кого не посадили, боялись, что посадят. Все это не месяц или два, а годами длилось – годами! А если не посадили, то вопрос: почему всех посадили, а меня нет? Что я делаю не так? Могли арестовать, а могли направить на работу в НКВД… Партия просит, партия приказывает. Выбор неприятный, но многие должны были его сделать… А теперь о палачах… Обыкновенных, не страшных… Донес на папу наш сосед… дядя Юра… Из-за пустяка, как говорила мама. Мне было семь лет. Дядя Юра брал на рыбалку своих ребятишек и меня, катал на лошади. Чинил наш забор. Понимаете, совсем другой портрет палача получается – обыкновенный человек, даже хороший… Нормальный… Арестовали папу и через несколько месяцев забрали папиного брата. При Ельцине мне дали его дело, там лежало несколько доносов, один написала тетя Оля… Племянница… Красивая женщина, веселая… Хорошо пела… Она уже была старая, я спросил: “Тетя Оля, расскажи о тридцать седьмом годе…” – “Это был самый счастливый год в моей жизни. Я была влюблена”, – ответила она мне… Папин брат не вернулся домой. Пропал. В тюрьме или в лагере – неизвестно. Мне было трудно, но я все-таки задал вопрос, который меня мучил: “Тетя Оля, зачем ты это сделала?” – “Где ты видел честного человека в сталинское время?” (Молчит.) А еще был дядя Павел, который служил в Сибири в войсках НКВД… Понимаете, не существует химически чистого зла… Это не только Сталин и Берия… Это и дядя Юра, и красивая тетя Оля…»
Первое мая. В этот день коммунисты проходят по улицам Москвы многотысячным маршем. Столица снова «краснеет»: красные флаги, красные шарики, красные футболки с серпом и молотом. Несут портреты Ленина и Сталина. Портретов Сталина больше. Плакаты: «В гробу мы видели ваш капитализм!», «Красное знамя – на Кремль!». Обычная Москва стоит на тротуаре, «красная» катит лавиной по проезжей части. Между ними все время идет перепалка, местами доходящая до драк. Полиция бессильна разделить эти две Москвы. А я не успеваю записать все, что слышу…
– Похороните Ленина, причем без почестей.
– Американские лакеи! За что продали страну?
– Дураки вы, братцы…
– Ельцин и его банда украли у нас все. Пейте! Богатейте! Когда-то это кончится…
– Боятся народу прямо сказать, что строим капитализм? Оружие готовы схватить все, даже моя мама-домохозяйка.
– Штыком много чего можно сделать, но сидеть на нем неудобно.
– А я бы буржуинов проклятых танками давил!
– Коммунизм придумал еврей Маркс…
– Спасти нас может только один человек – товарищ Сталин. Его бы нам на два дня… Расстрелял бы их всех – и пусть уходит, ложится.
– И слава тебе, господи! Я всем святым поклонюсь.
– Сталинские сцуки! У вас кровь на руках еще не остыла. Царскую семью зачем убили? Не пожалели даже детей.
– Великую Россию не сделаешь без великого Сталина.
– Засрали народу мозги…
– Я простой человек. Сталин простых людей не трогал. В нашем роду никто не пострадал – все рабочие. Летели головы начальников, а простой человек жил спокойно.
– Красная гебня! Скоро договоритесь до того, что никаких лагерей не было, кроме пионерских. Мой дед был дворником.
– А мой землемером.
– Машинистом…
У Белорусского вокзал начался митинг. Толпа взрывалась то аплодисментами, то криками: «Ура! Ура! Слава!». В конце вся площадь грянула песню на мотив «Варшавянки» – русской «Марсельезы», с новым текстом: «Сбросим с себя либеральные цепи, / Сбросим кровавый преступный режим». После этого, свернув красные флаги, одни заспешили к метро, другие выстроились в очереди возле киосков с пирожками и пивом. Начались народные гуляния. Плясали и веселились. Старая женщина в красной косынке кружилась и притоптывала вокруг гармониста: «Мы весело пляшем / У елки большой. / На Родине нашей / Нам так хорошо! / Мы весело пляшем, / Мы звонко поем, / И песенку нашу / Мы Сталину шлем…». У самого метро меня догнали пьяные частушки: «Отъебися все плохое, приебись хорошее».
Про то, что нам надо выбирать: великую историю или банальную жизнь
У пивного ларька всегда шумно. Народ разный. Тут встретишь профессора, работягу, студента, бомжа… Пьют и философствуют. Все о том же – о судьбах России. О коммунизме.
– Я – человек пьющий. Почему я пью? Мне моя жизнь не нравится. Я хочу совершить кульбит немыслимый с помощью алкоголя и каким-то образом перенестись в другое место. И там все будет красиво и хорошо.
– Для меня вопрос стоит более конкретно: где я хочу жить – в великой стране или в нормальной?
– Я любил империю… Мне жизнь после империи скучна. Неинтересна.
– Великая идея требует крови. Сегодня никто не хочет умирать где-то. На какой-то войне. Как в той песне: “Всюду деньги, деньги, деньги. / Всюду деньги, господа…”. А если вы настаиваете, что у нас есть цель, то какая она? Каждому по “мерседесу” и путевке в Майами?
– Русскому человеку надо во что-то верить… Верить в светлое, возвышенное. У нас в подкорке заложена империя и коммунизм. Героическое нам ближе.
– Социализм заставлял человека жить в истории… присутствовать при чем-то великом…
– Блять! Мы такие духовные, мы такие специальные.
– Не было у нас демократии. Какие мы с вами демократы?
– Последнее великое событие в нашей жизни – перестройка.
– Россия может быть только великой или не быть совсем. Нам нужна сильная армия.
– Ну на хрена мне великая страна? Хочу жить в маленькой, такой, как Дания. Без ядерного оружия, без нефти и газа. Чтобы никто меня не бил револьвером по голове. Может, тогда мы тоже научимся тротуары шампунем мыть…
– Коммунизм – непосильная для человека задача… У нас всегда так: то ли конституции хочется, то ли севрюжины с хреном…
– Как я завидую людям, у которых была идея! А мы сейчас живем без идеи. Хочу великую Россию! Я ее не помню, но знаю, что она была.
– Была великая страна с очередью за туалетной бумагой… Я хорошо помню, как пахли советские столовые и советские магазины.
– Россия спасет мир! И сама так спасется!
– Мой отец до девяноста лет дожил. Говорил, что в его жизни ничего хорошего не было, только война. Это всё, что мы умеем.
– Бог – это бесконечное, которое есть в нас… Мы сотворены по образу и подобию…
«Во мне советского было девяносто процентов… Я не понимала, что происходит. Помню, как выступал по телевидению Гайдар: учитесь торговать… рынок нас спасет… Купил на одной улице бутылку минеральной воды и продал ее на другой – это бизнес. Люди слушали с недоумением. Я приходила домой. Закрывала дверь и плакала. У мамы инсульт, так ее все это напугало. Может, они хотели что-то хорошее сделать, но им не хватило сострадания к собственному народу. Никогда не забуду стариков, просящих милостыню, они шеренгами стояли вдоль дороги. Застиранные шапочки, заштопанные пиджачки… Бегу на работу и с работы – боюсь глаза поднять… Работала я на парфюмерной фабрике. Вместо денег выдавали нам духи… косметику…»
«У нас в классе училась бедная девочка, ее родители погибли в автомобильной катастрофе. Она осталась с бабушкой. Весь год ходила в одном и том же платье. Так вот ее никому не было жалко. Как-то быстро стало стыдно быть бедным…»
«О девяностых не жалею… Бурлящее светлое время. Я, которая раньше не интересовалась политикой и не читала газет – пошла баллотироваться в депутаты. Кто были прорабы перестройки? Писатели, художники… Поэты… На Первом Съезде народных депутатов СССР автографы можно было собирать. Мой муж – экономист, он сходил с ума от этого: “Глаголом жечь сердца людей – это поэты умеют. Революцию вы сделаете. А дальше, дальше – что? Как будете строить демократию? Кто? Теперь понятно, что у вас получится”. Смеялся надо мной. Мы из-за этого с ним развелись… Но он оказался прав…»
«Страшно стало, поэтому народ и пошел в храмы. Когда я верил в коммунизм, мне не нужна была церковь. А жена моя ходит со мной из-за того, что в церкви батюшка говорит ей: “Голубушка”».
«Мой отец был честным коммунистом. Я коммунистов не виню, я виню коммунизм. До сих пор не знаю, как мне относиться к Горбачеву… К этому Ельцину… Очереди и пустые прилавки забываются скорее, чем красный флаг над Рейхстагом».
«Мы победили. А кого? Зачем? По телевидению на одном канале идет фильм, где “красные” бьют “белых”, а на другом – храбрые “белые” бьют “красных”. Шизофрения!»
«Все время говорим о страдании… Это наш путь познания. Западные люди кажутся нам наивными, потому что они не страдают, как мы, у них есть лекарство от любого прыщика. Зато мы сидели в лагерях, в войну землю трупами завалили, голыми руками гребли ядерное топливо в Чернобыле… И теперь мы сидим на обломках социализма. Как после войны. Мы такие тертые, мы такие битые. У нас свой язык… Язык страдания…
Пробовал заговорить об этом со своими студентами… Смеялись мне в лицо: “Мы не хотим страдать. Для нас жизнь – это что-то другое”. Ничего еще не поняли о нашем недавнем мире, а живем в новом. Целая цивилизация – на свалке…»
Десять историй в красном интерьере
О красоте диктатуры и тайне бабочки в цементе
Елена Юрьевна С. – третий секретарь райкома партии, 49 лет
Ждали меня вдвоем – сама Елена Юрьевна, с которой мы договаривались о встрече, и ее московская подруга Анна Ильинична М., приехавшая погостить. Она тут же включилась в разговор: «Давно хочу, чтобы кто-то объяснил мне, что с нами происходит». Ничего в их рассказах не совпадало, кроме знаковых имен: Горбачев, Ельцин… Но у каждой был свой Горбачев, и свой Ельцин. И свои 90-е.
Елена Юрьевна:
– Разве уже надо рассказывать о социализме? Кому? Еще все – свидетели. Честное слово, удивлена, что вы ко мне пришли. Я – коммунистка… номенклатура… Нам же сейчас не дают слова… затыкают рот. Ленин – бандит, Сталин… Мы все преступники, хотя на моих руках нет ни капли крови. Но на нас клеймо, на всех…
Может быть, через пятьдесят или сто лет о той нашей жизни, которая называлась социализмом, будут писать объективно. Без слез и проклятий. Начнут раскапывать, как древнюю Трою. Недавно вообще хорошо сказать о социализме было нельзя. На Западе после крушения СССР поняли, что марксистские идеи не кончились, их надо развивать. Не молиться на них. Маркс не был там идолом, как у нас. Святым! Сначала мы его боготворили, а потом предали анафеме. Все перечеркнули. Наука тоже принесла человечеству неисчислимые бедствия. Давайте тогда истреблять ученых! Проклянем отцов атомной бомбы, а еще лучше – начнем с тех, кто порох изобрел! С них… Разве я не права? (Я не успеваю ответить на ее вопрос.) Правильно… правильно, что из Москвы выбрались. В Россию, можно сказать, приехали. По Москве когда гуляешь, кажется, что и мы Европа: роскошные машины, рестораны… Золотые купола блестят! А вы послушайте, о чем у нас люди говорят в провинции… Россия – это не Москва, Россия – это Самара, Тольятти, Челябинск… жопинск какой-нибудь… Что на московских кухнях можно узнать о России? На тусовках? Бла-бла-бла… Москва – столица какого-то другого государства, а не того, что за кольцевой дорогой. Туристический рай. Москве не верьте…
К нам приезжают и сразу: ну, это совок. Люди живут очень бедно даже по российским меркам. Ругают богатых, злятся на всех. Ругают государство. Считают, что их обманули, никто им не говорил, что будет капитализм, они думали, что социализм начнут исправлять. Ту жизнь, которую все знали. Советскую. Пока они на митингах драли глотки: «Ельцин! Ельцин!» – их обобрали. Без них разделили заводы и фабрики. И нефть, и газ – то, что как говорится, от Бога. Но это только сейчас поняли. А в девяносто первом все в революцию пошли. На баррикады. Хотели свободы, а что получили? Ельцинскую… бандитскую революцию… Сына моей подруги чуть не убили за социалистические идеи. Слово «коммунист» было оскорблением. Свои пацаны во дворе чуть парня не убили. Знакомые. Сидели в беседке с гитарами и разговаривали: скоро, мол, пойдем стенкой на коммунистов, вешать будем их на фонарях. Мишка Слуцер – папа его у нас в райкоме работал – он мальчик начитанный, процитировал им английского писателя Честертона: «человек без утопии гораздо более страшен, чем человек без носа…». И его за это – ботинками… сапогами… «А, жиденыш! Кто революцию в семнадцатом году делал?» Я помню этот блеск в глазах людей в начале перестройки, никогда его не забуду. Коммунистов готовы были линчевать, отправлять по этапу… В мусорных контейнерах валялись книги Маяковского, Горького… Сдавали на макулатуру сочинения Ленина. Я подбирала… да! Вот! Я ни от чего не отрекаюсь! Ничего не стыжусь! Не меняла масть и не перекрашивалась из красного цвета в серый. Есть такие люди: «красные» придут – они радостно встречают «красных», «белые» придут – они радостно встречают «белых». Кульбиты совершались потрясающие: вчера – коммунист, сегодня – ультрадемократ. На моих глазах «честные» коммунисты превращались в верующих и либералов. А я люблю и никогда не разлюблю слово «товарищ». Хорошее слово! Совок? Прикусите язык! Советский человек был очень хороший человек, он мог поехать за Урал, в пустыню – ради идеи, а не за доллары. Не за чужие зеленые бумажки. Днепрогэс, Сталинградская битва, выход в открытый космос – это все он. Великий Совок! Мне до сих пор приятно писать – СССР. Это была моя страна, а сейчас я живу не в своей стране. В чужой стране я живу.
Советской я родилась… Наша бабушка не верила в Бога, но верила в коммунизм. А наш папа до самой смерти ждал, что социализм вернется. Уже пала Берлинская стена, развалился Советский Союз, а он все равно ждал. Навеки разругался со своим лучшим другом, когда тот назвал флаг красной тряпкой. Наш красный флаг! Кумачовый! Папа был на финской войне, за что они воевали, он так и не понял, но надо было идти, и он пошел. Об этой войне молчали, называли ее не войной, а финской кампанией. Но папа нам рассказывал… Тихо. Дома. Редко, но вспоминал. Когда выпьет… Пейзаж его войны – зимний: лес и метровой высоты снег. Финны воевали на лыжах, в белых маскхалатах, появлялись везде неожиданно, как ангелы. «Как ангелы» – это папины слова… Могли за ночь вырезать заставу, целую роту. Мертвые… В папиных воспоминаниях мертвые всегда лежали в лужах крови, из сонного человека крови выходит очень много. Крови было столько, что она проедала метровый снег. После войны папа не мог зарезать даже курицу. Кролика. Сильно расстраивался от вида любого убитого животного и теплого запаха крови. Он боялся больших деревьев с густой кроной, на таких деревьях обычно прятались финские снайперы, их называли «кукушками”. (Молчит.) Хочу добавить… От себя… После Победы наш городок утопал в цветах, это буйство какое-то было. Самый главный цветок – георгины, его клубни надо было зимой сохранять, чтобы не замерзли. Боже упаси! Их укутывали, укладывали, как будто это маленький ребенок. Цветы росли возле домов, за домами, у колодцев и вдоль заборов. После страха особенно хочется жить, радоваться. А потом цветы исчезли, сейчас этого уже нет. А я помню… Вспомнила сейчас… (Молчит.) Папа… Провоевал наш папа всего полгода и попал в плен. Как он попал в плен? Они наступали по замерзшему озеру, а артиллерия противника била по льду. Мало кто доплывал до берега, а те, кто доплывал, они уже были без сил и без оружия. Полуголые. Финны им тогда протягивали руки. Спасали. Кто-то хватался за эту руку, а кто-то… Было много таких, кто не принимал помощь от врага. Их так учили. А папа ухватился за чью-то руку, его вытащили. Я хорошо помню папино удивление: «Они дали мне шнапса, чтобы я согрелся. Одели в сухое. Смеялись и хлопали по плечу: “Живой, Иван!”». Папа раньше никогда не видел врагов вблизи. Не понимал, почему они радуются…
В сороковом году закончилась финская кампания… Советских военнопленных обменяли на финнов, которые находились у нас в плену. Навстречу друг другу они шли колоннами. Финнов, когда они поравнялись со своими, стали обнимать, жать им руки… Наших встретили не так, их встретили как врагов. «Братцы! Родненькие!» – кинулись они к своим. – «Стоять! Шаг в сторону – стреляем!» Колонну оцепили солдаты с овчарками и повели в специально приготовленные бараки. Вокруг бараков – колючая проволока. Начались допросы… «Как ты попал в плен?» – спросил следователь папу. – «Меня финны вытащили из озера». – «Ты – предатель! Ты спасал свою шкуру, а не Родину». Папа тоже считал, что он виноват. Их так учили… Не было никакого суда. Вывели всех на плац и зачитали перед строем приказ: шесть лет лагерей за измену Родине. Отправили в Воркуту. Там они строили железную дорогу в вечной мерзлоте. Бог мой! Сорок первый год… Немцы уже под Москвой… А им не говорили, что война началась – они же враги, будут радоваться. Уже вся Беларусь под немцами. Взят Смоленск. Когда они узнали об этом, сразу все захотели на фронт, писали письма начальнику лагеря… Сталину… Им отвечали: вы, мол, сволочи, работайте на победу в тылу, на фронте нам предатели не нужны. И они… папа… я от папы это слышала… Они все плакали… (Молчит.) Вот с кем бы вам встретиться… Но папы уже нет. Лагерь ему жизнь укоротил. И перестройка. Он очень страдал. Не понимал, что случилось. Со страной, с партией. Наш папа… В лагере за шесть лет он забыл, что такое яблоко и кочан капусты… простыня и подушка… Три раза в день им давали баланду, буханка хлеба – на двадцать пять человек. А спали – под голову полено, вместо матраца – доски на полу. Наш папа… Странный он был, не такой папа, как у других… Не мог ударить коня или корову, пнуть ногой собаку. Мне всегда было папу жалко. А другие мужчины над ним смеялись: «Ну какой ты мужик? Баба!». Мама плакала, что он… ну что он не такой, как все. Возьмет в руки кочан капусты и разглядывает… Помидор… Первое время вообще молчал, ничем с нами не делился. Лет через десять заговорил. Не раньше… да… Одно время в лагере он возил мертвых. За день собиралось десять-пятнадцать трупов. Живые возвращались в бараки пешком, а мертвые – на санях. С мертвецов им приказывали снимать одежду, и мертвецы лежали на санях голые, как тушканчики. Это я говорю папиными словами… Сбивчиво у меня получается… Из-за чувств… волнуюсь, да… Первые два года в лагере никто из них не верил, что выживет; о доме вспоминали те, у кого был срок пять-шесть лет, а у кого срок десять-пятнадцать лет, о доме молчали. Никого они не вспоминали: ни жен, ни детей. Ни родителей. «Если начнешь вспоминать, не выживешь», – папины слова. А мы его ждали… «Вот папа вернется… и меня не узнает…», «Наш папочка…». Хотелось лишний раз произнести это слово – «папа». И он вернулся. Бабушка увидела возле калитки человека в солдатской шинели: «Солдатик, кого вы ищете?» – «Мама, ты меня не узнала?» Бабушка где стояла, там и упала. Так папа вернулся… Весь был обмороженный, ноги и руки он никогда не мог согреть. Мама? Мама говорила, что папа вернулся после лагеря добрым, а она боялась… ее пугали… что оттуда возвращаются злыми. А наш папа хотел радоваться жизни. На все случаи у него была поговорка: «Мужайся – худшее еще впереди».
Забыла… Забыла, где это происходило… в каком месте? В пересылочном лагере, что ли? На четвереньках по большому двору ползали и ели траву. Дистрофики, пеллагрики. При папе нельзя было ни на что пожаловаться, он знал: «Чтобы выжить, человеку надобно три вещи – хлеб, лук и мыло». Всего три вещи… всего… Этих людей уже нет, наших родителей… Если кто остался, то их надо в музей, под стекло, руками не трогать. Сколько они всего перенесли! Когда папу реабилитировали, ему выдали две солдатские зарплаты за все страдания. Но у нас в доме очень долго висел большой портрет Сталина. Очень долго… я это хорошо помню… Жил папа без обиды, он считал, что это время было такое. Жестокое время. Строили сильную страну. И построили, и победили Гитлера! Папины слова…
Я росла серьезной девочкой, настоящей пионеркой. Теперь у всех такое мнение, что раньше в пионерскую организацию загоняли. Никуда не загоняли. Все дети мечтали быть пионерами. Ходить вместе. С барабаном, с горном. Петь пионерские песни: «Край родной, навек любимый, / Где найдешь еще такой!», «У власти орлиной орлят миллионы, и нами гордится страна…». На нашей семье все-таки было это пятно, что папа сидел, мама боялась, что меня не примут в пионеры или не сразу примут. А мне хотелось быть со всеми. Обязательно, да… «Ты за кого: за луну или за солнце?» – устраивали мне допрос мальчишки в классе. Тут надо быть начеку! «За луну». – «Правильно! За советскую страну». А скажешь «За солнце» – «За проклятого японца». Засмеют, задразнят. Клялись мы друг другу так: «честное пионерское» или «честное ленинское». Самая большая клятва – «честное сталинское слово». Родители знали, если я сказала «честное сталинское», я не обманываю. Бог мой! Вспоминаю не Сталина, а вспоминаю нашу жизнь… Я записалась в кружок и училась играть на аккордеоне. Маму за ударную работу наградили медалью. Не одни только мерзости были… и казарменная жизнь… В лагере папа часто видел образованных людей. Больше нигде он таких интересных людей не встречал. Некоторые из них писали стихи, и они чаще выживали. Как и священники, те молились. И папа хотел, чтобы все его дети получили высшее образование. Мечта его. Мы все – нас четверо детей – окончили институты. Но он научил нас и ходить за плугом, и косить траву. Я умею подать на воз сено, уложить стог. «Все может пригодиться», – считал папа. Он был прав.
Мне сейчас хочется вспоминать… Я хочу понять то, что прожито. Не только свою жизнь, а нашу… советскую… Я не в восторге от собственного народа. И от коммунистов тоже, и от наших коммунистических лидеров. Сегодня особенно. Все измельчали, обуржуазились, все хотят хорошо, сладко хотят жить. Потреблять и потреблять. Ухватить! Коммунисты тоже уже не те. У нас есть коммунисты с годовым доходом в сотни тысяч долларов. Миллионеры! Квартира в Лондоне… дворец на Кипре… Что это за коммунисты? В чем же их вера? Спросишь – как на дурочку посмотрят. «Не рассказывайте нам советские сказки. Вот этого не надо». Разрушили такую страну! Распродали по бросовым ценам. Нашу Родину… Чтобы кто-то мог ругать Маркса и ездить по европам. Время такое же страшное, как и при Сталине… Я отвечаю за свои слова! Напишете это? Не верю… (И я вижу – не верит.) Уже нет ни райкомов, ни обкомов. Расстались с советской властью. А что получили? Ринг, джунгли… Власть воров… Хватали – кто быстрее, пирог большой. Бог мой! Чубайс… «прораб перестройки»… теперь он хвастается, лекции по всему миру читает. Мол, в других странах капитализм складывался столетиями, а у нас за три года. Действовали хирургическим методом… А если кто-то наворовал, то и слава богу, может, их внуки будут порядочными людьми. Бррр! И это демократы… (Молчит.) Американский костюмчик примеряли, слушали дядю Сэма. А американский костюмчик не налазит. Криво сидит. Вот! Не за свободой побежали, а за джинсами… за супермаркетами… Купились на яркие упаковки… Теперь и у нас в магазинах полно всего. Изобилие. Но горы колбасы никак не связаны со счастьем. Со славой. Был великий народ! Сделали из него торгашей и мародеров… лабазников и менеджеров…
Пришел Горбачев… Заговорили о возвращении ленинских принципов. Общее воодушевление. Возбуждение. Народ давно ждал перемен. В свое время поверили Андропову… Ну кагэбист, да… Как вам объяснить? КПСС уже не боялись. Возле пивного ларька мужики могли партию обматерить, а кагэбэ – никогда… Вы что! В памяти сидело… Знали, что железной рукой, каленым железом, ежовой рукавицей… эти ребята наведут порядок. Не хочется повторять банальные вещи, но Чингисхан гены нам испортил… и крепостное право… Привыкли, что бить всех надо, без битья ничего не получится. Андропов с этого и начал – с закручивания гаек. Все разболтались: в рабочее время ходили в кино, в баню, бегали по магазинам. Чаи распивали. Милиция стала рейды проводить, облавы. Проверяли документы и хватали прогульщиков прямо на улицах, в кафе, в магазинах и сообщали на работу. Штрафовали, увольняли. Но Андропов тяжело болел. Быстро умер. Мы их хоронили, хоронили. Брежнев, Андропов, Черненко… Самый популярный анекдот до Горбачева: «Передаем сообщение ТААС. Вы будете сильно смеяться, но умер очередной Генеральный секретарь ЦК КПСС…» Ха-ха-ха… Народ на своих кухнях смеялся, а мы на своих. На пятачке свободы. Кухонная болтовня… (Смеется.) Отлично помню, как во время разговоров включали громко телевизор или радио. Целая наука. Учили друг друга, как ухитриться, чтобы гэбистам, прослушивающим телефонные разговоры, ничего не было слышно: прокручиваешь диск – старые телефоны были с дырочками для цифр – вставляешь в одну из них карандаш и фиксируешь… можно пальцем держать, но палец же устает… Наверное, вас тоже учили? Помните? Надо что-нибудь «секретное» сказать, отходили на два-три метра от телефона, от трубки. Стукачество, прослушка – это было везде, во всем обществе сверху и донизу, и мы в райкоме гадали: кто у нас стукач? Как потом выяснилось, подозревала я невинного человека, а доносчик был не один, их было несколько. Вот на этих я никогда бы не подумала… Одна из них – наша уборщица. Приветливая, добрая женщина. Несчастная. Муж – пьяница. Бог мой! Сам Горбачев… генеральный секретарь ЦК КПСС… Читала в одном его интервью, как во время конфиденциальных бесед у себя в кабинете он делал то же самое – включал телевизор на всю громкость или радио. В общем, азбука. Приглашал для серьезных разговоров на свою дачу за город. И они там… Там они выходили в лес, гуляли и разговаривали. Птички не донесут… Все чего-то боялись, боялись и те, кого боялись. Я боялась.
Последние советские годы… Что я помню? Чувство стыда не покидало. За обвешенного орденами и «звездами» Брежнева и за то, что Кремль в народе прозвали комфортабельным домом престарелых. За пустые прилавки. Планы выполняем и перевыполняем, а в магазинах ничего нет. Где наше молоко? Мясо? Я и теперь не понимаю, куда это все девалось. Молоко кончалось через час после того, как открывались магазины. С обеда продавцы стояли возле чисто вымытых лотков. На полках – трехлитровые банки березового сока и пачки соли, почему-то всегда мокрые. Килька в банках. Все! Выбросят в продажу колбасу – ее разметут в момент. Сосиски и пельмени – деликатес. В райкоме все время что-то делили: этому заводу – десять холодильников и пять шуб, а этому колхозу – два югославских мебельных гарнитура и десять польских женских сумочек. Кастрюли и женское белье делили… колготки… Такое общество могло держаться только на страхе. На чрезвычайке – побольше стрелять и побольше сажать. Но социализм с Соловками и Беломорканалом кончился. Нужен был какой-то другой социализм.
Перестройка… Был момент, когда люди снова потянулись к нам. Вступали в партию. Большие у всех ожидания. Все тогда были наивные – левые и правые, коммунисты и антисоветчики. Все – романтики. Сегодня за это стыдно, за ту свою наивность. Молятся на Солженицына. Великий старец из Вермонта! Не один Солженицын, многие уже понимали, что так, как мы живем, жить нельзя. Заврались. И коммунисты – верите вы мне или нет? – тоже это понимали. Среди коммунистов было немало умных и честных людей. Искренних. Я лично знала таких людей, особенно часто они встречались в провинции. Как мой отец… Отца не приняли в партию, он пострадал от партии, но он ей верил. Верил партии и стране. Каждое утро у него начиналось с того, что он открывал газету «Правда» и прочитывал ее от и до. Коммунистов без партбилетов было больше, чем с партбилетами, они душой были коммунисты. (Молчит.) На всех демонстрациях несли лозунг «Народ и партия – едины!». Эти слова – не выдумка, это была правда. Я никого не агитирую, я рассказываю, как оно было. Уже все забыли… Многие вступали в партию по совести, а не только из-за карьеры или из прагматических соображений: если я беспартийный и украду – меня посадят, если я вступлю в партию и украду – меня выгонят из партии, но не посадят. Я негодую, когда о марксизме отзываются презрительно, с насмешкой. Скорее его – в мусорный бачок! На свалку! Это великое учение, оно переживет все гонения. И нашу советскую неудачу – тоже. Потому что… есть много причин… Социализм – это не только лагеря, стукачество и железный занавес, это и справедливый, ясный мир: со всеми делиться, слабых жалеть, сострадать, а не подгребать все под себя. Мне говорят: нельзя было купить машину, но ни у кого не было машины. Никто не носил костюмы от Версаче и не покупал дом в Майами. Бог мой! Вожди СССР жили на уровне бизнесменов средней руки, до олигархов им не дотянуть. Слабо! Не строили они себе яхт с душем из шампанского. Подумать только! По телевизору передают рекламу: покупайте медные ванны – стоимостью с двухкомнатную квартиру. Для кого они, скажите? Позолоченные дверные ручки… Это – свобода? Маленький, рядовой человек – никто, он – ноль. На дне жизни. А тогда он мог написать в газету, пойти и пожаловаться в райком: на начальника или на плохое обслуживание… на неверного мужа… Были глупости, не отрицаю, но кто сегодня этого простого человека вообще слушает? Кому он нужен? Помните советские названия – улица Металлургов, Энтузиастов… Заводская, Пролетарская… Маленький человек… он был главный… Декларация, ширма, как вы говорите, а сейчас и прятаться никому не надо. Нет денег – пошел вон! Под лавку! Улицы переименовывают: Мещанская, Купеческая, Дворянская… Даже колбасу я видела «Княжескую», а вино «Генеральское». Культ денег и успеха. Выживает сильнейший, с железными бицепсами. Но не все способны идти по головам, вырывать кусок у другого. У одних природа такая, что они не могут, а другим противно.
С ней… (Кивает в сторону подруги.) Спорим, конечно… Она мне доказывает, что для истинного социализма требуются идеальные люди, а их нет. Идея это бред… сказка… Наш человек уже ни за что не поменяет свою потрепанную иномарку и паспорт с шенгенской визой на советский социализм. А я верю в другое: человечество идет в сторону социализма. К справедливости. Другого пути нет. Посмотрите на Германию… Францию… Есть шведский вариант. А какие ценности у русского капитализма? Презрение к «людишкам»… К тем, у кого нет миллиона, нет «мерседеса». Вместо красного флага – Христос воскрес! И культ потребления… Человек засыпает с мыслью не о чем-то таком высоком, а о том, что он сегодня чего-то не купил. Вы думаете, что страна развалилась, потому что узнали правду о ГУЛАГе? Так думают те, кто книги пишет. А человек… нормальный человек историей не живет, он живет проще: влюбился, женился, дети родились. Дом построил. Страна пропала из-за дефицита женских сапог и туалетной бумаги, из-за того, что апельсинов не было. Этих джинсов проклятых! Теперь наши магазины похожи на музеи. На театры. И меня хотят убедить, что тряпки от Версаче и Армани – это все, что необходимо человеку. Ему этого достаточно. Жизнь – это финансовые пирамиды и векселя. Свобода – это деньги, а деньги – свобода. А наша жизнь копейки не стоит. Ну, это… ну, это… понимаете… Я даже слов не нахожу, как назвать… Мне жалко моих маленьких внучек. Жалко. Им это по телевизору каждый день вбивают в голову. Я не согласна. Я была и остаюсь коммунисткой.
Прерываемся надолго. Неизменный чай, на этот раз с вишневым вареньем, сваренным по собственному рецепту хозяйки.
Восемьдесят девятый год… Я к этому времени уже была третьим секретарем райкома партии. На партработу меня взяли из школы, я преподавала русский язык и литературу. Моих любимых писателей – Толстого, Чехова… Когда предложили – испугалась. Такая ответственность! Но ни минуты не колебалась, был искренний порыв – служить партии. В то лето я приехала домой в отпуск. Обычно украшений не ношу, а тут купила себе какие-то бусы дешевенькие, мама меня увидела: «Ты – как царица». Была мной восхищена… ну не бусами же! Папа сказал: «Никто из нас тебя ни о чем просить не придет. Ты должна быть чистой перед людьми». Родители гордились! Были счастливы! А я… я… что переживала я? Верила ли я партии? Честно отвечу – верила. И сейчас верю. С партийным билетом не расстанусь, что бы ни случилось. Верила ли я в коммунизм? Честно скажу, не буду врать: я верила в возможность справедливого устройства жизни. И сейчас… я уже говорила… верю. Мне надоело слушать рассказы о том, как нам плохо жилось при социализме. Горжусь советским временем! Шикарной жизни не было, но нормальная жизнь была. Была любовь и дружба… платья и туфли… Жадно слушали писателей и артистов, а теперь перестали. Место поэтов на стадионах заняли колдуны и экстрасенсы. Колдунам верят, как в Африке. Наша… советская жизнь… это была попытка альтернативной цивилизации, если хотите. Если с пафосом… Власть народа! Ну не могу успокоиться! Где вы сегодня увидите доярок, токарей или машинистов метро? Нет их – ни на страницах газет, ни на экранах телевизоров, ни в Кремле, когда вручают ордена и медали. Нигде их нет. Везде новые герои: банкиры и бизнесмены, модели и интердевочки… менеджеры… Молодые еще могут приспособиться, а старики умирают молча, за закрытыми дверями. В нищете умирают, в забвении. У меня пенсия – пятьдесят долларов… (Смеется.) И у Горбачева, я читала, пятьдесят долларов… Про нас говорят: «Коммунисты жили в хоромах, ели черную икру ложками. Себе они построили коммунизм». Бог мой! Я вас водила по своим «хоромам» – обычная двухкомнатная квартира, общая площадь – пятьдесят семь метров. Ничего не спрятала: советский хрусталь, советское золото…
– А спецполиклиники и спецпайки, «свои» очереди на получение квартир и казенные дачи… партийные санатории?
– Честно? Было это… ну было… но больше там… (Поднимает руку вверх.) А я всегда внизу, самое нижнее звено власти. Внизу, возле людей. Всегда на виду. Если где-то и было… не спорю… Не отрицаю! Читала, как и вы, в перестроечных газетах… что дети секретарей ЦК летали охотиться в Африку. Бриллианты скупали… Все равно не сравнить это с тем, как живут сейчас «новые русские». С их замками и яхтами. Посмотрите, что понастроили они вокруг Москвы. Дворцы! Двухметровые каменные заборы, проволока с электрическим током, видеонаблюдение. Вооруженные охранники. Как в зоне или на секретном военном объекте. Что, там Билл Гейтс живет, компьютерный гений? Или Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам? Там живут победители. Гражданской войны вроде как не было, а победители есть. Там они – за каменным забором. От кого они прячутся? От народа? Народ думал, что прогонит коммунистов и наступят прекрасные времена. Райская жизнь. Вместо свободных людей появились эти… с миллионами и миллиардами… Гангстеры! Стреляют средь бела дня… Даже у нас одному бизнесмену балкон разнесли. Никого не боятся. Летают в личных самолетах с позолоченными унитазами, еще и хвастаются. Сама видела по телевизору… один показывал свои часы ценой в бомбардировщик. А другой – мобильник с бриллиантами. И никто! никто не крикнет на всю Россию, что это стыдно. Мерзко. Когда-то были Успенский и Короленко. Шолохов написал Сталину письмо в защиту крестьян. Теперь я хочу… Вы меня спрашиваете, а я хочу у вас спросить: где наша элита? Почему я читаю каждый день в газетах мнение по любому поводу Березовского и Потанина, а не Окуджавы… Искандера… Как так случилось, что вы уступили свое место? Свою кафедру… И первыми побежали к объедкам со стола олигархов. В услужение. Русская интеллигенция раньше не бегала и не прислуживала. А теперь никого не осталось – нет никого, кто скажет про дух, кроме попа. А где перестройщики?
У коммунистов моего поколения было мало общего с Павкой Корчагиным. С первыми большевиками с портфелями и револьверами. От них осталась только военная лексика: «солдаты партии», «трудовой фронт», «битва за урожай». Мы уже не чувствовали себя солдатами партии, мы были служащие партии. Клерки. Существовал такой обряд – светлое будущее: в актовом зале висел портрет Ленина, в углу стояло красное знамя. Обряд… ритуал… Солдаты были уже не нужны, требовались исполнители: «давай-давай», а нет – так «партбилет на стол». Приказали – сделал. Доложил. Партия не военный штаб, а аппарат. Машина. Бюрократическая машина. Гуманитариев на службу брали редко, партия им не доверяла со времен Ленина, который писал об интеллигентском сословии: «не мозг, а говно нации». Таких, как я, было мало. Филологов. Кадры ковали из инженеров, зоотехников, из тех, чья специальность – машины, мясо и зерно, а не человек. Кузницы партийных кадров – сельскохозяйственные институты. Нужны были дети рабочих и крестьян. Из народа. Доходило до смешного: ветеринара, например, могли взять на партийную работу, а врача-терапевта – нет. Не встречала там ни лириков, ни физиков. Что еще? Субординация, как в армии… Подъем наверх медленный, со ступеньки на ступеньку: лектор райкома партии, затем – заведующий парткабинетом… инструктор… Третий секретарь… второй секретарь… Я все ступени за десять лет прошла. Это сейчас младшие научные сотрудники и завлабы рулят страной, председатель колхоза или электрик становится президентом. Вместо колхоза – сразу страна! Такое случается только в революцию… (Вопрос – то ли ко мне, то ли к себе.) Не знаю, как назвать то, что произошло в девяносто первом…
Революция или контрреволюция? Никто не пробует даже объяснить, в какой стране мы живем. Какая у нас идея, кроме колбасы? Что строим… Идем вперед – к победе капитализма. Так? Сто лет ругали капитализм: чудовище… монстр… А теперь гордимся, что у нас будет как у всех. Если станем как все, кому мы будем интересны? Народ-богоносец… надежда всего прогрессивного человечества… (Иронично.) О капитализме у всех такое же представление, как недавно о коммунизме. Мечты! Судят Маркса… винят идею… Идея-убийца! А я виню исполнителей. У нас был сталинизм, а не коммунизм. А сейчас ни социализма, ни капитализма. Ни восточной модели, ни западной. Ни империи, ни республики. Болтаемся, как… Помолчу… Сталин! Сталин! Хоронят его… хоронят… А закопать никак не получается. Не знаю как в Москве, а у нас его портреты ставят под ветровое стекло в автомобилях. В автобусах. Дальнобойщики особенно его любят. В мундире генералиссимуса… Народ! Народ! А что народ? Народ сам про себя сказал: из него и дубина, и икона. Как из дерева… Что сделаешь, то и будет… Качается наша жизнь между бараком и бардаком. Сейчас маятник посредине… Полстраны ждет нового Сталина. Вот придет он и наведет порядок… (Опять молчит.) У нас… конечно… в райкоме тоже было много разговоров о Сталине. Партийная мифология. Ее передавали из поколения в поколение. Все любили разговоры о том, как жили при Хозяине… Сталинские порядки были такие: например, заведующим секторами ЦК разносили чай с бутербродами, а лекторам – просто чай. Ввели должность заместителя заведующего сектора. Как быть? Им решили подавать чай без бутербродов, но на белой салфетке. Уже они отмечены… взобрались на Олимп к богам, к героям. Теперь надо протиснуться к месту у корыта… Так было и при Цезаре, и при Петре Первом. И так будет всегда. Полюбуйтесь на своих демократов… Взяли власть и тут же бегом – куда? К кормушке. К рогу изобилия. Кормушка прикончила не одну революцию. На наших глазах… Ельцин боролся с привилегиями и называл себя демократом, а теперь любит, когда его величают царем Борисом. Стал крестным отцом…
Перечитала «Окаянные дни» Ивана Бунина. (Достает с полки книгу. Находит закладку и читает.) «Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были “Одесские Новости”, в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных “Известий” и с криками: “На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!” – Рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: “Мало! Мало!”». Вам это ничего не напоминает? Мне… да… Напоминает… Горбачевские годы… первые бунты… Когда народ стал вываливать на площади и требовать – то хлеба, то свободы… то водки и курева… Страх! Инсульты и инфаркты у многих партработников. «В кольце врагов», как партия учила, жили, в «осажденной крепости». К мировой войне готовились… Больше всего боялись ядерной войны, а развала не ждали. Не ждали… никак… Привыкли к майским и октябрьским колоннам, к плакатам: «Дело Ленина переживет века», «Партия – наш рулевой». А тут не колонны, а стихия. Не советский народ, а какой-то другой, незнакомый нам. И плакаты другие: «Коммунистов под суд!», «Раздавим коммунистическую гадину!». Сразу вспомнился Новочеркасск… Информация была закрытая, но мы знали… как при Хрущеве голодные рабочие вышли на улицы… их расстреляли… Тех, кто остался в живых, рассовали по лагерям, до сих пор их родные не знают, где они… А тут… тут уже перестройка… Стрелять нельзя, сажать тоже. Надо разговаривать. А кто из нас мог выйти к толпе и держать речь? Начать диалог… агитировать… Мы были аппаратчики, а не ораторы. Я, например, читала лекции и капиталистов клеймила, негров в Америке защищала. В моем кабинете стояло полное собрание сочинений Ленина… пятьдесят пять томов… Но кто его по-настоящему читал? Пролистывали в институтах перед экзаменами: «Религия – опиум народа» и «всякий боженька есть труположество».
Панический был страх… Лекторы, инструкторы, секретари райкомов и обкомов – все мы боялись выезжать к рабочим на завод, к студентам в общежитие. Пугались телефонных звонков. А вдруг спросят о Сахарове или о Буковском… что отвечать? Враги они советской власти или уже не враги? Как оценивать «Дети Арбата» Рыбакова и пьесы Шатрова? Никакой команды сверху… Раньше тебе сказали – ты выполнил поручение, провел линию партии в жизнь. А тут: бастуют учителя, требуют повышения зарплаты, молодой режиссер в каком-то заводском клубе репетирует запрещенную пьесу… Бог мой! На картонной фабрике рабочие на тачке вывезли за ворота своего директора. Горланили. Били стекла. Ночью зацепили железным тросом и свалили памятник Ленину. Показывали ему кукиши. Партия растерялась… Я помню растерянную партию… Сидели в своих кабинетах за закрытыми шторами. У входа в здание райкома днем и ночью дежурил усиленный наряд милиции. Боялись народа, а народ еще по инерции боялся нас. Потом бояться перестали… Собирались на площади тысячи людей… Плакат запомнила: «Даешь 1917 год! Революцию!». Была потрясена. Пэтэушники какие-то с ним стояли… молодые ребята… Птенцы! Один раз пришли в райком парламентеры: «Покажите свой спецмагазин! У вас там всего полно, а наши дети в голодные обмороки падают на уроках». Никаких норковых шуб и черной икры в нашем буфете они не нашли, но все равно не поверили: «Обманываете простой народ». Все пришло в движение. Зашаталось. Горбачев был слаб. Лавировал. Вроде он за социализм… и капитализма хочется… Больше думал о том, как понравиться в Европе. В Америке. Там ему аплодировали: «Горби! Горби! Ай да Горби!». Заболтал перестройку… (Молчит.)
Социализм умирал на наших глазах. И пришли эти мальчики железные.
Анна Ильинична:
– Это было недавно, но это было в другую эпоху… В другой стране… Там осталась наша наивность, наш романтизм. Доверчивость. Кто-то не хочет об этом вспоминать, потому что неприятно, мы пережили много разочарований. Ну кто сказал, что ничего не изменилось? Библию нельзя было перевезти через границу. Это забыли? В подарок из Москвы я возила родственникам в Калугу муку и макароны. И они были счастливы. Забыли? Никто уже не стоит в очереди за сахаром и мылом. И нет талонов на пальто.
Я полюбила Горбачева сразу! Теперь его проклинают: «Предатель СССР!», «Горбачев продал страну за пиццу!». А я помню наше удивление. Потрясение! Наконец-то у нас нормальный лидер. Не стыдно за него! Друг другу пересказывали, как в Ленинграде он остановил кортеж и вышел к народу, а на каком-то заводе отказался от дорогого подарка. Во время традиционного застолья выпил только стакан чаю. Улыбается. Выступает без бумажки. Молодой. Никто из нас не верил, что советская власть когда-нибудь кончится и в магазинах появится колбаса, а за импортными бюстгальтерами не будут выстраиваться километровые очереди. Привыкли всё по знакомству доставать: подписку на «всемирку», шоколадные конфеты и гэдээровские спортивные костюмы. Дружить с мясником, чтобы купить кусок мяса. Советская власть казалась вечной. Хватит еще на детей и внуков! А она неожиданно для всех кончилась. Теперь ясно, что и сам Горбачев этого не ожидал, он хотел что-то изменить, но не знал – как. Никто не был готов. Никто! Даже те, кто долбил эту стену. Я – рядовой технолог. Не герой, нет… и не коммунистка… Благодаря своему мужу, он – художник, я рано попала в богемную среду. Поэты, художники… Среди нас не было героев, ни у кого не хватило смелости стать диссидентом, отсидеть в тюрьме или в психушке за свои убеждения. Жили с фигой в кармане.
Сидели на кухнях, ругали советскую власть и травили анекдоты. Читали самиздат. Если кто-то доставал новую книгу, он мог прийти в дом к друзьям в любое время суток – даже в два-три часа ночи, все равно это был желанный гость. Я хорошо помню ту ночную московскую жизнь… особенную… Там были свои герои… свои трусы и предатели… Свой восторг! Объяснить это человеку непосвященному невозможно. Прежде всего наш восторг я не могу объяснить. И не могу объяснить другое… Вот это… Ночная наша жизнь… ну совсем она не была похожа на дневную. Ни капли! Утром мы все шли на работу и становились обыкновенными советскими людьми. Как и все остальные. Пахали на режим. Либо ты конформист, либо тебе надо идти в дворники и сторожа, другого способа сохранить себя не было. Возвращались со службы домой… И опять пили водку на кухнях, слушали запрещенного Высоцкого. Ловили сквозь треск глушилок «Голос Америки». Я до сих пор помню этот великолепный треск. Крутили бесконечные романы. Влюблялись, разводились. И многие при этом чувствовали себя совестью нации, считали, что вправе поучать свой народ. А что мы о нем знали? То, что прочитали в «Записках охотника» Тургенева и у наших «деревенщиков». У Распутина… Белова… Я даже своего отца не понимала. Кричала ему: «Папа, если ты не вернешь им свой партбилет, то я с тобой разговаривать не буду». Папа плакал.
У Горбачева было власти больше, чем у царя. Неограниченная власть. А он пришел и сказал: «Так больше жить нельзя». Его знаменитая фраза. И страна превратилась в дискуссионный клуб. Спорили дома, на работе, в транспорте. Из-за разных взглядов семьи распадались, дети ссорились с родителями. Одна моя знакомая так разругалась с сыном и невесткой из-за Ленина, что выгнала их на улицу, они жили зимой за городом на холодной даче. Театры опустели, все сидели дома перед телевизором. Шли прямые репортажи с первого Съезда народных депутатов СССР. Перед этим была целая история, как мы выбирали этих депутатов. Первые свободные выборы! Настоящие! По нашему округу проходили две кандидатуры: какой-то партийный чиновник и молодой демократ, преподаватель университета. Помню и сейчас его фамилию – Малышев… Юра Малышев. Сейчас он, я случайно узнала, занимается агробизнесом – помидорами и огурчиками торгует. А тогда – революционер! Выступал и говорил такую крамолу! Неслыханную! Марксистско-ленинскую литературу называл малолитражной… нафталинной… Шестую статью Конституции требовал отменить, а это статья о руководящей роли КПСС. Краеугольный камень марксизма-ленинизма… Я слушала и не могла себе это представить. Бредятина! Кто даст… позволит тронуть? Все развалится… Это же скрепы… Настолько мы были все зомбированные. Я советского человека выдавливала из себя годами, ведрами вычерпывала. (Молчит.) Наша команда… Нас набралось человек двадцать добровольных помощников, после работы мы обходили квартиры в своем районе и агитировали. Рисовали плакаты: «Голосуй за Малышева!». И представьте себе – он победил! С большим перевесом. Первая наша победа! Потом мы все балдели от прямых репортажей со съезда – депутаты высказывались еще более откровенно, чем мы на кухнях. Или не дальше двух метров от кухни. Все торчали у телевизоров, как наркоманы. Не могли оторваться. Вот сейчас Травкин им даст! Да-а-ал! А Болдырев? Сейчас он… Во молодец!
Неописуемая страсть к газетам и журналам, к периодике больше, чем к книгам. Тиражи «толстых журналов» рванули вверх до миллионов экземпляров. Утром в метро изо дня в день перед глазами одна и та же картина: весь вагон сидит и читает. Те, кто стоят, тоже читают. Обмениваются друг с другом газетами. Незнакомые люди. Мы с мужем выписывали двадцать наименований, одну зарплату полностью тратили на подписку. С работы я бежала скорей домой, чтобы залезть в халат и читать. Недавно умерла моя мама, она говорила: «Я умираю, как крыса на помойке». Ее однокомнатная квартира напоминала читальный зал: журналы, газеты – стопками на книжных полках, в шкафу. На полу и в прихожей. Драгоценный «Новый мир» и «Знамя»… «Даугава»… Всюду – коробки вырезок. Большие коробки. Я отвезла все на дачу. Выбросить жалко, отдать – кому? Макулатура сейчас! А все читано-перечитано. Много подчеркиваний – красным карандашом, желтым. Красным – самое важное. Полтонны, я думаю, у меня лежит. Вся дача забита.
Вера была искренняя… наивная вера… Поверили, что вот сейчас… уже стоят на улице автобусы, которые повезут нас в демократию. Будем жить в красивых домах, а не в серых «хрущевках», построим автобаны вместо раздолбанных дорог, станем все добрыми. Рациональных доказательств этому никто не искал. Их и не было. А зачем? Верили сердцем, а не рассудком. И голосовали на избирательных участках сердцем. Никто конкретно не говорил, что надо делать: свобода – и все. Если ты сидишь в закрытом лифте, то мечтаешь об одном – чтобы лифт открылся. У тебя счастье, когда его открыли. Эйфория! Ты не думаешь о том, что ты сейчас должен что-то делать… ты наконец дышишь полной грудью… Ты уже счастлив! Моя подруга вышла замуж за француза, он работал в московском посольстве. И вот он все время от нее слышал: посмотри, мол, какая у нас, у русских, энергия. «Ты мне объясни, для чего эта энергия?» – спрашивал он у нее. Ни она, ни я не могли ничего ему объяснить. Я ему так и отвечала: бьет энергия – и все. Я видела вокруг себя живых людей, живые лица. Какие все были в то время красивые! Откуда взялись эти люди? Вчера же их еще не было!
Телевизор у нас в доме не выключался… Программу «Новости» смотрели каждый час. У меня только родился сын, я выходила с ним во двор и обязательно брала с собой приемник. Люди собак прогуливали с приемниками. Смеемся теперь над сыном: ты у нас с детства в политике – а ему это не интересно. Слушает музыку, учит языки. Хочет увидеть мир. Другим живет. Наши дети не похожи на нас. На кого они похожи? На свое время, друг на друга. А мы тогда… Ой-ой! Сейчас Собчак на съезде выступает… Все бросают дела и бегут к экрану. Мне нравилось, что Собчак в каком-то красивом, кажется, вельветовом пиджаке, галстук завязан «по-европейски». Сахаров на трибуне… Значит, у социализма может быть «человеческое лицо»? Вот оно… Для меня это было лицо академика Лихачева, а не генерала Ярузельского. Если я говорила «Горбачев», то мой муж добавлял «Горбачев… и Раиса Максимовна тоже». Первый раз мы увидели жену генсека, за которую было не стыдно. Красивая фигура, хорошо одета. Любят друг друга. Кто-то принес нам польский журнал, где писалось, что Раиса – шик! Как мы гордились! Бесконечные митинги… Улицы утопали в листовках. Кончался один митинг, начинался другой. Люди шли и шли, каждый думал, что он придет туда и получит какое-то откровение. Вот сейчас правильные люди найдут правильные ответы… Впереди ждала неизвестная жизнь, она всех привлекала. Казалось, что царство свободы уже на пороге…
Но жизнь становилась все хуже. Скоро, кроме книг, ничего уже нельзя было купить. Одни книги на прилавках…
Елена Юрьевна:
Девятнадцатого августа девяносто первого… Приезжаю в райком. Иду по коридору и слышу: во всех кабинетах, на всех этажах включено радио. Секретарша передает просьбу «первого» зайти к нему. Захожу. У «первого» громко работает телевизор, сам он, мрачный, сидит возле приемника, ловит то «Свободу», то «Немецкую волну»… «Би-би-си»… Все, что доступно. На столе список членов Государственного комитета по чрезвычайному положению… ГКЧП… как его потом назовут. «Один Варенников, – говорит он мне, – внушает уважение. Все-таки боевой генерал. Воевал в Афганистане». Заходят второй секретарь… заведующий орготделом… Начинается у нас разговор: «Какой ужас! Будет кровь. Зальемся кровью». – «Всех не зальют, а зальют кого надо». – «Давно пора спасать Советский Союз». – «Навалят горы трупов». – «Ну все, Горбач допрыгался. Наконец-то нормальные люди, генералы, придут к власти. Бардак кончится». «Первый» объявил, что утреннюю планерку решил не проводить – о чем докладывать? Никаких указаний не поступило. При нас он позвонил в милицию: «Что у вас слышно?» – «Ничего». Еще поговорили о Горбачеве – то ли болен, то ли арестован. Все больше склонялись к третьему варианту – удрал с семьей в Америку. А куда же еще?
Так весь день и просидели у телевизоров и телефонов. Тревожно: чья там, наверху, возьмет? Ждали. Я вам честно скажу, ждали. Все это немного напоминало свержение Хрущева. Мемуаров-то уже начитались… Разговоры, разумеется, об одном… Какая свобода? Свобода нашему человеку – как мартышке очки. Никто не знает, что с ней делать. Все ларечки эти, базарчики… ну не лежит к ним душа. Я вспомнила, как пару дней назад встретила своего бывшего водителя. Такая история… К нам в райком парень попал сразу после армии. По какому-то крупному блату. Был страшно доволен. Но начались перемены, разрешили кооперативы, и он от нас ушел. Занялся бизнесом. Я с трудом его узнала: стриженный наголо, кожаная куртка, спортивный костюм. Это у них, как я поняла, униформа такая. Похвастался, что за один день зарабатывает больше, чем первый секретарь райкома партии за месяц. Бизнес беспроигрышный – джинсы. Арендовали с другом обычную прачечную и там делают «варенки». Технология простая (голь на выдумки хитра): обыкновенные, банальные джинсы бросают в раствор отбеливателя или хлорки, добавляют туда битый кирпич. Пару часов «варят» – на брюках полосы, разводы, рисунки… Абстракционизм! Просушивают и приклеивают лейбл «Монтана». Меня сразу осенило: если ничего не изменится, они, эти продавцы джинсов, будут скоро нами командовать. Нэпманы! И накормят всех, и оденут, как это ни смешно. В подвалах заводы построят… Так оно и вышло. Вот! Теперь этот парень – миллионер или миллиардер (для меня миллион и миллиард одинаково сумасшедшая сумма), депутат Госдумы. Один дом на Канарах… второй – в Лондоне… При царе в Лондоне жили Герцен и Огарев, теперь они… наши «новые русские»… Джинсовые, мебельные, шоколадные короли. Нефтяные.
В девять вечера «первый» еще раз собрал всех у себя. Докладывал начальник районного КГБ. Рассказал о настроениях среди людей. По его словам, народ поддерживал ГКЧП. Не возмущался. Горбачев всем надоел… Талоны на все, кроме соли… водки нет… Ребята из КГБ побегали по городу и записали разговоры. Перепалки в очередях: «Переворот! Что будет со страной?» – «А что у тебя-то перевернулось? Кровать на месте стоит. Водка – та же». – «Вот и кончилась свобода». – «Ага! Свобода по ликвидации колбасы». – «Кому-то захотелось жвачки. “Мальборо” курить». – «Давно пора! Страна на грани краха!» – «Иудушка Горбачев! Хотел продать Родину за доллары». – «Кровушка потечет…» – «А без крови у нас нельзя…» – «Чтобы спасти страну… партию… нужны джинсы. Красивое женское белье и колбаса, а не танки». – «Хорошей жизни захотели? Хрен вам! Забудьте!» (Молчит.)
Одним словом, народ ждал… как и мы… В партбиблиотеке детективов к концу дня уже не было, все разобрали. (Смеется.) Ленина бы нам всем читать, а не детективы. Ленина и Маркса. Наших апостолов.
Запомнила пресс-конференцию ГКЧП… У Янаева дрожали руки. Стоял и оправдывался: «Горбачев заслуживает всяческого уважения… он – мой друг…» Глаза бегают… испуганные глаза… У меня упало сердце. Не те это люди, которые бы могли… которых ждали… Пигмеи… обыкновенные партаппаратчики… Спасать страну! Спасать коммунизм! Некому спасать… На экране: московские улицы – море людей. Море! На поездах, пригородных электричках народ рванул в Москву. Ельцин на танке. Раздает листовки… «Ельцина! Ельцина!» – скандирует толпа. Триумф! (Теребит нервно край скатерти.) Скатерть вот… китайская… Весь мир заполнен китайскими товарами. Китай – страна, где ГКЧП победил… А где мы? Страна третьего мира. Где те, кто кричал: «Ельцин! Ельцин!»? Они думали, что будут жить как в Америке и Германии, а живут – как в Колумбии. Мы проиграли… проиграли страну… А нас, коммунистов, в то время насчитывалось пятнадцать миллионов! Партия могла… ее предали… На пятнадцать миллионов не нашлось ни одного лидера. Ни одного! А на той стороне лидер был. Был – Ельцин! Бездарно все проиграли! Полстраны ждало, что мы победим. Одной страны уже не было. Уже было – две.
Те, кто называл себя коммунистами, вдруг стали признаваться, что они ненавидели коммунизм с пеленок. Сдавали свои партбилеты… Одни приносили и оставляли партбилеты молча, другие хлопали дверью. Подбрасывали ночью к зданию райкома… Как воры. Проститесь с коммунизмом честно. Нет – тайком. Утром дворники ходили и собирали по двору – партбилеты, комсомольские удостоверения – и приносили нам. Приносили в пакетах, в больших целлофановых мешках… Что с этим делать? Куда сдавать? Команды нет. Сверху – никаких сигналов. Мертвая тишина. (Задумалась.) Такое это было время… люди начали менять все… Абсолютно все. Вчистую. Одни уезжали – меняли родину. Другие меняли убеждения и принципы. Третьи меняли вещи в доме, вещи меняли повально. Старое советское выбрасывали, покупали все импортное… «Челноки» тут же всего навезли: чайники, телефоны, мебель… холодильники… Откуда-то всего появилось навалом. «У меня стиральная машина “Бош”». – «А я купил телевизор “Сименс”». В каждом разговоре звучало: «Панасоник», «Сони»… «Филипс»… Встретила соседку: «Стыдно радоваться немецкой кофемолке… А я счастлива!» Она же только… вот только… ночь стояла в очереди за томиком Ахматовой, теперь с ума сходит от кофемолки. От какой-то ерунды… И с партбилетом расставались – как с ненужной вещью. Трудно было поверить… Но за несколько дней все поменялось. Царская Россия, как читаешь в мемуарах, слиняла за три дня, и коммунизм тоже. За пару дней. В голове не укладывалось… Находились, правда, и такие, кто прятал свои красные книжечки, приберегал на всякий случай. Недавно в одной семье мне достали с антресолей бюст Ленина. Хранят… вдруг еще пригодится… Вернутся коммунисты, они первые нацепят алый бант. (Молчит долго.) У меня на столе лежали сотни заявлений о выходе из партии… Все это в скором времени сгребли и вынесли как мусор. Сгнило на свалке. (Что-то ищет в папках на столе.) Я пару листочков сохранила… Когда-нибудь их попросят у меня для музея. Будут искать… (Зачитывает.)
«…Я была преданной комсомолкой… с искренним сердцем вступила в партию. Теперь хочу сказать, что партия больше не имеет никакой власти надо мной…»
«…Время ввело меня в заблуждение… Я верила в Великую Октябрьскую революцию. Прочитав Солженицына, я поняла, что “прекрасные идеалы коммунизма” все в крови. Это обман…»
«…Меня заставил вступить в партию страх… Ленинские большевики расстреляли моего дедушку, а сталинские коммунисты уничтожили в мордовских лагерях моих родителей…»
«…От своего имени и от имени моего покойного мужа заявляю о своем выходе из партии…»
Это надо было пережить… не сдохнуть от ужаса… В райкоме стояли очереди, как в магазине. Очереди желающих вернуть партбилеты. Ко мне пробилась простая женщина. Доярка. Она плакала: «Что мне делать? Как поступить? В газетах пишут, что партбилеты надо выбрасывать». Оправдывалась она тем, что у нее трое детей, она за них боится. Кто-то распускал слухи, что коммунистов будут судить. Высылать. Уже ремонтируют в Сибири старые бараки… в милицию поступили наручники… кто-то видел, как их сгружали из грузовиков, крытых брезентом. Жуткие вещи, да! Но я запомнила и настоящих коммунистов. Преданных идее. Молодого учителя… Незадолго до ГКЧП его приняли в партию, но билет не успели вручить, он просил: «Вас скоро опечатают. Выпишите мне сейчас партбилет, а то я его никогда не получу». В этот момент люди особенно ярко проявлялись. Пришел фронтовик… Весь в боевых орденах. Иконостас на груди! Вернул он партбилет, который ему вручили на фронте, со словами: «Не хочу быть в одной партии с этим предателем Горбачевым!» Ярко… ярко… люди показывали себя. И чужие, и знакомые. И даже родственники. Раньше встретят: «Ах, Елена Юрьевна!», «Как ваше здоровье, Елена Юрьевна?». А тут увидят издали и переходят на другую сторону улицы, чтобы не поздороваться. Директор лучшей школы в районе… Незадолго до всех этих событий мы проводили у него в школе научную партконференцию по книгам Брежнева «Малая земля» и «Возрождение». Тогда он выступил с блестящим докладом о руководящей роли коммунистической партии в годы Великой Отечественной войны… и лично товарища Брежнева… Я ему вручила грамоту райкома партии. Верный коммунист! Ленинец! Бог мой! Месяца не прошло… Встретил меня на улице и начал оскорблять: «Кончилось ваше время! За все ответите! Первым делом – за Сталина!». Я задохнулась от обиды… Это он – мне! Мне? Мне, у которой отец в лагере сидел… (Несколько минут успокаивается.) Сталина я никогда не любила. Отец простил, а я нет. Я не простила… (Молчит.) Реабилитацию «политических» начали после Двадцатого съезда. После доклада Хрущева… А это… А это уже было при Горбачеве… Меня назначили председателем районной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Я знаю, что сначала предлагали другим: нашему прокурору и второму секретарю райком партии. Отказались. Почему? Может, побоялись. У нас до сих пор боятся всего, что связано с КГБ. А я ни минуты не колебалась – да, я согласна. У меня отец пострадал. Чего мне бояться? Первый раз повели куда-то в подвал… Десятки тысяч папок… Одно «дело» – два листка, а другое – том. Как в тридцать седьмом году был план… разверстка… по «выявлению и выкорчевке врагов народа», так в восьмидесятые годы по районам и областям спускали цифры по реабилитации. План надо было выполнить и перевыполнить. Стиль сталинский: совещания, накачки, выговоры. Давай-давай… (Качает головой.) Ночами сидела и читала, переворачивала тома. Честно… честно скажу… Волосы становились дыбом… Брат писал на брата, сосед на соседа… Поругались из-за огорода, из-за комнаты в коммуналке. Спел на свадьбе частушку: «Спасибо Сталину-грузину, что обул нас всех в резину». Этого было достаточно. С одной стороны, система кромсала человека, а с другой – люди не жалели друг друга. Человек был готов…
Обычная коммуналка… Живут вместе пять семей – двадцать семь человек. Одна кухня и один сортир. Две соседки дружат: у одной девочке пять лет, а вторая – одинокая. В коммуналках, обычное дело, следили друг за другом. Подслушивали. Те, у кого комната десять метров, завидовали тем, у кого она двадцать пять метров. Жизнь… она такая… И вот ночью приезжает «черный ворон»… Женщину, у которой маленькая девочка, арестовывают. Перед тем, как ее увели, она успела крикнуть подруге: «Если не вернусь, возьми мою дочку к себе. Не отдавай в детдом». И та забрала ребенка. Переписали ей вторую комнату… Девочка стала звать ее мамой… «мамой Аней»… Прошло семнадцать лет… Через семнадцать лет вернулась настоящая мама. Она целовала руки и ноги своей подруге. Сказки обычно кончаются на этом месте, а в жизни была другая концовка. Без хеппи-энда. При Горбачеве, когда открыли архивы, у бывшей лагерницы спросили: «Вы хотите посмотреть свое дело?» – «Хочу». Взяла она свою папку… открыла… Сверху лежал донос… знакомый почерк… Соседка… «мама Аня»… написала донос… Вы что-нибудь понимаете? Я – нет. И та женщина – она тоже не смогла понять. Пришла домой и повесилась. (Молчит.) Я – атеистка. У меня к Богу много вопросов… Я помню… Я вспоминаю папины слова: «Лагерь пережить можно, а людей нет». Еще он говорил: «Умри ты сегодня, а я завтра, – эти слова я не в лагере первый раз услышал, а от нашего соседа. От Карпуши…». Карпуша всю жизнь ругался с родителями из-за наших кур, которые ходили по его грядкам. Бегал под нашими окнами с охотничьим ружьем… (Молчит.)
Двадцать третьего августа… Арестовали членов ГКЧП. Застрелился министр внутренних дел Пуго… перед этим он застрелил свою жену… Люди радовались: «Пуго застрелился!». Повесился в своем кремлевском кабинете маршал Ахромеев. Еще было несколько странных смертей… Управляющий делами ЦК Николай Кручина выпал из окна пятого этажа… Самоубийства или убийства? Гадают до сих пор… (Молчит.) Как жить? Как выйти на улицу? Вот просто выйти на улицу и кого-нибудь встретить. Я тогда… Уже несколько лет я жила одна. Дочь вышла замуж за офицера, уехала во Владивосток. Муж умер от рака. Вечером возвращалась в пустую квартиру. Я не слабый человек… Но мысли всякие… страшные… они появлялись… Честно скажу… Были, да… (Молчит.) Еще какое-то время мы ходили на работу в райком. Закрывались там в своих кабинетах. Смотрели новости по телевизору. Ждали. На что-то надеялись. Где наша партия? Наша непобедимая ленинская партия! Мир рухнул… Звонок из одного колхоза: мужики с косами и вилами, с охотничьими ружьями – у кого что было, собрались возле конторы защищать советскую власть. «Первый» приказал: «Отправьте людей по домам». Испугались… мы все испугались… А люди были настроены решительно. Я несколько таких фактов знаю. А мы испугались…
И вот… этот день… Позвонили из райисполкома: «Мы обязаны опечатать ваши кабинеты. У вас два часа, чтобы собрать свои вещи». (Не может от волнения говорить.) Два часа… два… Кабинеты опечатывала специальная комиссия… Демократы! Какой-то слесарь, молодой журналист, мать пятерых детей… Я ее уже знала по митингам. По письмам в райком… в нашу газету… Жила она с большой семьей в бараке. Везде выступала и требовала квартиру. Проклинала коммунистов. Я запомнила ее лицо… Она в этот момент торжествовала… Когда они пришли к «первому», он запустил в них стулом. У меня в кабинете одна из членов комиссии подошла к окну и демонстративно разорвала штору. Чтобы я домой ее не забрала, что ли? Бог мой! Заставили открыть сумочку… Через несколько лет я встретила на улице эту мать пятерых детей. Даже имя ее сейчас вспомнила – Галина Авдей. Я ее спросила: «Получили вы квартиру?». Она погрозила кулаком в сторону здания областной администрации: «И эти подлецы меня обманули». Дальше… Дальше – что? На выходе из здания райкома нас ждала толпа: «Коммунистов – под суд! Теперь их – в Сибирь!», «Взять бы сейчас пулеметы и пройтись по окнам». Оборачиваюсь – за спиной у меня два подвыпивших мужика – это они… про пулемет… Отвечаю: «Только учтите, я буду отстреливаться». Рядом стоял милиционер и делал вид, что он ничего не слышит. Знакомый милиционер.
Все время было чувство… как будто слышу за спиной: у-у-у… Не я одна так жила… В школе к дочке нашего инструктора подошли две девочки из ее класса: «Мы с тобой дружить не будем. Твой папа в райкоме партии работал». – «Мой папа хороший». – «Хороший папа не мог там работать. Мы вчера на митинге были…» Пятый класс… дети… Уже они – гавроши, готовы подносить патроны. Инфаркт у «первого». Он умер в машине «скорой помощи», до больницы не довезли. Я думала, что, как раньше, будет много венков, оркестр, а тут – никого и ничего. Шли за гробом несколько человек… группа товарищей… Его жена заказала, чтобы на памятнике выбили серп и молот и первые строчки советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных…». Над ней смеялись. Я все время слышала этот шепот: у-у-у… Думала, что сойду с ума… Незнакомая женщина в магазине: «Ну что, коммуняки, просрали страну!» – мне в лицо.
Что спасало? Спасали звонки… Звонок от подруги: «Если сошлют в Сибирь, ты не бойся. Там красиво». (Смеется.) Была она там в турпоездке. Ей понравилось. Звонок от двоюродной сестры из Киева: «Приезжай к нам. Я дам тебе ключи. Сможешь спрятаться у нас на даче. Тебя там никто не найдет». – «Я – не преступница. Не буду прятаться». Родители звонили каждый день: «Что ты делаешь?» – «Консервирую огурцы». Целыми днями банки кипятила. Закручивала. Не читала газеты и не смотрела телевизор. Читала детективы, одну книжку заканчивала и тут же начинала другую. Телевизор внушал ужас. Газеты тоже.
Долго не могла устроиться на работу… Все считали, что мы разделили деньги партии, и у каждого из нас – кусок нефтяной трубы или, на худой конец, маленькая автозаправка. Нет у меня ни автозаправки, ни магазинчика, ни киоска. Их теперь «комками» называют. «Комки», «челноки»… Великий русский язык не узнать: ваучер, валютный коридор… транш МВФ… На иностранном языке разговариваем. Я вернулась в школу. Перечитываю с учениками любимого Толстого и Чехова. Как у других? Судьбы у моих товарищей сложились по-разному… Один наш инструктор покончил самоубийством… У завпарткабинетом было нервное расстройство, лежал долго в больнице. Кто-то стал бизнесменом… Второй секретарь – директор кинотеатра. А один инструктор райкома – священник. Я с ним встречалась. Разговаривала. Живет человек вторую жизнь. Позавидовала ему. Вспомнилось… Я была в художественной галерее… На одной картине, помню, много-много света – и женщина стоит на мосту. Смотрит куда-то вдаль… много-много света… Не хотелось от этой картины уходить. Уйду – и опять вернусь, меня к ней тянет. У меня тоже могла быть другая жизнь. Не знаю только – какая?
Анна Ильинична:
– Я проснулась от гула… Открываю окно… По Москве! По столице ползут танки и бэтээры. Радио! Скорее включить радио! По радио передавали обращение к советскому народу: «Над Родиной нависла смертельная опасность… Страна погружается в пучину насилия и беззакония… Очистим улицы от преступных элементов… Положим конец смутному времени…». Было непонятно – то ли Горбачев ушел в отставку по состоянию здоровья, то ли его арестовали. Звоню мужу, он на даче. «В стране государственный переворот. Власть в руках…» – «Дура! Положи трубку, тебя сейчас заберут». Включаю телевизор. По всем каналам – балет «Лебединое озеро». А у меня перед глазами другие кадры, все мы дети советской пропаганды: Сантьяго в Чили… горит президентский дворец… Голос Сальвадора Альенде… Начались телефонные звонки: в городе полно военной техники, танки стоят на Пушкинской площади, на Театральной… У нас в это время гостила свекровь, она страшно испугалась: «Не выходи на улицу. Я жила при диктатуре, я знаю, что это такое». А я не хочу жить при диктатуре!
После обеда муж вернулся с дачи. Сидели на кухне. Много курили. Боялись прослушки телефона… положили на телефон подушку… (Смеется.) Начитались диссидентской литературы. Наслушались. Теперь вот оно пригодилось… Дали немного подышать, а сейчас все захлопнется. Загонят назад в клетку, вмажут нас снова в асфальт… будем, как бабочки в цементе… Вспоминали недавние события на площади Тяньаньмэнь, как саперными лопатками в Тбилиси разгоняли демонстрацию. Штурм телецентра в Вильнюсе… «Пока мы читали Шаламова и Платонова, – сказал муж, – началась гражданская война. Раньше спорили на кухнях, ходили на митинги, а теперь будем стрелять друг в друга». Настроение было такое… что-то катастрофическое близко… Радио ни на минуту не выключали, крутили-крутили – везде передавали музыку, классическую музыку. И вдруг – чудо! Заработало «Радио России»: «отстранен от власти законно избранный Президент… Совершена циничная попытка переворота…». Так мы узнали, что тысячи людей уже вышли на улицу. Горбачев в опасности… Идти или не идти – это даже не обсуждалось. Идти! Свекровь сначала меня отговаривала: подумай, мол, о ребенке, ты сумасшедшая, куда ты попрешься? Я молчала. Ну она видит, что мы собираемся: «Раз вы такие идиоты, то возьмите с собой хотя бы содовый раствор, будете смачивать марлю и прикладывать к лицу в случае газовой атаки». Я приготовила трехлитровую банку этого раствора, порвала одну простыню на куски. Еще мы взяли с собой все, что у нас было из еды, я выгребла из буфета все консервы.
Много людей, как и мы, шли к метро… А кто-то стоял в очереди за мороженым… Покупал цветы. Проходим мимо веселой компании… Ловлю слова: «Если завтра из-за танков не попаду на концерт, то я им этого никогда не прощу». Бежит навстречу мужчина в трусах и с авоськой, а в авоське – пустые бутылки. Поравнялся с нами: «Улицу Строительную – не подскажете?». Я показала ему, где надо свернуть направо, и дальше – прямо. Он: мол, спасибо. Ему все до фени, лишь бы бутылки сдать. А что, в 1917 году было иначе? Одни стреляли, а другие на балах танцевали. Ленин на броневике…
Елена Юрьевна:
– Фарс! Разыграли фарс! Победил бы ГКЧП, сегодня жили бы в другой стране. Если бы Горбачев не струсил… Не выдавали бы зарплату шинами и куклами. Шампунем. Выпускает завод гвозди – гвоздями. Мыло – мылом. Всем говорю: посмотрите на китайцев… У них свой путь. Ни от кого не зависят, никому не подражают. И весь мир сегодня боится китайцев… (Опять ко мне с вопросом.) Я уверена – мои слова вы вычеркнете.
Я обещаю – рассказа будет два. Хочу остаться хладнокровным историком, а не историком с зажженным факелом. Пусть судьей будет время. Время справедливо, но дальнее время, а не близкое. Время, которое уже будет без нас. Без наших пристрастий.
Анна Ильинична:
– Можно над этими днями посмеяться, назвать опереттой. Стеб в моде. А тогда все происходило всерьез. Честно. Все было настоящее, и все мы были настоящими. Безоружные люди стояли перед танками и готовы были умереть. Я сидела на этих баррикадах и видела этих людей, они приехали со всей страны. Какие-то старушки московские, божьи одуванчики, котлетки приносили, теплую картошку, завернутую в полотенце. Подкармливали всех… И танкистов тоже: «Ешьте, мальчики. Только не стреляйте. Неужели будете?». Солдаты ничего не понимали… Когда они открыли люки и вылезли из танков, они обалдели. На улицах – вся Москва! Девчонки взбирались к ним на броню, обнимали, целовали. Угощали булочками. Солдатские матери, у которых сыновья погибли в Афганистане, плакали: «Наши дети погибли на чужой земле, а вы что – приехали на своей земле умирать?». Какой-то майор… Когда его окружили женщины, у него сдали нервы, он кричал: «Да я сам отец. Я не буду стрелять! Клянусь вам – не буду! Против народа – не пойдем!». Там была масса смешных вещей и трогательных до слез. Вдруг крики в толпе: «Есть ли у кого-нибудь валидол, человеку здесь плохо». Тут же нашелся валидол. Стояла женщина с ребенком в коляске (видела бы это моя свекровь!), она достала пеленку, чтобы нарисовать на ней красный крест. Чем? «У кого есть помада?» Ей стали бросать дешевую помаду и «ланкомовскую»… «Кристиан Диор»… «Шанель»… Никто это не снял, не запечатлел в подробностях. Жаль. Очень. Стройность события, его красивость… они появляются потом, вот эти знамена и музыка… и все отливается в бронзу… А в жизни все раздроблено, грязно и лилово: люди сидели всю ночь у костра прямо на земле. На газетах и листовках. Голодные, злые. Матерились и выпивали, но пьяных не было. Кто-то привозил колбасу, сыр, хлеб. Кофе. Говорили, что это кооператоры… бизнесмены… Один раз я даже видела несколько банок красной икры. Икра исчезла у кого-то в кармане. Сигареты раздавали тоже бесплатно. Рядом со мной сидел парень в зековских наколках. Тигр! Рокеры, панки, студенты с гитарами. И профессора. Все были вместе. Народ! Это был мой народ! Я встретила там своих друзей из института, которых не видела лет так пятнадцать, если не больше. Кто-то жил в Вологде… кто-то в Ярославле… Но они сели в поезд и приехали в Москву! Защищать что-то важное для всех нас. Утром мы забрали их к себе домой. Помылись, позавтракали и вернулись назад. На выходе из метро каждому уже давали кусок арматуры или камень. «Булыжник – оружие пролетариата», – смеялись мы. Строили баррикады. Переворачивали троллейбусы, пилили деревья.
Уже стояла трибуна. Над трибуной повесили плакаты: «Хунте – нет!», «Народ – не грязь под ногами». Выступавшие говорили в мегафон. Начинали они свои выступления нормальными словами – и простые люди, и известные политики. Через пару минут нормальных слов уже никому не хватало, и тогда начинали крыть матом. «Да мы этих мудаков…» И мат! Хороший русский мат! «Кончилось их время…» И – великий, могучий русский язык! Мат как боевой клич. И это было понятно всем. Соответствовало моменту. Минуты такого подъема! Такой силы! Старых слов не хватало, а новые еще не родились… Все время ждали штурма. Тишина, особенно ночью, стояла невероятная. Все жутко напряжены. Тысячи людей – и тишина. Помню запах бензина, разливаемого в бутылки. Это был запах войны…
Там стояли хорошие! Там стояли отличные люди! Сейчас много про водку пишут и наркотики. Мол, какая это революция? Пьяные и наркоманы пошли на баррикады. Вранье! Все честно пришли умирать. Мы знали, что эта машина перемалывала людей в песок семьдесят лет… никто не думал, что она так легко сломается… Без большой крови… Слухи: мост заминировали, скоро пустят газ. Кто-то из студентов медицинского института объясняет, как вести себя при газовой атаке. Обстановка менялась каждые полчаса. Страшная новость: трое ребят погибли под танком… Но никто не дрогнул, не ушел с площади. Так важно это для твоей жизни, как бы потом все ни сложилось. Сколько бы ни было разочарований. Но это мы пережили… Мы такие – были! (Плачет.) Под утро над площадью: «Ур-ра! Ура!». Снова мат… слезы… крики… По цепочке передали: армия перешла на сторону народа, спецназовцы из отряда «Альфа» отказались участвовать в штурме. Танки уходят из столицы… А когда объявили, что путчистов арестовали, люди бросились обнимать друг друга – это было такое счастье! Наша взяла! Мы отстояли свою свободу. Вместе мы это смогли! Значит, можем! Грязные, промокшие под дождем, долго еще не хотели расходиться по домам. Записывали адреса друг друга. Клялись помнить. Дружить. Милиционеры в метро были очень вежливыми, никогда ни до того, ни после того, я не видела таких вежливых милиционеров.
Мы победили… Горбачев вернулся из Фороса в совершенно другую страну. Люди ходили по городу и улыбались друг другу. Мы победили! Долго меня не покидало это чувство… Я ходила и вспоминала… перед глазами сцены… Как кто-то крикнул: «Танки! Танки идут!». Все взялись за руки и встали в оцепление. Часа два или три ночи. Мужчина рядом со мной достал пачку печенья: «Хотите печенья?» – и все берут у него это печенье. Почему-то хохочем. Хочется печенья… хочется жить! Но я… до сих пор… Я счастлива, что там была. С мужем, с друзьями. Тогда все были еще очень искренние. Жаль нас тех… что мы уже не такие… Особенно раньше было жаль.
Прощаясь, спрашиваю у них: как им удалось сохранить свою, как я узнала, еще университетскую дружбу?
– У нас уговор – не затрагивать эти темы. Не делать друг другу больно. А когда-то мы спорили, рвали отношения. Годами не разговаривали друг с другом. Но это прошло.
– Теперь говорим только о детях и внуках. Что у кого на даче растет.
– Соберутся наши друзья… Тоже ни слова о политике. Каждый своим путем пришел к этому. Живем вместе: господа и товарищи. «Белые» и «красные». Но никто уже не хочет стрелять. Хватит крови.
О братьях и сестрах, палачах и жертвах… и электорате
Александр Порфирьевич Шарпило – пенсионер, 63 года
Из рассказа соседки Марины Тихоновны Исайчик
– Чужие люди, что вам надо? Ходят и ходят. Ну… смерть без причины не бывает, причина всегда есть. Смерть найдет причину.
Горел человек на своей грядке с огурцами… Облил голову ацетоном и поджег спичкой. Сижу, телевизор включила, слышу – крики. Старый голос… знакомый… Сашкин, вроде, голос, и какой-то молодой. Шел мимо студент, техникум у нас тут рядом, и видит – человек горит. Ну что ты скажешь! Прибежал, стал тушить. Сам обгорел. Когда я прилетела, Сашка уже на земле лежал, стонал… голова желтая… Чужие люди, ну что вам… Что вам чужая беда?
Всем на смерть посмотреть охота. О-ой! В общем… в общем… В нашей деревне, где я в девках у родителей жила, был старик, он любил приходить и смотреть, как умирают. Бабы стыдили, гнали его из хаты: «Уходи, черт!», а он сидит. Жил долго. Может, и вправду черт! Что смотреть? Куда… в какую сторону? После смерти ничего нет. Умер – и все, закопали. А живой, пусть и несчастливый, и по ветрику походит, и по садику. А когда дух вышел, нет человека, есть земля. Дух – это дух, а все остальное – земля. Земля – и все. Один в колыбели умирает, другой до седины живет. Счастливые люди не хотят умирать… и те… те, кого любят, тоже не хотят. Отпрашиваются. А где они, счастливые люди? По радио когда-то говорили, что после войны все счастливые будем, и Хрущев, помню, обещал… что скоро коммунизм наступит. Горбачев клялся, так красиво говорил… Складно. Теперь Ельцин клянется, на рельсы грозился лечь… Ждала и ждала я хорошей жизни. Маленькая ждала… и когда подросла… Теперь уже старая… Если короче, все обманули, жизнь еще хуже стала. Подожди-потерпи, да подожди-потерпи. Подожди-потерпи… Муж помер. Вышел на улицу, упал и все – отказало сердце. Ни метром не перемерить, ни на весах не перевесить, сколько мы всего пережили. А вот – живу. Живу. Дети разъехались: сын – в Новосибирске, а дочь в Риге с семьей осталась, теперь, считай, за границей. На чужбине. Там уже по-русски не говорят.
Иконка в углу у меня, и песика держу, чтобы было с кем поговорить. Одна головешка и в ночи не горит, а я стараюсь. Во-о-о… Хорошо, что Бог дал человеку и собаку, и кошку… и дерево, и птицу… Дал для того Он это все, чтобы человек радовался и жизнь не показалась ему длинной. Не надокучила. А мне одно, что не надоело – глядеть, как пшеница желтеет. Наголодалась я за свою жизнь так, что больше всего люблю, как хлеба спеют, колосья колышутся. Мне это – как вам картина в музее… И сейчас не гонюсь за белой булкой, а вкуснее всего черный посоленный хлеб со сладким чаем. Подожди-потерпи… да подожди-потерпи… От всякой боли одно у нас средство – терпение. Так и жизнь прошла. Вот и Сашка… наш Порфирьич… Терпел, терпел, да не вытерпел. Притомился человек. Это телу в земле лежать, а душе на ответ идти. (Вытирает слезы.) Во как! Тут плачем… и когда уходим, тоже плачем…
Опять люди стали в Бога верить, так как нет другой надежды. А когда-то мы в школе учили, что Ленин – бог, и Карл Маркс – бог. Зерно в храмы ссыпали, бураки свозили. Так было, пока война не началась. Началась война… Сталин церкви открыл, чтобы молитвы правили за победу русского оружия, и обратился к народу: «Братья и сестры… друзья мои…». А до того – кто мы были? Враги народа… кулаки и подкулачники… У нас в деревне все крепкие семьи раскулачили, если два коня и две коровы во дворе – это уже кулаки. В Сибирь их вывозили, бросали там в голый таежный лес… Бабы удавливали своих детей, чтобы те не мучились. Ой, горя… слез человеческих… было больше, чем на земле воды. А тут Сталин попросил: «Братья и сестры…». Поверили ему. Простили. И Гитлера победили! А Гитлер в броне к нам пришел… в железе… Все равно победили! А теперь – кто я? Мы? Электорат… Я телевизор смотрю. Новости не пропускаю… Теперь мы – электорат. Наше дело – пойти проголосовать правильно – и баста. Я раз болела, не пошла на участок, так они сами ко мне приехали на машине. С красным ящичком. В этот день про нас вспоминают… Та-а-ак…
Как живем, так и умираем… Я и в церковь хожу, и крестик ношу, а счастья как не было, так и нет. Не собрала я счастья. И уже не допросишься. Скорей бы умереть… Скорей бы царствие небесное, надоело терпеть. Так и Сашка… Лежит теперь на кладбище… отдыхает… (Перекрестилась.) С музыкой похоронили, со слезами. Все плакали. В этот день много плачут. Жалеют. А чего каяться? После смерти кто услышит? Осталось: две комнатки в бараке, одна грядка, красные грамоты и медаль «Победитель социалистического соревнования». У меня такая же медалька в шкафу лежит. И стахановкой была, и депутатом. Покушать не всегда хватало, а красную грамоту дадут. Сфотографируют. Нас тут три семьи в этом бараке. Поселились молодыми, думали – на год-два, а прожили всю жизнь. В бараке и умрем. Кто двадцать, кто тридцать лет… стояли в очереди на квартиру, ждали… Теперь объявился Гайдар и смеется: идите – покупайте. За какие шиши? Деньги наши пропали… одна реформа, вторая… обобрали нас! Такую страну спустили в унитаз! У каждой семьи – две комнатки, сарайчик и грядка. Одинаковые мы. Во заработали! Разбогатели! Всю жизнь верили, что когда-нибудь будем хорошо жить. Обман! Великий обман! А жизнь… лучше и не вспоминать… Терпели, работали и страдали. А теперь уже не живем, а дни провожаем.
Мы с Сашкой из одной деревни… Тут… под Брестом… Бывало сядем с ним вечером на лавочке и вспоминаем. А про что еще говорить? Хороший он был человек. Не пил, не пьяница… не-е-е… хотя один жил. Что делать одинокому мужчине? Выпил – поспал… выпил… Хожу по двору. Топчусь. Хожу и думаю: земная жизнь – не всему конец. Смерть – душе простор… Где он там? Напоследок о соседях подумал. Не забыл. Барак старый, сразу после войны построили, дерево высохло и, как бумага, загорелось бы, запылало. В один момент! В секунду! Сгорели бы до травы… до песка… Написал записку детям: «Воспитывайте внуков. Прощайте» – и положил на видное место. Пошел в огород… на свою грядку…
Ой-ой! В общем… в общем… Приехала «скорая», на носилки его кладут, а он сгоряча встает, хочет сам идти. «Ты что, Сашка, сотворил?» – провожала я его до самой машины. – «Устал жить. Сыну позвони, пускай в больницу приедет». Он еще со мной разговаривал… Пиджак обгоревший, а плечо белое, чистое. Пять тысяч рублей оставил… Когда-то большие деньги! Снял со сберкнижки и на стол положил рядом с запиской. Всю жизнь собирал. До перестройки за такие деньги можно было купить машину «Волгу». Самую дорогую! А сейчас? Хватило на новые ботинки и венок. Во как! Лежал на носилках и чернел… Чернел на моих глазах… Забрали врачи и того парня, который его спасал, хватал с веревки мокрые мои простыни (я днем постирала) и бросал на него. Чужой парень… студент… проходил мимо и видит – человек горит! Сидит на грядке, сгорбился и горит. Коптит. Молчит! Так потом он нам и рассказывал: «Молчит и горит». Живой человек… Утром сын ко мне постучался в дверь: «Папа умер». В гробу лежал… голова вся сожженная и руки… Черный… черный… Руки у него были золотые! Все умел. И за столяра, и за каменщика. Тут у каждого о нем память осталась – у кого стол, у кого книжные полки… этажерочки… До ночи, бывало, стоит во дворе и строгает, как сейчас вижу – стоит и строгает. Любил дерево. Узнавал дерево по запаху, по стружке. Каждое дерево, говорил, по-своему пахнет, самый крепкий запах у сосны: «Сосна – как хороший чай пахнет, а у клена веселый запах». До последнего дня работал. Справедливая поговорка: пока цепь в руках, так и хлеб в зубах. На пенсию никак сейчас не прожить. Я сама в няньки нанялась, чужих детей нянчу. Копейку дадут, так и сахарку куплю, и докторской колбаски. А что наша пенсия? Купишь хлеб и молоко, а тапочки на лето уже не купишь. Не хватит. Старики раньше сидели на лавочке во дворе беззаботно. Судачили. А теперь нет… Кто пустые бутылки по городу собирает, кто возле церкви стоит… у людей просит… Кто семечками или сигаретами на автобусной остановке торгует. Талонами на водку. У нас затоптали в винном отделе человека. Насмерть. Водка теперь дороже этого… как его? Ну этого – американского доллара. За водку у нас все купишь. И сантехник придет, и электрик. А так – не дозваться. В общем… в общем… Жизнь прошла… Одно что время ни за какие деньги не купишь. Плачь перед Богом или не плачь, не докупишься. Так задумано.
А Сашка сам не захотел жить. Отказался. Сам вернул Богу билетик… Ой, Бо-о-же! Ездит и ездит теперь милиция. Расспрашивают… (Прислушалась.) Во-о-о… Поезд гудит… Это московский – Брест – Москва. Мне и часов не надо. Встаю, когда варшавский крикнет – в шесть утра. А там минский, первый московский… Утром и ночью они разными голосами кричат. Бывает, всю ночь слушаю. Под старость сон отлетает… С кем мне теперь беседовать? Теперь одна на лавочке сижу… Я его утешала: «Сашка, найди хорошую женщину. Женись». – «Лизка вернется. Буду ждать». Я семь лет ее не видела, как она от него ушла. С офицером каким-то связалась. Молодая… на много лет его моложе была. Любил он ее сильно. Билась о гроб головой: «Это я Сашке жизнь поломала». Ой-ой! В общем… Любовь – не волос, быстро не вырвешь. И крестом любовь не свяжешь. Чего потом плакать? Кто тебя услышит из-под земли… (Молчит.) Ой, Бо-о-же! До сорока лет можно все делать, и грешить можно. А после сорока надо раскаиваться. Тогда Бог простит. (Смеется.) Все пишешь? Ну пиши, пиши. Я еще расскажу… У меня горя не один мешок… (Подняла голову вверх.) В-о-о… Ласточки прилетели… Тепло будет. Правду сказать, ко мне один раз уже приходил корреспондент… Про войну расспрашивал… Я последнее со двора вынесу, только б войны не было. Страшнее войны ничего нету! Под немецкими пулеметами стоим, а наши хаты трещат от огня. Горят и садочки. Ой-ой! С Сашкой мы войну каждый день вспоминали… У него отец пропал без вести, а брат в партизанах погиб. Согнали в Брест пленных – тучи людей! Их гнали по дорогам, как коней, держали в загороди, умирали они и валялись, как мусор. Все лето Сашка ходил и искал там с мамой своего отца… Начнет мне рассказывать… и не может остановиться… Искали они среди мертвых, искали среди живых. Никто уже смерти не боялся, смерть обычная стала вещь. До войны пели: «От тайги и до британских морей / Красная Армия всех сильней…». Гордо мы пели! Весной лед растаял… двинулся… Вся река за нашей деревней была забита трупами: голые, почерневшие, только ремни на поясах блестят. Ремни с красными звездочками. Нет моря без воды, а войны – без крови. Бог дает жизнь, а в войну ее забирает всякий… (Плачет.) Хожу-хожу по двору. Топчусь. И покажется, что Сашка за спиной стоит. И голос его услышу. Оглянусь – никого. В общем… в общем… Что ты, Сашка, сотворил? Такую муку выбрал! Ну, может, одно: на земле горел, так на небе не будет. Отмучился. Где-то же хранятся все наши слезы… Как там его встретят? Калеки по земле ползают, парализованные лежат, немые живут. Не нам решать… не наша воля… (Крестится.)
Вовек я войну не забуду… Немцы вошли в деревню… Молодые, веселые. И такой был гул! Они въехали на больших-больших машинах, и мотоциклы у них были на трех колесах. А я до этого ни разу не видела мотоцикла. Машины в колхозе были полуторки, с деревянными бортами, низенькие машины. А эти! Как дом! Я увидела их коней, не конь, а гора. На школе они написали краской: «Красная армия вас бросила!». Начался немецкий порядок… У нас жило много евреев: Аврам, Янкель, Мордух… Их собрали и повезли в местечко. Они были с подушками, одеялами, а их сразу всех побили. Собрали со всего района и постреляли в один день. Свалили в яму… Тысячи… тысячи людей… Рассказывали, что трое суток кровь шла наверх… Земля дышала… живая была земля… На том месте сейчас парк. Зона отдыха. Из-за гроба нет голоса. Никто не крикнет… Та-а-ак… Я думаю так… (Плачет.)
Не знаю… как оно было? Сами они прибились к ней, или она их в лесу нашла? Соседка наша прятала в сарае двух еврейских хлопчиков, красивых-красивых. Ангелочки! Всех расстреляли, а они спрятались. Убежали. Одному – восемь, а другому – десять лет. И наша мама им молоко носила… «Дети, ни-ни… – просила она нас. – Никому ни слова». А в той семье был старый-старый дед, еще ту войну с немцами помнил… Первую… Он их кормит и плачет: «Ой, детки, словят вас и будут мучить. Смог бы, так лучше бы я сам вас убил». Такие слова… А черт все слышит… (Крестится.) Приехали три немца на черном мотоцикле с большой черной собакой. Кто-то донес… Всегда есть такие люди, у них душа черная. Живут они… как без души… и сердце у них медицинское, а не человеческое. Никого им не жалко. Хлопчики побежали в поле… в жито… Немцы натравили на них собаку… Собирали люди их потом по клочкам… по тряпочке… Нечего было хоронить, и никто не знал, под какой фамилией? Соседку немцы привязали к мотоциклу, она бежала, пока сердце не разорвалось… (Уже и не вытирает слезы.) В войну человек человека боялся. И своего, и чужого. Скажешь днем – птицы услышат, скажешь ночью – мыши услышат. Мама учила нас молитвам. Без Бога тебя и червяк проглотит.
На Девятое мая… в наш праздник… Выпьем с Сашкой по стаканчику… поплачем… Тяжело слезы глотать… В общем… в общем… В десять лет остался он в семье и за отца, и за брата. А мне, когда кончилась война, исполнилось шестнадцать лет. Пошла работать на цементный завод. Надо маме помогать. Таскали мешки с цементом по пятьдесят кило, грузили на бортовую машину песок, щебенку, арматуру. А я хотела учиться… Бороновали и пахали на корове… корова ревела от такой работы… А что ели? Что ели? Желуди толкли, шишки в лесу собирали. Все равно мечтала… Всю войну мечтала: окончу школу, стану учительницей. Последний день войны… Было тепло-тепло… мы с мамой пошли в поле… Прискакал на кавалерийской лошади милиционер: «Победа! Немцы подписали капитуляцию!». Скакал по полям и всем кричал: «Победа! Победа!». Люди бежали в деревню. Кричали, плакали, матерились. Больше всего плакали. А назавтра стали думать: как дальше жить? В хатах – пусто, в сараях – ветер. Кружки, сделанные из банок консервных… банки после немецких солдат остались… Свечи из стреляных гильз. Про соль за войну забыли, ходили, и у всех кости гнулись. Немцы, когда отступали, кабана у нас забрали, последних кур половили. А перед этим партизаны ночью коровку увели… Коровку мама не отдавала, так один партизан выстрелил вверх. В крышу. Сложили в мешок они и швейную машинку, и мамины платья. Партизаны то были или бандиты? С оружием… В общем… в общем… Человек жить всегда хочет, и в войну тоже. В войну много чего узнаешь… Нет зверя хуже человека. Это человек человека убивает, а не пуля. Человек человека… Ми-и-лая ты моя!
Позвала мама гадалку… Гадалка нагадала: «Все будет хорошо». А нам нечего ей дать. Мама нашла два бурака в погребе и была рада. И гадалка рада. Поехала я поступать, как мечтала, в педучилище. Там надо было заполнить анкету… Все я написала и дошла до вопроса: были ли вы или ваши родственники в плену или под оккупацией? Я ответила – да, конечно, были. Директор училища позвал меня в кабинет: «Девочка, забери свои документы». Был он фронтовик, без одной руки. С пустым рукавом. Так я узнала, что мы… все, кто был под оккупацией… неблагонадежные. Под подозрением. Уже никто не говорил нам «братья и сестры»… Через сорок лет только эту анкету отменили. Сорок лет! Жизнь моя кончилась, пока отменили. «А кто нас под немцами оставил?» – «Тихо, девочка, тихо…» – директор закрыл двери, чтобы никто не слышал. «Тихо… тихо…» Как ты судьбу обойдешь? Серпом воду резать… А Сашка поступал в военное училище… Написал в анкете, что семья их была под оккупацией, а отец пропал без вести. Его сразу отчислили… (Молчит.) Ничего, что я вам и про себя, и свою жизнь описываю? Мы все одинаково жили. Чтоб меня только не посадили за этот разговор. Есть еще советская власть или уже совсем она пропала?
За горем и добро забыла… Как молодые мы были и любились. Я на Сашкиной свадьбе гуляла… Любил он Лизку, долго ухаживал. Сох по ней! Белую фату на свадьбу из Минска привез. Внес невесту в барак на руках… Старые наши обычаи… Жених несет невесту на руках, как дитя, чтобы домовой не уследил. Не приметил. Домовой чужих не любит, прогоняет. Он же в доме хозяин, надо ему понравиться. А-а-а… (Махнула рукой.) Теперь уже ни во что не верят. Ни в домового, ни в коммунизм. Живут люди без всякой веры! Ну может, в любовь еще верят… «Горько! Горько!» – кричали мы у Сашки за столом. А как тогда пили? Одна бутылка на весь стол, на десять человек… Теперь на каждого бутылку ставь. Коровку надо продать, чтобы сыну или дочке свадьбу сыграть. Любил он Лизку… Но сердцем не приманишь, так и за уши не притянешь. В общем… в общем… Гуляла она, как кошка. Дети выросли, совсем от него ушла. Не оглянулась. Я ему советовала: «Сашка, найди хорошую женщину. Сопьешься». – «Стаканчик налью. Фигурное катание посмотрю и спать ложусь». Одному спать – и одеяло не греет. И в раю тошно одному. Пил, но не запивал. Не… не запивал, как другие. О! Тут у нас один сосед… он и одеколон «Гвоздика» пьет, и лосьон, и денатурат, и моющие средства… И надо же – живой! Теперь бутылка водки стоит как раньше пальто. А закуска? Полкило колбасы – половина моей пенсии. Пейте свободу! Кушайте свободу! Такую страну сдали! Державу! Без единого выстрела… Я одно не понимаю, почему у нас никто не спросил? Я всю жизнь великую страну строила. Так нам говорили. Обещали.
Я и лес валила, и шпалы на себе тягала… Ездили мы с мужем в Сибирь. На коммунистическую стройку. Помню реки: Енисей, Бирюса, Мана… Строили железную дорогу Абакан – Тайшет. Везли нас туда в товарных вагонах: два яруса сколоченных нар, ни матрасов, ни белья, под голову – кулак. В полу – дырка… Для большой нужды ведро (загораживали его простыней). Встанет состав в поле, нагребем сена: наша постель! Света в вагонах не было. Но всю дорогу пели комсомольские песни! Драли горло. Семь дней ехали… Прибыли! Глухая тайга, снега – в человеческий рост. Скоро началась цинга, каждый зуб шатался. Вши. А норма – ого! Мужчины, кто охотники, ходили на медведя. Тогда у нас появлялось мясо в котлах, а то – каша и каша. Я запомнила, что медведя бьют только в глаз. Жили в бараках – ни душа, ни бани. Летом ездили в город и в фонтане мылись. (Смеется.) Хочешь слушать, добавлю еще…
Забыла рассказать, как я замуж вышла… Мне восемнадцать лет. Уже это я работала на кирпичном заводе. Цементный завод закрыли, и я пошла на кирпичный. Сначала была глинщицей. В то время глину копали вручную, лопатами… Мы разгружали машины и укладывали глину во дворе ровным слоем, чтобы она «дозревала». Через полгода уже катала груженые вагонетки от пресса к печи: туда – с сырыми кирпичами, а назад – с обожженными, горячими. Кирпичи мы сами доставали из печи… Сумасшедшая температура! За смену – четыре-шесть тысяч кирпичей вытянешь. До двадцати тонн. Работали одни женщины… и девочки… Были и парни, но парни, в основном, на машинах. За рулем. Стал один за мной ухаживать… Подойдет, засмеется… и положит руку мне на плечо… Один раз говорит: «Поедешь со мной?» – «Поеду». Даже не спросила – куда. Так мы завербовались в Сибирь. Коммунизм строить! (Молчит.) А сейчас… ох! В общем… в общем… Все зря… зря мучились… Это тяжело признать и тяжело с этим жить. Столько работали! Строили. Все руками. Время суровое! Я на кирпичном заводе работала… Один раз проспала. После войны за опоздание на работу… на десять минут опоздал – тюрьма. Спас бригадир: «Скажешь, что я тебя в карьер посылал…» Донес бы кто, то и его судили бы. После пятьдесят третьего уже за опоздание не наказывали. После смерти Сталина люди стали улыбаться, а до того осторожно жили. Без улыбки.
А… что теперь вспоминать? Гвозди на пожарище собирать. Все сгорело! Вся наша жизнь… все наше пропало… Строили… строили… Сашка на целину ездил. Там коммунизм строил! Светлое будущее. Говорил, что в палатках зимой спали, без спальных мешков. В своей одежде. Руки там себе обморозил… Но все равно гордился! «Вьется дорога длинная, / Здравствуй, земля целинная!» Был у него партбилет, красная книжечка с Лениным, дорогая ему. Депутат и стахановец, как и я. Прошла жизнь, пролетела. Следа нет, уже не найдешь… Вчера три часа стояла в очереди за молоком – и мне не хватило. Немецкую посылку в дом принесли с подарками: крупа, шоколад, мыло… Победителям – от побежденных. Мне немецкой посылки не надо. Не-е-е… не взяла. (Перекрестилась.) Немцы с собаками… на собаках шерсть блестит… Идут по лесу, а мы – в болоте. В воде по горло. Бабы, детишки. И коровы стоят вместе с людьми. Молчат. Коровы, как люди, молчат. Все понимают. Не хочу я немецких конфет и немецкого печенья! Где – мое? Мои труды? Мы так верили! Верили, что когда-нибудь будет хорошая жизнь. Подожди-потерпи… да, подожди-потерпи… Всю жизнь по казармам, по общежитиям, по баракам.
Ну что ты сделаешь? Так и быть… Все можно пережить, кроме смерти. Смерть не переживешь… Тридцать лет Сашка на мебельной фабрике отбарабанил. Нагорбатился. Год назад проводили его на пенсию. Часы подарили. Но без работы он не остался. Люди шли и шли с заказами. Та-а-ак… А все равно был невеселый. Скучный. Бриться перестал. Тридцать лет на одной фабрике, считай, полжизни! Там уже дом родной. С фабрики ему и гроб привезли. Богатый гроб! Весь блестел, а внутри в бархате. В таких теперь только бандитов хоронят и генералов. Все руками трогали – невидаль! Когда из барака гроб выносили, посыпали зерно на порог. Так надо, чтобы живым было легче оставаться. Наши старые обычаи… Поставили гроб во дворе… Кто-то из родственников попросил: «Люди добрые простите». – «Бог простит», – отвечали все. А что прощать? Жили дружно, одной семьей. У тебя нет – я дам, у меня не стало – ты принесешь. Любили наши праздники. Строили социализм, а теперь говорят по радио, что социализм кончился. А мы… а мы остались…
Поезда стучат… стучат… Чужие люди, что вам надо? Что? Одинаковой смерти нет… Я первого сына в Сибири родила, дифтерит хоп – и задавил. Все равно живу. Вчера к Сашке на могилку сбегала, посидела с ним. Рассказала, как Лизка плакала. Билась о гроб головой. Любовь годков не считает…
Помрем… и все хорошо будет…
Маргарита Погребицкая – врач, 57 лет
– Мой праздник… Седьмое ноября… Большое, яркое… Самое яркое впечатление моего детства – военный парад на Красной площади…
Я у папы на плечах, а к руке у меня привязан красный шарик. В небе над колоннами громадные портреты Ленина и Сталина… Маркса… гирлянды и букеты из красных, голубых, желтых шариков. Красный цвет. Любимый, самый любимый. Цвет революции, цвет пролитой во имя ее крови… Великая Октябрьская революция! Это сейчас: военный переворот… большевистский заговор… русская катастрофа… Ленин – немецкий агент, а революцию сделали дезертиры и упившаяся матросня. Я закрываю уши, не желаю слышать! Выше моих сил… Всю жизнь я прожила с верой: мы самые счастливые, родились в невиданной и прекрасной стране. Другой такой страны нет! У нас есть Красная площадь, там на Спасской башне бьют куранты, по которым сверяют время во всем мире. Так говорил мне папа… и мама, и бабушка… «День седьмого ноября – красный день календаря…» Перед этим мы долго не ложились спать, всей семьей делали цветы из жатой бумаги, вырезали из картона сердечки. Раскрашивали. Утром мама и бабушка оставались дома, готовили праздничный обед. Гости в этот день приходили обязательно. Они приносили в сетке коробку с тортом и вино… целлофановых пакетов тогда еще не было… Бабушка пекла свои знаменитые пирожки с капустой и грибами, а мама колдовала над салатом «оливье» и варила всенепременный холодец. А я – с папой!
На улице много людей, на пальто и пиджаках у всех красные ленточки. Сияют красные полотнища, играет военный духовой оркестр. Трибуна с нашими вождями… И песня: «Столица мира, Родины столица, / Сверкаешь ты созвездием Кремля, / Тобою вся вселенная гордится, / Гранитная красавица – Москва…» Хотелось все время кричать «Ура!». Из репродуктора: «Слава трудящимся Московского дважды ордена Ленина и Красного Знамени завода имени Лихачева! Ура, товарищи!» – «Ура! Ура!» – «Слава нашему героическому Ленинскому комсомолу… Коммунистической партии… Нашим славным ветеранам…» – «Ур-ра! Ура!» Красота! Восторг! Люди плакали, радость переполняла… Духовой оркестр играл марши и революционные песни: «Дан приказ ему на запад, / Ей в другую сторону. / Уходили комсомольцы / На гражданскую войну…». Я помню слова всех песен наизусть, я ничего не забыла, часто их пою. Пою сама себе. (Тихо напевает.) «Широка страна моя родная, / Много в ней лесов, полей и рек. / Я другой страны такой не знаю, / Где так вольно дышит человек…» Недавно нашла в шкафу старые пластинки, сняла с антресолей патефон, весь вечер прошел в воспоминаниях. Песни Дунаевского и Лебедева-Кумача – как мы их любили! (Молчит.) И вот я высоко-высоко. Это папа поднимает меня на руках… выше, еще выше… Наступает самый важный момент – сейчас появятся и загремят по брусчатке могучие тягачи с зачехленными ракетами, танки, и пойдет артиллерия. «Запомни это на всю жизнь!» – старается перекричать шум папа. И я знаю, что запомню! А по дороге домой мы зайдем в магазин, и я получу свое любимое ситро «Буратино». В этот день мне разрешалось все: свистульки, леденцы-петушки на палочках…
Я любила ночную Москву… эти огни… Когда мне было уже восемнадцать лет… восемнадцать лет! – я влюбилась. Когда я поняла, что влюблена, я поехала, – ни за что не догадаетесь, куда я поехала. Я поехала на Красную площадь, первое, что я захотела – быть в эти минуты на Красной площади. Кремлевская стена, черные ели в снегу и засыпанный сугробами Александровский сад. Я смотрела на все это и знала, что буду счастлива. Обязательно буду!
А недавно мы с мужем были в Москве. И первый раз… Первый раз не пошли на Красную площадь. Не поклонились. Первый раз… (На глазах слезы.) Муж у меня армянин, поженились мы студентами. У него одеяло, а у меня раскладушка – так мы начинали жить. После окончания Московского мединститута получили распределение в Минск. Все мои подруги разъехались кто куда: одна – в Молдавию, другая – на Украину, кто-то в Иркутск. Тех, кто поехал в Иркутск, мы звали «декабристками». Страна одна – езжай куда хочешь! Никаких границ тогда не было, виз и таможен. Муж хотел вернуться на Родину. В Армению. «Поедем на Севан, увидишь Арарат. Попробуешь настоящий армянский лаваш», – обещал он мне. Но предложили – Минск. И мы: «Давай в Белоруссию!» – «Давай!» Это же молодость, впереди еще столько времени – кажется, его на все хватит. Приехали в Минск, и тут нам понравилось. Едешь и едешь: озера и леса, партизанские леса, болота и пущи, редкие поля среди этих лесов. Наши дети здесь выросли, у них любимые блюда – драники, белорусская мочанка. «Бульбу жарят, бульбу варят…» Армянский хаш на втором месте… Но каждый год всей семьей мы ездили в Москву. Как же! Без этого я не могла жить, я должна была походить по Москве. Подышать ее воздухом. Ждала… Всегда с нетерпением ждала эти первые минуты, когда поезд подходил к Белорусскому вокзалу, звучал марш, и сердце прыгало от слов: «Товарищи пассажиры, наш поезд прибыл в столицу нашей Родины – город-герой – Москву!». «Кипучая, могучая, никем непобедимая, / Москва моя, страна моя, ты самая любимая…» Выходишь из вагона под эту музыку.
Что… Где мы? Нас встретил чужой, незнакомый город… Ветер носил по улицам грязные обертки, куски газет, под ногами гремели банки из-под пива. На вокзале… и у метро… Везде серые ряды людей, все что-то продавали: женское белье и простыни, старую обувь и детские игрушки, сигареты можно было купить поштучно. Как в фильмах про войну. Я только там это видела. На каких-то рваных бумагах, картонных коробках прямо на земле лежали колбаса, мясо, рыба. В одном месте прикрыто рваным целлофаном, а в другом – нет. И москвичи это покупали. Торговались. Вязаные носки, салфетки. Тут гвозди, и тут же еда, одежда. Речь украинская, белорусская, молдавская… «Мы из Винницы приехали…» – «А мы – из Бреста…» Много нищих… Откуда их столько? Калеки… Как в кино… У меня одно сравнение – как в старом советском кино. Как будто я фильм смотрела…
На Старом Арбате, моем любимом Арбате я увидела торговые ряды – с матрешками, самоварами, иконами, фотографиями царя и его семьи. Портреты белогвардейских генералов – Колчака, Деникина и бюст Ленина… Матрешки всяких видов – «горбиматрешки» и «ельциноматрешки». Я не узнавала свою Москву. Что это за город? Прямо на асфальте, на каких-то кирпичах сидел старик и играл на аккордеоне. С орденами. Пел он военные песни, у ног – шапка с монетками. Песни наши любимые: «Бьется в тесной печурке огонь, / На поленьях смола, как слеза…». Захотелось подойти… но его уже окружили иностранцы… стали фотографироваться. Что-то ему кричали по-итальянски, по-французски и по-немецки. Хлопали по плечу: «Давай! Давай!». Им было весело, они были довольны. Как же! Так нас боялись… а теперь… Вот! Груда хлама… Империя – пшик! Рядом с матрешками и самоварами горой навалены красные флаги и вымпелы, партийные и комсомольские билеты. И боевые советские награды! Ордена Ленина и Красного Знамени. Медали! «За отвагу» и «За боевые заслуги». Трогаю их… глажу… Не верю! Не верю! «За оборону Севастополя» и «За оборону Кавказа». Все настоящее. Родное. Советская военная форма: мундиры, шинели… фуражки со звездочками… А цены – в долларах… «Сколько?» – спросил муж и показал на медаль «За отвагу». – «За двадцать долларов продам. А, ладно, давай “штуку” – тысяча рублей». – «А орден Ленина?» – «Сто долларов…» – «А совесть?!» – Мой муж готов был в драку полезть. – «Ты что, чокнутый? Из какой дыры вылез? Предметы эпохи тоталитаризма». Так и сказал… Мол, это уже «железки», но иностранцам нравятся, у них нынче мода на советскую символику. Ходовой товар. Я закричала… Позвала милиционера… Я кричала: «Смотрите! Смотрите… А-а-а…». Милиционер нам подтвердил: «Предметы эпохи тоталитаризма… К ответственности привлекаем за наркотики и порнографию…». А партбилет за десять долларов – не порнография? Орден Славы… Или это – красный флаг с портретом Ленина – за доллары? Было такое чувство, что мы стоим среди каких-то декораций. Нас разыгрывают. Мы куда-то не туда приехали. Я стояла и плакала. Итальянцы рядом примеряли военные шинели и фуражки с красными звездочками. «Карашо! Карашо!» А ля рус…
Первый раз я была в мавзолее с мамой. Помню, что шел дождь, холодный, осенний дождь. Мы простояли в очереди шесть часов. Ступеньки… полумрак… венки… Шепот: «Проходите. Не задерживайтесь». Из-за слез я ничего не разглядела. Но Ленин… он показался мне светящимся… Маленькая, я маму убеждала: «Мама, я никогда не умру». – «Почему ты так думаешь? – спрашивала мама. – Все умирают. Даже Ленин умер». Даже Ленин… Я не знаю, как мне обо всем рассказать… А мне надо… я хочу. Я хотела бы говорить… говорить, но не знаю с кем. О чем? О том, как мы были потрясающе счастливы! Сейчас я в этом абсолютно убеждена. Росли нищими и наивными, но об этом не догадывались и никому не завидовали. В школу мы ходили с дешевыми пеналами и ручками за сорок копеек. Летом наденешь парусиновые тапочки, начистишь их зубным порошком – красиво! Зимой – в резиновых ботиках, мороз – подошвы жжет. Весело! Верили, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра лучше, чем вчера. У нас было будущее. И прошлое. Все у нас было!
Любили, безгранично любили Родину – самую-самую! Первый советский автомобиль – ура! Неграмотный рабочий изобрел секрет советской нержавеющей стали – победа! А то, что этот секрет уже давно известен всему миру, мы потом узнали. А тогда: первыми полетим через полюс, научимся управлять северным сиянием… повернем вспять гигантские реки… оросим вечные пустыни… Вера! Вера! Вера! Что-то выше разума. Я просыпалась под звуки гимна вместо будильника: «Союз нерушимый республик свободных / Сплотила навеки Великая Русь…». В школе мы много пели… Я помню наши песни… (Напевает.) «Отцы о свободе и счастье мечтали. / За это сражались не раз. / В борьбе создавали и Ленин и Сталин / Отечество наше для нас…» Дома вспоминали… На следующий день, как меня приняли в пионеры, утром заиграл гимн, я вскочила и стояла на кровати, пока гимн не кончился. Пионерская клятва: «Я… вступая в ряды… перед лицом своих товарищей… торжественно обещаю: горячо любить свою Родину…». Дома был праздник, пахло пирогами в мою честь. С красным галстуком я не расставалась, стирала и гладила его каждое утро, чтобы ни одной складочки. И даже в институте завязывала шарфик пионерским узлом. Мой комсомольский билет… лежит он у меня и сейчас… Прибавила себе лишний год, чтобы скорее вступить в комсомол. Я любила улицу, там всегда работало радио… Радио – это была наша жизнь, это все. Откроешь окно – льется музыка, и такая музыка, что встанешь и шагаешь по квартире. Как в строю… Может, это была тюрьма, но мне было теплее в этой тюрьме. Так мы привыкли… Даже в очереди до сих пор стоим друг возле друга, вплотную, чтобы вместе. Вы заметили? (И опять тихо напевает.) «Сталин – наша слава боевая, / Сталин – нашей юности полет, / С песнями, борясь и побеждая, / Наш народ за Сталиным идет…»
И – да! Да! Да! Самая большая мечта – умереть! Пожертвовать собой. Отдать. Комсомольская клятва: «Готова отдать свою жизнь, если она понадобится моему народу». И это были не слова, нас так воспитали на самом деле. Если по улице шла колонна солдат, все останавливались… После Победы солдат был необыкновенный человек… Когда я вступала в партию, я написала в заявлении: «С Программой и Уставом ознакомлена и признаю. Готова отдать все силы, а если потребуется, и жизнь своей Родине». (Смотрит на меня внимательно.) А вы что обо мне думаете? Идиотка, да? Инфантильная… Мои некоторые знакомые… так они откровенно смеются: эмоциональный социализм, бумажные идеалы… Так я в их глазах выгляжу. Тупая! Даун! Вы – инженер человеческих душ. Хотите меня утешить? Писатель у нас больше, чем писатель. Учитель. Духовник. Это раньше, а сейчас уже не так. Много людей в церквях на службе стоит. Верующих глубоко мало, большинство страдающих. Как вот и я… с травмой… Я не по канону верю, а по сердцу. Молитв не знаю, а молюсь… Батюшка у нас – бывший офицер, все про армию проповеди читает, про атомную бомбу. Про врагов России и масонские заговоры. А я других слов хочу, совсем других слов… Не этих. А кругом только эти… Много ненависти… Нет места, где можно душой приткнуться. Включу телевизор, и там то же самое… Одни проклятия… Все отказываются от того, что было. Проклинают. Мой любимый режиссер Марк Захаров, теперь я его не так люблю и не верю ему так, как раньше… он сжег, это по телевизору показывали, свой партбилет… Принародно. Это же не театр! Это – жизнь! Моя жизнь. Разве так можно с ней? С моей жизнью… Не надо этих шоу… (Плачет.)
Я не успеваю… Из тех я, кто не успевает… Из поезда, который летел в социализм, все быстро пересаживаются в поезд, несущийся в капитализм. Я опаздываю… Смеются над «совком»: он и быдло, он и лох. Надо мной смеются… «Красные» – уже зверье, а «белые» – рыцари. Сердце мое и ум – против, на физиологическом уровне не принимаю. Не впускаю в себя. Не могу, не способна… Горбачева я приветствовала, хотя критиковала… он был… теперь это ясно, как и все мы, он был мечтателем. Прожектером. Можно сказать так. Но к Ельцину я была не готова… К реформам Гайдара. Деньги пропали в один день. Деньги… и наша жизнь… Все в миг обесценилось. Вместо светлого будущего стали говорить: обогащайтесь, любите деньги… Поклоняйтесь зверю сему! Весь народ был к этому не готов. Никто не мечтал о капитализме, про себя точно скажу, что я не мечтала… Мне нравился социализм. Это были уже брежневские годы… вегетарианские… Людоедских лет я не застала. Пела песни Пахмутовой: «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги…». Готовилась крепко дружить и строить «голубые города». Мечтать! «Я знаю – город будет…», «здесь будет город-сад…». Любила Маяковского. Патриотические стихи, песни. Это так важно было тогда. Так много для нас значило. Никто не убедит меня, что жизнь дана только для того, чтобы вкусно есть и спать. А герой тот, кто купил что-то в одном месте, а продал в другом на три копейки дороже. Нам сейчас это внушают… Выходит, глупцами были все те, кто отдал свою жизнь за других. За высокие идеалы. Нет! Нет! Стою вчера в магазине в кассу… Старушка впереди считает копейки в кошельке, пересчитывает, и в конце концов покупает сто грамм самой дешевой колбасы… «собачьей»… и два яйца. А я ее знаю… она всю жизнь проработала учительницей…
Не могу я радоваться этой новой жизни! Мне не будет в ней хорошо, мне никогда не будет хорошо одной. В одиночку. А жизнь стягивает, стягивает меня на эту глину. На землю. Моим детям уже жить по этим законам. Я им не нужна, я вся смешная. Вся моя жизнь… Перебирала недавно бумаги и наткнулась на свой юношеский дневник: первая любовь, первый поцелуй и целые страницы о том, как я люблю Сталина и готова умереть, чтобы его увидеть. Записки сумасшедшей… Хотела выбросить – не смогла. Спрятала. Страх: только бы они никому на глаза не попались. Будут шутить, смеяться. Никому не показала… (Молчит.) Я помню много вещей, не объяснимых здравым смыслом. Редкий экземпляр, да! Любой психотерапевт радовался бы… Правда?! Вам со мной повезло… (И плачет, и смеется.)
Спросите… Вы должны спросить, как это сочеталось: наше счастье и то, что за кем-то приходили ночью, кого-то забирали? Кто-то исчезал, кто-то рыдал за дверью. Я этого почему-то не помню. Не помню! А помню, как цвела весной сирень, и массовые гуляния, деревянные тротуары, нагретые солнцем. Запах солнца. Ослепительные парады физкультурников и сплетенные из живых человеческих тел и цветов имена на Красной площади: Ленин – Сталин. Я и маме задавала этот вопрос…
Что помним мы о Берии? О Лубянке? Мама молчала… Один раз вспомнила, как летом после отпуска они с папой возвращались из Крыма. Ехали по Украине. Это тридцатые годы… коллективизация… На Украине был великий голод, по-украински – голодомор. Миллионы умерли… целыми селами умирали… Хоронить было некому… Украинцев убивали за то, что они не хотели идти в колхозы. Убивали голодом. Теперь-то я это знаю… Когда-то у них была Запорожская Сечь, народ помнил свободу… Там такая земля – кол воткнешь, и вырастет дерево. А они умирали… подыхали как скот. У них все забрали, до маковки вывезли. Окружили войсками, как в концлагере. Теперь-то я знаю… Я дружу на работе с одной украинкой, она от бабушки своей слышала… Как в их селе мать сама одного ребенка зарубила топором, чтобы варить и кормить им остальных. Своего ребенка… Это все было… Детей со двора боялись выпускать. Как кошек и собак, вылавливали детей. Червяков на огородах копали и ели. Кто мог, полз в город, к поездам. Ждали, что кто-то им бросит корочку хлеба… Солдаты пинали их сапогами, били прикладами… Поезда мчались мимо, мчались на всей скорости. Проводники закрывали окна, «задраивали» шторы. И никто ни о чем ни у кого не спрашивал. Приезжали в Москву. Привозили вино, фрукты, гордились загаром и вспоминали море. (Молчит.) Я любила Сталина… Долго его любила. Даже тогда любила, когда стали о нем писать, что он был маленький, рыжий, с усохшей рукой. Застрелил свою жену. Развенчали. Выбросили из мавзолея. А я все равно его любила.
Я долго была сталинской девочкой. Очень долго. Очень… Да, это было! Со мной… с нами… и без той жизни я останусь с пустыми руками. Без ничего… нищенка буду! Я гордилась нашим соседом, дядей Ваней – герой! Он вернулся с войны без обеих ног. Ездил по двору на деревянной самодельной коляске. Звал меня «моя Маргаритка», чинил всем валенки и сапоги. Пьяный пел: «Дорогие братишки-сестренки… / Я геройски сражался в бою…». Через несколько дней после смерти Сталина прихожу к нему: «Ну что, Маргаритка, сдох этот…». Это он – о моем Сталине! Я выхватила свои валенки: «Как вы смеете? Вы – герой! С орденом». Два дня решала: я – пионерка, значит, я должна пойти в энкавэдэ и рассказать о дяде Ване. Сделать заявление. И это абсолютно серьезно… да! Как Павлик Морозов… Я могла донести и на своего отца… на мать… Я могла… Да! Я была готова! Возвращаюсь из школы, а дядя Ваня пьяный валяется в подъезде. Перевернулся со своей коляской и не может встать. Мне стало его жалко.
И это я… Я сидела, прижавшись ухом к репродуктору, и слушала, как каждый час передавали бюллетень о здоровье товарища Сталина. И плакала. Всем сердцем. Было! Это было! Было сталинское время… и были мы, сталинские люди… Моя мама – из дворянской семьи. За несколько месяцев до революции она вышла замуж за офицера, впоследствии он воевал в белой гвардии. В Одессе они расстались – он эмигрировал с остатками разбитых деникинских частей, а она не могла оставить парализованную мать. Ее забрали в чека как жену белогвардейца. Следователь, который вел дело, влюбился в маму. Спас каким-то образом… Но заставил выйти за него замуж. После службы он возвращался домой пьяный и бил ее револьвером по голове. Потом куда-то исчез. И вот эта моя мама… красавица… обожавшая музыку, знающая несколько языков, она до беспамятства любила Сталина. Грозила папе, если он чем-то был недоволен: «Я пойду в райком и скажу, какой ты коммунист». А папа… Папа участвовал в революции… в 37-м был репрессирован… Но его быстро освободили, потому что за него заступился кто-то из видных большевиков, знавших его лично. Дал поручительство. Но в партии папу не восстановили. Удар, который он не мог пережить. В тюрьме ему выбили зубы, проломили голову. Все равно папа не изменился, остался коммунистом. Объясните мне это… Думаете, глупцы? Наивняк? Нет, это были умные и образованные люди. Мама читала в подлиннике Шекспира и Гете, а папа окончил Тимирязевскую академию. А Блок… Маяковский… Инесса Арманд? Мои кумиры… мои идеалы… С ними я выросла… (Задумалась.)
Когда-то я училась летать в аэроклубе. На чем мы летали, теперь удивляешься: как мы живы остались?! Не планеры, а самоделки – деревянные реечки, обитые марлей. Управление – ручка и педаль. Но зато, когда ты летишь, ты видишь птиц, ты видишь землю с высоты. Ты чувствуешь крылья! Небо меняет человека… высота меняет… Понимаете, о чем я? Я о той нашей жизни… Мне жалко не себя мне жалко все то, что мы любили…
Все честно вспомнила… и не знаю даже… Почему-то теперь стыдно все это кому-то рассказывать…
Полетел Гагарин… Люди вышли на улицу, смеялись, обнимались, плакали. Незнакомые люди. Рабочие в спецовках прямо с заводов, медики в белых шапочках, швыряли их в небо: «Мы – первые! Наш человек в космосе!». Это нельзя забыть! Это было что-то взахлеб, такое изумление. Я до сих пор не могу спокойно слушать песню: «И снится нам не рокот космодрома, / Не эта ледяная синева, / А снится нам трава, трава у дома. / Зеленая, зеленая трава…». Кубинская революция… Молодой Кастро… Я кричала: «Мама! Папа! Они победили! Вива Куба!». (Напевает.) «Куба, любовь моя! / Остров зари багровой, / Песня летит над планетой, звеня, / Куба – любовь моя!» В школу к нам приходили ветераны боев в Испании… Вместе мы пели песню «Гренада»: «Я хату покинул, пошел воевать, / Чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…». У меня над столом висела фотография Долорес Ибаррури. Да… мы мечтали о Гренаде… потом о Кубе… Через несколько десятков лет другие мальчики точно так же бредили Афганистаном. Нас легко было обмануть. Но все равно… Все равно! Я это не забуду! Я не забуду, как уходил на целину весь наш десятый класс. Они шли колонной, с рюкзаками и развевающимся знаменем. У некоторых за спиной гитары. «Вот это – герои!» – думала я. Многие из них потом вернулись больными: на целину они не попали, а строили где-то в тайге железную дорогу, таскали на себе рельсы по пояс в ледяной воде. Не хватало техники… Ели гнилую картошку, все переболели цингой. Но они были, эти ребята! И была девочка, провожавшая их с восторгом. Это – я! Моя память… Я ее никому не отдам – ни коммунистам, ни демократам, ни брокерам. Она – моя! Только моя! Я без всего могу обойтись: мне не надо много денег, дорогой еды и модной одежды… шикарной машины… Мы на своих «Жигулях» объехали весь Союз: я увидела Карелию… озеро Севан… и Памир. Это все была моя Родина. Моя Родина – СССР. Я без многого могу прожить. Не могу только без того, что было. (Долго молчит. Так долго, что я окликаю ее.)
Не бойтесь… Со мной все нормально… уже нормально… Сижу пока дома… кошку глажу, варежки вяжу. Такое простое действие, как вязание, помогает лучше всего… Что удержало? До конца я не дошла… нет… Как врач, я все представляла… во всех мелочах… Смерть безобразна, она не бывает красивой. Я видела повесившихся… В последние минуты у них наступает оргазм, или они в моче, в кале. От газа человек синий… фиолетовый… Одна эта мысль для женщины ужасна. Никаких иллюзий о красивой смерти у меня не могло быть. Но… Тебя что-то кинуло, подхлестнуло, заставило рвануться. Ты в отчаянном рывке… есть дыхание и ритм… и есть рывок… А там уже трудно удержаться. Сорвать стоп-кран! Стоп! Я как-то удержалась. Бросила бельевую веревку. Выбежала на улицу. Промокла под дождем, какая радость после всего промокнуть под дождем! Как приятно! (Молчит.) Я долго не разговаривала… Восемь месяцев лежала в депрессии. Разучилась ходить. Встала в конце концов. Научилась ходить опять. Я есть… снова я на твердом… Но мне было плохо… Меня проткнули, как шарик… О чем это я? Хватит! Ну хватит… (Сидит и плачет.) Хватит…
Девяностый год… В нашей минской трехкомнатной квартире жило пятнадцать человек, да еще грудной ребенок. Первыми приехали из Баку родственники мужа – сестра с семьей и его двоюродные братья. Они не в гости приехали, они привезли с собой слово «война». С криком вошли в дом, с потухшими глазами… Это где-то осенью или зимой… было уже холодно. Да, осенью они приехали, потому что зимой нас уже было больше. Зимой из Таджикистана… Из города Душанбе приехала моя сестра со своей семьей и родителями мужа. Именно так и было… Так… Спали везде, летом спали даже на балконе. И… не говорили, а кричали… Как они бежали, а война пинком догоняла. Пятки жгла. А они… все они, как и я, советские… абсолютно советские. Стопроцентно! Этим гордились. И вдруг – ничего этого нет. Ну нет! Проснулись утром, глянули в окно – уже они под другим флагом. В другой стране. Уже – чужие.
Я слушала. Слушала. Они говорили…
«…ведь какое было время! Пришел Горбачев… И вдруг под окнами – стрельба. Господи! В столице… в Душанбе… Все сидели у телевизора и боялись пропустить последние новости. У нас на фабрике женский коллектив был, преимущественно русские. Я спрашиваю: “Девочки, что будет?” – “Война начинается, уже русских режут”. Через несколько дней один магазин днем разграблен… второй…»
«…первые месяцы я плакала, а потом перестала. Слезы быстро кончаются. Больше всего боялась мужчин, и знакомых, и незнакомых. Затащат в дом, в машину…“Красивайа! Дэвушка, давай поебемся…” Соседскую девочку одноклассники изнасиловали. Таджикские мальчики, которых мы знали. Ее мать пошла в семью к одному. “Зачем сюда приехала? – кричали на нее. – Вали в свою Россию. Скоро вас, русских, тут вообще не останется. В одних трусах побежите”».
«…зачем мы туда поехали? По комсомольской путевке. Строили Нурекскую ГЭС, алюминиевый завод… Я учила таджикский язык: чайхана, пиала, арык, арча, чинара… “Шурави” называли нас. Русские братья».
«…мне снятся розовые горы – цветет миндаль. А просыпаюсь вся в слезах…»
«…в Баку… Жили мы в девятиэтажном доме. Утром вывели армянские семьи во двор… Все вокруг них собрались, и сколько было людей, столько подошло к ним, каждый чем-то ударил. Маленький мальчик… лет пять… он подошел и ударил детской лопаткой. Старая азербайджанка его погладила по голове…»
«…а наши друзья, они тоже были азербайджанцы, но они нас прятали у себя в подвале. Забросали хламом, ящиками. Приносили ночью еду…»
«…утром бегу на работу – на улицах трупы лежат. Валяются, или сидят у стены, сидят будто живые. Кого-то накрыли дастарханом (по-русски – скатертью), а кого-то нет. Не успели. Большинство лежали раздетые… и мужчины, и женщины… Тех, что сидели, тех не раздевали, их же не разогнуть…»
«…раньше я думал, что таджики – как дети, никого не обидят. За полгода, может, даже меньше времени прошло, Душанбе было не узнать, и людей не узнать. Морги переполнены. Утром на асфальте, пока не затопчут, сгустки застывшей крови… как холодец…»
«…целыми днями они шли мимо нашего дома с плакатами: “Смерть армянам! Смерть!”. Мужчины и женщины. Старые и молодые. Разъяренная толпа, ни одного человеческого лица. Газеты были забиты объявлениями: “Меняю трехкомнатную квартиру в Баку на любую квартиру в любом городе России…”. Свою квартиру мы продали за триста долларов. Как холодильник. А не продали бы за эти деньги, могли убить…»
«…а мы за свою квартиру купили: мне – китайский пуховик, а мужу – теплые ботинки. Мебель, посуду… ковры… все оставили…»
«…жили без света и газа… без воды… На рынке цены ужасные. Возле нашего дома открылся киоск. Там продавали цветы и похоронные венки. Только цветы и венки…»
«…ночью на стене соседнего дома кто-то написал краской: “Бойся, русская сволочь! Твои танкисты тебе не помогут”. Русских снимали с руководящих должностей… стреляли из-за угла… Город быстро стал грязный, как кишлак. Чужой город. Не советский…»
«…убивали за все… Не там родился, не на том языке разговариваешь. Не понравился кому-то с автоматом… А до того как мы жили? В праздники первый тост у нас был “за дружбу”: “ес кес сирум эм” (по-армянски – я тебя люблю). – “Ман сани севирам” (по-азербайджански – я тебя люблю). Жили вместе…»
«…простые люди… Наши знакомые таджики закрывали своих сыновей на ключ, не выпускали из дому, чтобы их не научили… не заставили убивать».
«…уезжаем… Сели уже в поезд, уже пар из-под колес. Последние минуты. Кто-то дал по колесам очередь из автомата. Солдаты стояли коридором, закрывали нас. Если бы не солдаты, то мы живыми бы даже до вагонов не добежали. И если сейчас я вижу, что показывают войну по телевизору, я сразу слышу… Этот запах… запах поджареного человеческого мяса… Тошнотворный… конфетный запах…»
Через полгода у мужа первый инфаркт… еще через полгода – второй… У его сестры инсульт. От всего этого… Я сходила с ума… А вы знаете, как сходят с ума волосы? Они становятся жесткими, как леска. Волосы сходят с ума первыми… Ну кто же выдержит? Маленькая Карина… Днем нормальный ребенок, а станет темнеть за окном, она дрожит. Кричит: «Мама, не уходи! Я усну, а вас с папой убьют!». Я бежала утром на работу и просила, чтобы меня убило машиной. Никогда не ходила в церковь, а тут часами на коленях стояла: «Пресвятая Богородица! Ты меня слышишь?». Перестала спать, не могла есть. Я – не политик, я в политике не разбираюсь. Мне просто страшно. Что вы еще хотите у меня спросить? Я все рассказала… Все!
Об одиноком красном маршале и трех днях забытой революции
Сергей Федорович Ахромеев (1923–1991), маршал Советского Союза, Герой Советского Союза (1982). Начальник Генштаба Вооруженных сил СССР (1984–1988). Лауреат Ленинской премии (1980). С 1990 года военный советник Президента СССР.
Из интервью на Красной площади
(декабрь 91-го года)
«Я была студенткой…
Все произошло очень быстро… Через три дня революция кончилась… По телевизору в обзоре новостей передали: члены ГКЧП арестованы… министр внутренних дел Пуго застрелился, маршал Ахромеев повесился… В нашей семье это долго обсуждалось. Помню, папа сказал: “Это – военные преступники. Их должна была постичь судьба немецких генералов Шпеера и Гесса”. Все ждали Нюрнберга…
Мы были молодые… Революция! Я начала гордиться своей страной, когда люди вышли на улицы против танков. До этого уже были события в Вильнюсе, Риге, Тбилиси. В Вильнюсе литовцы отстояли свой телецентр, нам все это показывали, а мы что – быдло что ли? На улицу вышли люди, которые раньше никуда не ходили – сидели на кухнях и возмущались. А тут они вышли… Мы с подружкой взяли с собой зонтики – и от дождя, и чтобы драться. (Смеется.) Я была горда за Ельцина, когда он стоял на танке, я поняла: это – мой президент! Мой! Настоящий! Там было много молодежи. Студентов. Все мы выросли на “Огоньке” Коротича, на “шестидесятниках”. Обстановка военная… В мегафон кто-то кричал, умолял, мужской голос: “Девушки, уходите. Будет стрельба и много трупов”. Рядом со мной парень отправлял домой свою беременную жену, она плакала: “Почему ты остаешься?” – “Так надо”.
Я пропустила очень важное… Как начался этот день… Утром я проснулась оттого, что мама громко плакала. Рыдала. Мама спрашивала у папы: “Что такое чрезвычайное положение? Как ты думаешь, что они сделали с Горбачевым?”. А бабушка бегала от телевизора к радио на кухне: “Никого не арестовали? Не расстреляли?”. Родилась бабушка в двадцать втором году, всю ее жизнь стреляли и кого-то расстреливали. Арестовывали. Так жизнь прошла… Когда бабушки не стало, мама открыла семейную тайну. Подняла занавес… эти шторы… В пятьдесят шестом привезли бабушке и маме из лагеря отца, это был мешок костей. Из Казахстана. Приехал он с сопровождающим, такой был больной. И они никому не признавались, что это отец… это муж… Боялись… Говорили, что он им никто, какой-то дальний родственник. Пожил он с ними несколько месяцев, и его положили в больницу. Там он повесился. Мне надо… Теперь мне надо как-то с этим жить, с этим знанием. Мне надо это понять… (Повторяет.) Как-то с этим жить… Больше всего наша бабушка боялась нового Сталина и войны, всю жизнь она ждала ареста и голода. Выращивала на окне лук в ящичках, квасила в больших кастрюлях капусту. Покупала в запас сахар и масло. Антресоли у нас были забиты разной крупой. Перловкой. Всегда она меня учила: “Ты молчи! Молчи!”. В школе молчи… в университете… Так я росла, среди таких людей. Нам не за что было любить советскую власть. Мы все – за Ельцина! А мою подружку мама не выпускала из дома: “Только через мой труп! Ты разве не понимаешь, что все вернулось?”. Мы учились в университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Там учились студенты со всего мира, многие из них приезжали с представлениями, что СССР – это страна балалаек и атомных бомб. Нам было обидно. Мы хотели жить в другой стране…»
«Я работал слесарем на заводе…
Про путч узнал в Воронежской области… Гостил у тети. Все эти вопли о величии России – жопень полная. Патриоты ряженые! Сидят у зомбоящика. Отъехали бы на пятьдесят километров от Москвы… Посмотрели бы на дома, на то, как люди живут. Какие у них праздники хмельные… В деревне мужиков почти нет. Вымерли. Сознание на уровне рогатого скота – вусмерть пьют. Пока не повалятся. Пьют все, что горит: от огуречного лосьона до автобензина. Пьют, а потом дерутся. В каждой семье кто-то в тюрьме сидел или сидит. Милиция не справляется. Одни бабы не сдаются, копаются на огородах. Если осталось пару мужиков непьющих, то они уехали на заработки в Москву. А единственному фермеру (в той деревне, куда я езжу) три раза пускали «красного петуха», пока не съехал к чертовой матери! С глаз! Натурально ненавидели… физически…
Танки в Москве… баррикады… В деревне никто особо по этому поводу не напрягался. Не заморачивался. Всех больше волновал колорадский жук и капустная моль. Он живучий, этот колорадский… А у молодых пацанов семечки и девочки на уме. Где пузырь вечером раздавить? Но народ все-таки больше высказывался за ГКЧП. Я так понял… Они не все были коммунистами, но все за великую страну. Боялись перемен, потому как после всех перемен мужик в дураках оставался. Помню, как наш дед говорил: “Раньше мы жили ху…во-ху…во, а потом все хуже и хуже”. До войны и после войны жили без паспортов. Деревенским паспорта не давали, не выпускали в город. Рабы. Арестанты. Возвратились с войны в орденах. Пол-Европы завоевали! А жили без паспортов.
В Москве узнал, что мои друзья все были на баррикадах. Участвовали в заварушке. (Смеется.) И я медальку мог получить…»
«Я – инженер…
Кто он, маршал Ахромеев? Фанатик “совка”. Я жил в “совке”, мне опять в “совок” не хочется. А это был фанатик, человек, искренне преданный коммунистической идее. Это был мой враг. Он вызывал во мне ненависть, когда я слушал его выступления. Я понимал: этот человек будет биться до конца. Его самоубийство? Ясно, что поступок неординарный, и он вызывает уважение. Смерть надо уважать. Но я задаю себе вопрос: а если бы они победили? Возьмите любой учебник… Ни один переворот в истории не обошелся без террора, обязательно все кончалось кровью. Вырыванием языков и выкалыванием глаз. Средневековьем. Тут не надо быть историком…
Услышал утром по телевизору о “неспособности Горбачева управлять страной в силу тяжелой болезни”… увидел под окнами танки… Звоню друзьям – все за Ельцина. Против хунты. Будем Ельцина защищать! Открываю холодильник – положил кусок сыра себе в карман. Баранки лежали на столе – сгреб баранки. А оружие? Что-то надо с собой взять… На столе лежал кухонный нож… подержал его в руках и положил на место. (Задумался.) А если бы… а если бы они победили?
Сейчас показывают по телевизору картинки: маэстро Ростропович прилетел из Парижа и сидит с автоматом, девушки угощают солдат мороженым… Букет цветов на танке… Мои картинки другие… Московские бабушки раздают солдатам бутерброды и водят к себе домой пописать. Ввели танковую дивизию в столицу – ни сухпайков, ни туалетов. Торчат из люков тоненькие шейки пацанов, и – вот такие! – у них перепуганные глазища. Они ничего не понимают. На третий день уже сидят на броне – злые, голодные. Невыспавшиеся. Женщины берут их в кольцо: “Сыночки, и вы будете в нас стрелять?”. Солдаты молчат, а офицер как гаркнет: “Дадут приказ – будем стрелять”. Солдат как ветром сдуло, попрятались в люках. Во как! У меня картинки с вашими не совпадают… Стоим в оцеплении, ждем атаки. Слухи: скоро газы пустят, снайперы на крышах… Подходит к нам женщина, у нее орденские колодки на кофте: “Кого защищаете? Капиталистов?”. – “Да ты что, бабуся? Мы за свободу тут стоим”. – “А я за советскую власть воевала – за рабочих и крестьян. А не за ларечки и кооперативы. Дали бы мне сейчас автомат…”
Все висело на волоске. Кровью пахло. Праздника я не помню…»
«Я – патриот…
Дайте мне высказаться. – Подходит мужчина в распахнутой дубленке с массивным крестом на груди. – Мы живем в самое позорное время нашей истории. Мы – поколение трусов, предателей. Такой приговор нам вынесут наши дети. “Великую страну наши родители продали за джинсы, ‘Мальборо’ и жвачку”, – скажут они. Мы не смогли отстоять СССР – нашу Родину. Страшное преступление. Продали всё! Никогда не привыкну к российскому триколору, у меня перед глазами всегда будет красное знамя. Знамя великой страны! Великой победы! Что же надо было сделать с нами… с советскими людьми… чтобы мы закрыли глаза и побежали в этот ебаный капиталистический рай? Купили нас фантиками, колбасными прилавками, яркими обертками. Ослепили, заболтали. Мы променяли все на тачки и шмотки. И не надо сказок… что это ЦРУ развалило Советский Союз, козни Бжезинского… А почему КГБ не развалило Америку? Не тупые большевики просрали страну, и не интеллигентные сволочи ее уничтожили, чтобы ездить по заграницам и читать “Архипелаг ГУЛАГ”… И не ищите жидо-масонский заговор. Все мы уничтожали сами. Своими руками. Мечтали, чтобы у нас открыли “Макдональдсы” с горячими гамбургерами и каждый мог купить себе “мерседес”, пластмассовый видик. И чтобы в киосках продавались порнофильмы…
России нужна крепкая рука. Железная. Надсмотрщик с палкой. Так что – великий Сталин! Ура! Ура! Ахромеев мог стать нашим Пиночетом… генералом Ярузельским… Великая потеря…»
«Я – коммунист…
Я был за ГКЧП, вернее, за СССР. Я был страстный гэкачепист, потому что мне нравилось жить в империи. “Широка страна моя родная…” В восемьдесят девятом году послали меня в командировку в Вильнюс. Перед отъездом вызвал к себе главный инженер завода (он там уже был) и предупредил: “Ты по-русски с ними не разговаривай. Спичек в магазине не продадут, если попросишь по-русски. Ты свой украинский не забыл? Разговаривай по-украински”. Я не поверил – что за ерунда? А он: “Осторожно в столовой – могут отравить или подсыпят толченое стекло. Ты там теперь оккупант, понимаешь?”. А у меня в голове дружба народов и все такое. Советское братство. Не поверил, пока не приехал на вильнюсский вокзал. Вышел на перрон… С первой минуты мне дали понять, услышав русскую речь, что я приехал в чужую страну. Я был оккупант. Из грязной, отсталой России. Русский Иван. Варвар.
И вот этот танец маленьких лебедей… Одним словом, про ГКЧП я услышал утром в магазине. Побежал домой, включил телевизор: убили Ельцина или нет? В чьих руках телецентр? Кто командует армией? Позвонил знакомый: “Ну, суки, сейчас опять гайки закрутят. Станем винтиками и гвоздиками”. Меня зло взяло: “А я обеими руками – за. Я – за СССР!”. В один момент он разворачивается на сто восемьдесят градусов: “Конец Михаилу Меченому! Пахать ему в Сибири!”. Понимаете? С людьми надо было разговаривать. Внушать. Обрабатывать. Первым делом брать “Останкино” и круглосуточно вещать: спасем страну! Советская Родина в опасности! Быстро разобраться с собчаками, афанасьевыми и остальными предателями. А народ был – за!
В самоубийство Ахромеева не верю. Не мог боевой офицер повеситься на шпагате… на ленточке с коробки от торта… Как зэк. В тюремной камере так вешаются – сидя и подогнув ноги. В одиночке. Не в военной это традиции. Офицеры брезгуют петлей. Не самоубийство это, а убийство. Его убили те, кто убил Советский Союз. Они его боялись – у Ахромеева был высокий авторитет в армии, он мог организовать сопротивление. Народ еще не был дезориентирован, разобщен, как сейчас. Еще все жили одинаково и одни газеты читали. Не так, как сейчас: у одних супчик жидок, у других жемчуг мелок.
А вот это… я сам это видел… Молодые ребята приставили лестницы к зданию ЦК КПСС на Старой площади, его уже никто не охранял. Высокие пожарные лестницы. Залезли наверх… Молотками и зубилами начали сбивать золотые буквы ЦК КПСС. А другие внизу их распиливали и раздавали кусочки на память. Разбирали баррикады. Колючая проволока тоже шла на сувениры.
Так я запомнил падение коммунизма…»
Из материалов следствия
«24 августа 1991 года в 21 час 50 мин. в служебном кабинете № 19а в корпусе 1 Московского Кремля дежурным офицером охраны Коротеевым был обнаружен труп Маршала Советского Союза Ахромеева Сергея Федоровича (1923 года рождения), работавшего советником Президента СССР.
Труп находился в сидячем положении под подоконником окна кабинета. Спиной труп опирался на деревянную решетку, закрывающую батарею парового отопления. На трупе была одежда Маршала Советского Союза. Повреждений на одежде не было. На шее трупа находилась скользящая, изготовленная из синтетического шпагата, сложенного вдвое, петля, охватывающая шею по всей окружности. Верхний конец петли был закреплен на ручке оконной рамы клеящей лентой типа “скотч”. Каких-либо телесных повреждений на трупе, кроме связанных с повешением, не обнаружено…»
«При осмотре содержимого письменного стола наверху, на видном месте было обнаружено пять записок. Все записки рукописные. Записки лежали аккуратной стопкой. Опись сделана в той последовательности, в которой записки располагались…
Первую записку Ахромеев просит передать его семье, в ней он сообщает, что принял решение о самоубийстве: “Всегда для меня был главным долг воина и гражданина. Вы были на втором месте. Сегодня я впервые ставлю на первое место долг перед вами. Прошу вас мужественно пережить эти дни. Поддерживайте друг друга. Не давайте повод для злорадства недругам…”
Вторая записка адресована Маршалу Советского Союза С. Соколову. В ней содержится просьба к Соколову и генералу армии Лобову помочь в похоронах и не оставить членов семьи в тяжкие для них дни.
В третей записке содержится просьба о возвращении долга в кремлевскую столовую и подколота денежная купюра достоинством в 50 рублей.
Четвертая записка безадресная: “Не могу жить, когда гибнет мое Отечество и уничтожается все, что я считал смыслом в моей жизни. Возраст и прошедшая моя жизнь дают мне право уйти из жизни. Я боролся до конца”.
Последняя записка лежала отдельно: “Я плохой мастер готовить орудия самоубийства. Первая попытка (в 9.40) не удалась – порвался тросик. Собираюсь с силами все повторить вновь…”
Графологическая экспертиза установила: все записки написаны рукой Ахромеева…»
«…младшая дочь Наталья, с семьей которой Ахромеев провел последнюю ночь, рассказала: “Еще до августа мы не раз спрашивали у отца: “У нас возможен государственный переворот?”. Многие были недовольны тем, как пошла горбачевская перестройка – его болтовней, слабостью, односторонними уступками в советско-американских переговорах по разоружению, ухудшающимся экономическим положением страны. Но отец эти разговоры не любил, он был уверен: “Никакого государственного переворота не будет. Если бы армия захотела сделать переворот, то у нее на это ушло бы два часа. Но в России ничего силой не добьешься. Убрать неугодного руководителя – не самая большая проблема. А вот что делать дальше?”
23 августа Ахромеев вернулся с работы не поздно. Ужинала семья вместе. Купили большой арбуз и долго сидели за столом. Отец, по словам дочери, был откровенен. Признался, что ждет ареста. Никто в Кремле к нему не подходит и не разговаривает. “Я понимаю, – говорил он, – вам будет трудно, сейчас на нашу семью обрушится столько грязи. Но иначе поступить я не мог”. Дочь задала ему вопрос: “Ты не жалеешь, что прилетел в Москву?”. Ахромеев ответил: “Если бы я этого не сделал, я проклинал бы себя всю жизнь”.
Перед сном Ахромеев пообещал внучке, что завтра поведет ее в парк на качели. Беспокоился, кто встретит жену, которая утром должна была прилететь из Сочи. Просил, чтобы ему сразу сообщили о ее прилете. Заказал для нее в кремлевском гараже машину…
Дочь позвонила отцу утром в 9.35. Голос у него был обычный… Зная характер отца, в самоубийство дочь не верит…»
Из последних записей
«…Я присягал Союзу Советских Социалистических Республик… и всю жизнь ему прослужил. Так что теперь я должен делать? Кому я должен служить? Так, пока я живой, пока я дышу, я и буду бороться за Советский Союз…»
«Все теперь превращают в черноту… Отрицается все, что происходило в стране после Октябрьской революции… Да, тогда был Сталин, был сталинизм. Да, тогда были репрессии, насилие над народом, я этого не отрицаю. Все это было. И тем не менее, это нужно исследовать и оценить объективно и справедливо. Меня, например, в этом убеждать нечего, я сам родом оттуда, из этих годов. Я сам видел, как люди работали, с какой верой… Задача не в том, чтобы что-то сгладить или спрятать. Прятать, скрывать нечего. На фоне того, что произошло в стране и о чем все уже знают, какие могут быть игры в прятки? Но войну с фашизмом мы выиграли, а не проиграли. У нас есть Победа.
Я помню тридцатые годы… Выросли такие, как я. Десятки миллионов. И мы строили социализм сознательно. Мы готовы были на любые жертвы. Я не согласен, что в предвоенные годы существовал только сталинизм, как пишет генерал Волкогонов. Он – антикоммунист. Но сегодня у нас слово “антикоммунист” уже не является ругательным. Я – коммунист, он – антикоммунист. Я – антикапиталист, а он – не знаю, кто: защитник капитализма или нет? Это не более, чем обычная констатация факта. И идейный спор. Меня не только критикуют, но откровенно ругают за то, что я называю его “перевертышем”… До недавнего времени Волкогонов защищал советский строй, коммунистические идеалы вместе со мной. И вдруг резкий поворот. Пусть скажет, почему он изменил военной присяге…
Многие утратили сегодня веру. Первым среди них я назвал бы Бориса Николаевича Ельцина. Российский президент ведь был секретарем ЦК КПСС, кандидатом в члены Политбюро. А сейчас вот открыто говорит, что не верит в социализм и коммунизм, считает неправильным все, что делали коммунисты. Стал воинствующий антикоммунист. Есть и другие. Их, кстати, не так уж мало. Но вы-то обращаетесь ко мне… Я в принципе не согласен… Я вижу угрозу существованию нашей страны, она – наяву. Она ныне такая же, как в сорок первом году…»
«СССР в 70-е годы производил в 20 раз больше танков, чем США.
Вопрос Г. Шахназарова, помощника генсека КПСС М. Горбачева (1980-е годы): “Зачем надо производить столько вооружений?”.
Ответ начальника Генштаба С. Ахромеева: “Потому что ценой огромных жертв мы создали первоклассные заводы, не хуже, чем у американцев. Вы что, прикажете им прекратить работу и производить кастрюли?”».
«На девятый день работы Первого Съезда народных депутатов СССР в зале появились листовки, в них сообщалось, что Сахаров в интервью одной из канадских газет заявил: “Во время афганской войны с советских вертолетов расстреливали попавших в окружение своих же солдат, чтобы те не могли сдаться в плен”…
На трибуне первый секретарь Черкасского горкома комсомола, ветеран афганской войны С. Червонопиский, у него нет ног, ему помогают дойти до трибуны. Он зачитывает обращение ветеранов-афганцев: “Господин Сахаров утверждает, что есть сведения о расстреле советскими вертолетами советских же солдат… Нас серьезно беспокоит беспрецедентная травля Советской Армии в средствах массовой информации. Мы до глубины души возмущены этой безответственной, провокационной выходкой известного ученого. Это злонамеренный выпад против нашей армии, унижение ее чести и достоинства, очередная попытка разорвать священное единство армии, народа и партии… (Овации.) В зале более 80 процентов коммунистов. Но ни от кого, в том числе и в докладе товарища Горбачева, не прозвучало слово – коммунизм. Но три слова, за которые, я считаю, всем миром нам надо бороться, я сегодня назову – это: Держава, Родина, Коммунизм…”
Аплодисменты. Все депутаты встают – кроме демократов и митрополита Алексия.
Учительница из Узбекистана:
“Товарищ академик! Вы одним своим поступком перечеркнули всю свою деятельность. Вы нанесли оскорбление всей армии, всем нашим павшим. И я высказываю всеобщее презрение вам…”
Маршал Ахромеев:
“То, что сказал академик Сахаров – это ложь. Ничего подобного в Афганистане не было. Заявляю это с полной ответственностью. Во-первых, я два с половиной года прослужил в Афганистане, во-вторых, будучи первым заместителем начальника Генштаба, а потом начальником Генштаба, каждый день занимался Афганистаном, знаю каждую директиву, каждый день боевых действий. Не было!”».
«– Товарищ маршал, какие чувства вы испытываете, зная, что звание Героя Советского Союза получили за Афганистан? Академик Сахаров озвучил цифру: потери афганского народа – один миллион человек…
– Вы думаете, я счастлив, что получил Звезду Героя? Приказ я выполнял, но там одна кровь… грязь… Я не раз говорил, что военное руководство было против этой войны, понимая, что нас втянут в боевые действия в трудных, незнакомых условиях. Против СССР поднимется весь восточный исламизм. Мы потеряем лицо в Европе. Нам было жестко сказано: “С каких это пор генералы в нашей стране стали лезть в политику?”. Мы проиграли борьбу за афганский народ… Но в этом нет вины нашей армии…»
«…Докладываю о степени моего участия в преступных действиях так называемого “Государственного комитета по чрезвычайному положению…”.
6 августа с. г. по Вашему распоряжению я убыл в отпуск в военный санаторий г. Сочи, где находился до 19 августа. До отъезда в санаторий и в санатории до утра 19 августа мне ничего не было известно о подготовке заговора. Никто, даже намеком, мне не говорил о его организации и организаторах, то есть в его подготовке и осуществлении я никак не участвовал. Утром 19 августа, услышав по телевидению документы указанного “Комитета”, я самостоятельно принял решение лететь в Москву. В 8 часов вечера я встретился с Янаевым Г. И. Сказал ему, что согласен с программой, изложенной “Комитетом” в его Обращении к народу, и предложил ему начать работу с ним в качестве советника и. о. Президента СССР. Янаев Г. И. согласился с этим, но, сославшись на занятость, определил время следующей встречи примерно в 12 часов 20 августа. Он сказал, что у “Комитета» не организована информация об обстановке и хорошо, если бы я занялся этим…
Утром 20 августа я встретился с Баклановым О. Д., который получил такое же поручение. Решили работать по этому вопросу совместно… Собрали рабочую группу из представителей ведомств и организовали сбор и анализ обстановки. Практически эта рабочая группа подготовила два доклада: к 9 вечера 20 августа и к утру 21 августа, которые были рассмотрены на заседании “Комитета”.
Кроме того, 21 августа я работал над подготовкой доклада Янаева Г. И. на Президиуме Верховного Совета СССР. Вечером 20 августа и утром 21 августа я участвовал в заседаниях “Комитета”, точнее, той его части, которая велась в присутствии приглашенных. Такова работа, в которой я участвовал 20 и 21 августа с. г. Кроме того, 20 августа, примерно в 3 часа дня, я встречался в министерстве обороны с Язовым Д. Т. по его просьбе. Он сказал, что обстановка осложняется, и выразил сомнение в успехе задуманного. После беседы он попросил пройти с ним вместе к заместителю министра обороны генералу Ачалову В. А., где шла работа над планом захвата здания Верховного Совета РСФСР. Он заслушал Ачалова В. А. в течение трех минут только о составе войск и сроках действий. Я никому никаких вопросов не задавал…
Почему я приехал в Москву по своей инициативе – никто меня из Сочи не вызывал – и начал работать в “Комитете”? Ведь я был уверен, что эта авантюра потерпит поражение, а приехав в Москву, еще раз убедился в этом. Дело в том, что, начиная с 1990 года, я был убежден, как убежден и сегодня, что наша страна идет к гибели. Вскоре она окажется расчлененной. Я искал способ громко заявить об этом. Посчитал, что мое участие в обеспечении работы “Комитета” и последующее связанное с этим разбирательство даст мне возможность прямо сказать об этом. Звучит, наверное, неубедительно и наивно, но это так. Никаких корыстных мотивов в этом моем решении не было…»
«…Горбачев дорог, но Отечество дороже! Пусть в истории хоть останется след – против гибели такого великого государства протестовали. А уже история оценит, кто прав, а кто виноват…»
Из записной книжки. Август. 1991 г.
(Фамилию и свою должность в аппарате Кремля просил не называть)
Это был редкий свидетель. Из святая святых – из Кремля, главной цитадели коммунизма. Свидетель из той жизни, которая была от нас скрыта. Охранялась, как жизнь китайских императоров. Земных богов. Уговаривала я его долго.
Из наших телефонных разговоров
…При чем тут история? «Жареные» факты вам подавай, что-нибудь остренькое, с запашком? На кровь, на мясо все бегут. Смерть – уже товар. Всё на рынок несут. Обыватель будет в восторге… впрыснет себе адреналинчика… Не каждый день империя валится. Лежит мордой в грязь! В кровь! И не каждый день Маршал империи кончает жизнь самоубийством… вешается в Кремле на батарее парового отопления…
…почему он ушел? Его страна ушла, и он ушел вместе с ней, он больше себя здесь не видел. Он… я так думаю… уже представил, как все будет. Как разгромят социализм. Болтовня закончится кровью. Грабиловкой. Как станут валить памятники. Советские боги пойдут на металлолом. В утильсырье. Начнут грозить коммунистам Нюрнбергом… А судьи – кто? Одни коммунисты судили бы других коммунистов – те, кто вышел из партии в среду, судили бы тех, кто вышел из партии в четверг. Как переименуют Ленинград… колыбель революции… Как станет модно материть КПСС, и все начнут ее материть. Как будут ходить по улицам с плакатами: «КПСС – капут!», «Правь, Борис!». Многотысячные демонстрации… Какой восторг на лицах! Страна гибла, а они были счастливы. Крушить! Валить! Для нас это всегда праздник… Праздничек! Дали бы только команду «Фас!». Начались бы погромы… «Жидов и комиссаров к стенке!» Народ этого ждал. Был бы рад. Устроили бы охоту на стариков-пенсионеров. Я сам находил на улице листовки с адресами руководящих работников ЦК – фамилия, дом, квартира, а их портреты расклеивали везде, где только можно. Чтобы в случае чего – узнали. Из своих кабинетов партноменклатура бежала с полиэтиленовыми пакетами. С авоськами. Многие боялись ночевать дома, прятались у родственников. Информация у нас была… Знали, как все происходило в Румынии… Расстреляли Чаушеску с женой и пачками увозили и ставили к стенке чекистов, партийную элиту. Засыпали во рвах… (Долгая пауза.) А он… он был идеалистический, романтический коммунист. Верил в «сияющие вершины коммунизма». В буквальном смысле. В то, что коммунизм пришел навсегда. Нелепое сегодня это признание… идиотское… (Пауза.) То, что начиналось, он не принимал. Видел, как зашевелились молодые хищники… пионеры капитализма… Не с Марксом и не с Лениным в голове, а с долларом…
…Что это за путч, когда не стреляют? Армия трусливо бежала из Москвы. После ареста членов ГКЧП он ждал, что скоро придут и за ним, поведут в наручниках. Из всех помощников и советников президента он один поддержал «путчистов». Поддержал открыто. Остальные выжидали. Пережидали. Бюрократический аппарат – это машина с большой способность к маневрированию… К выживанию. Принципы? У бюрократии нет убеждений, принципов, всей этой мутной метафизики. Главное – усидеть в кресле, чтобы как носили, так и несли, барашка в бумажке, щенков борзых. Бюрократия – наш конек. Еще Ленин говорил, что бюрократия страшнее Деникина. Ценится только одно – личная преданность, и не забывай, кто твой хозяин, с чьей руки кормишься. (Пауза.) Никто про ГКЧП правды не знает. Все врут. Так… вот… На самом деле, была затеяна большая игра, тайных пружин и всех ее участников мы не знаем. Туманная роль Горбачева… Что он сказал журналистам, когда вернулся из Фороса? «Всего я вам все равно никогда не скажу». И ведь не скажет! (Пауза.) И, может быть, это тоже одна из причин, почему он ушел. (Пауза.) Стотысячные демонстрации… это сильно действовало… Трудно было сохранить нормальное состояние… Не за себя он боялся… Не мог смириться с тем, что скоро все будет утоптано, забетонировано: советский строй, великая индустриализация… великая Победа… И окажется, что и «Аврора» не стреляла, и штурма Зимнего не было…
…Ругают времена… Время наше подлое. Пустое. Все завалено тряпками и видиками. Где великая страна? Случись что, никого мы сегодня не победим. И Гагарин не полетит.
Совершенно неожиданно в конце одного нашего разговора я, наконец, услышала: «Хорошо, приходите». Мы встретились на следующий день у него дома. Он был в черном костюме и галстуке, несмотря не жару. Кремлевская униформа.
– А были вы у… (Называет несколько известных фамилий.) А… (Еще одно имя, которое давно у всех на слуху.) Их версия – убили! – я в это не верю. Вроде как ходят слухи о каких-то свидетелях… фактах… Шпагат, мол, не тот, тонкий он, им можно только задушить, и ключ в кабинете снаружи был оставлен… Всякое говорят… Люди любят дворцовые тайны. Я вам скажу другое: свидетели тоже управляемы. Это не роботы. Ими телевидение управляет. Газеты. Друзья… корпоративные интересы… У кого истина? Я так понимаю, что истину ищут специально обученные люди: судьи, ученые, священники. Остальные все во власти своих амбиций… эмоций… (Пауза.) Я читал ваши книги… Зря вы так доверяете человеку… человеческой правде… История – это жизнь идей. Не люди пишут, а время пишет. А человеческая правда – это гвоздь, на который каждый вешает свою шляпу.
…Начать надо с Горбачева… Без него жили бы мы до сих пор в СССР. Ельцин был бы первым секретарем обкома партии в Свердловске, а Егор Гайдар правил бы статьи по экономике в газете «Правда» и верил в социализм. А Собчак читал бы лекции в Ленинградском университете… (Пауза.) СССР еще надолго бы хватило. Колосс на глиняных ногах? Ерунда полная! Мы были могущественной сверхдержавой, диктовали свою волю многим странам. Та же Америка нас боялась. Женских колготок не хватало и джинсов? Чтобы победить в атомной войне, нужны не колготки, а современные ракеты и бомбардировщики. У нас они были. Первоклассные. В любой войне мы бы победили. Русский солдат не боится умирать. Тут мы азиаты… (Пауза.) Сталин создал государство, которое невозможно было пробить снизу, оно было непробиваемое. А сверху – уязвимое, беззащитное. Никто не думал, что разрушать его начнут сверху, на путь предательства встанет высшее руководство страны. Перерожденцы! Генсек окажется главным революционером, засевшим в Кремле. Сверху это государство разрушить было легко. Жесткая дисциплина и иерархия в партии сработали против нее. Случай уникальный в истории… Как… если бы Римскую империю начал разрушать сам Цезарь… Нет, Горбачев не пигмей, и не игрушка в руках обстоятельств, и не агент ЦРУ… Кто же он?
«Могильщик коммунизма» и «предатель Родины», «нобелевский триумфатор» и «советский банкрот», «главный шестидесятник» и «лучший немец», «пророк» и «Иудушка», «великий реформатор» и «великий артист», «великий Горби» и «Горбач», «человек века» и «Герострат»… Все об одном человеке.
…К самоубийству Ахромеев готовился несколько дней: две предсмертные записки написаны 22-го, одна – 23-го и последние – 24-го августа. А что произошло в этот день? Именно 24-го августа по радио и телевидению передали заявление Горбачева о сложении с себя полномочий Генерального секретаря ЦК КПСС и его призыв к самороспуску партии: «Надо принять трудное, но честное решение». Генсек ушел без борьбы. Не обратился к народу и миллионам коммунистов… Предал. Сдал всех. Могу догадаться, что пережил в эти минуты Ахромеев. Не исключено, вполне вероятно, что по дороге на работу он увидел, как спускали флаги с государственных учреждений. С башен Кремля. Какие могли быть у него чувства? Коммуниста… фронтовика… Вся его жизнь потеряла смысл… Я не могу представить его в сегодняшней нашей жизни. Не советской. Сидящим в президиуме под российским триколором, а не под красным флагом. Не под портретом Ленина, а под царским орлом. Не вписывается он никак в новый интерьер. Это был советский Маршал… понимаете… Со-вет-ский!! Только так, а не иначе. Только…
В Кремле ему было неуютно. «Белая ворона»… «солдафон»… Так он и не прижился, говорил, что «искренне бескорыстное товарищество бывает только в войсках». Всю… вот… всю свою жизнь он прожил с армией. С армейскими людьми. Полвека. Военную форму надел в семнадцать лет. Это – срок! Жизнь! В кремлевский кабинет переехал после отставки с поста начальника Генштаба. Рапорт написал сам. С одной стороны, он считал, что надо вовремя уходить (насмотрелись катафалков), давать дорогу молодым, а с другой – у него начались конфликты с Горбачевым. Тот армию не любил, как и Хрущев, который генералов и вообще военных иначе как дармоедами не называл. Страна у нас была военная, процентов семьдесят экономики так или иначе обслуживало армию. И лучшие умы тоже… физики, математики… Все работали на танки и бомбы. Идеология тоже военная. А Горбачев был сугубо штатский человек. У прежних генсеков позади война, а у него философский факультет Московского университета. «Вы собираетесь воевать? – спрашивал он у военных. – Я не собираюсь. А генералов и адмиралов у нас только в одной Москве больше, чем во всем мире». Раньше никто так с военными не разговаривал, они были главные люди. Не министр экономики первым докладывал на Политбюро, а министр обороны: сколько выпустили военного вооружения, а не видеомагнитофонов. Поэтому видеомагнитофон у нас стоил как квартира. А тут все меняется… И конечно, военные восстали. Нам нужна большая и сильная армия, у нас территория вон какая! – граница с половиной мира. С нами считаются, пока мы сильны, а станем слабыми, никакое «новое мышление» никого ни в чем не убедит. Лично Ахромеев много раз ему докладывал… Тут главное расхождение между ними… О мелких конфликтах, ни о чем таком я сейчас вспоминать не буду. Из выступлений Горбачева исчезли знакомые каждому советскому человеку слова: «происки международного империализма», «ответный удар», «заокеанские воротилы»… Все это он вычеркивал. Были у него только «враги гласности» и «враги перестройки». У себя в кабинете матерился (мастак был!) и называл их мудаками. (Пауза.) «Дилетант», «русский Ганди»… Не самое обидное из того, что носилось в кремлевских коридорах. «Старые зубры», конечно, в шоке, чуяли беду: сам утонет, и всех потопит. Для Америки мы – «империя зла», нам угрожают крестовым походом… «звездными войнами»… А наш главнокомандующий вроде буддистского монаха: «мир как общий дом», «перемены без насилия и крови», «война больше не является продолжением политики» и т. д. Ахромеев долго боролся, но устал. Первое время он думал, что это неправильно докладывают наверх, обманывают, потом понял, что это – предательство. И подал рапорт. Горбачев отставку принял, но от себя не отпустил. Назначил военным советником.
…Опасно было трогать эту конструкцию. Сталинскую… советскую… называйте, как угодно… Наше государство всегда существовало в мобилизационном режиме. С первых дней. На мирную жизнь оно не рассчитано. Опять же… Думаете, мы не могли наштамповать модных женских сапожек и красивых лифчиков? Пластмассовых «видиков». В два счета. Но у нас цель была другая… А народ? (Пауза.) Народ простых вещей ждет. Изобилия пряников. И – царя! Горбачев не захотел быть царем. Отказался. А взять Ельцина… Когда он почувствовал в 93-м году, что президентское кресло под ним закачалось, он не растерялся и дал команду стрелять по Парламенту. Коммунисты в 91-м побоялись стрелять… Горбачев отдал власть без крови… А Ельцин палил из танков. Устроил бойню. Так… вот… И его поддержали. Страна у нас царская по менталитету, по подсознанию. По генам. Всем царь нужен. Ивана Грозного (в Европе его прозвали «ужасным»), который залил русские города кровью и проиграл Ливонскую войну, вспоминают со страхом и восхищением. Как и Петра Первого, и Сталина. А Александра Второго Освободителя… царя, даровавшего России свободу… убили… Это у чехов может быть Вацлав Гавел, а нам нужен не Сахаров, а царь. Царь-батюшка! Генсек или президент – у нас все равно это царь. (Долгая пауза.)
Показывает мне свой блокнот с цитатами из сочинений марксистских классиков. Записываю себе одну ленинскую цитату: «Я согласен жить в свином хлеву – только была бы в нем – советская власть». Признаюсь, что и я Ленина не читала.
…Ну а это другая… другая сторона… Для разрядки… У нас разговор, как говорится, в узком кругу, за столиком. В Кремле был свой повар. Все члены Политбюро заказывали ему селедочку, сало, черную икру, а Горбачев все больше нажимал на каши. Салатики. Черную икру просил ему не подавать: «Икра под водочку хорошо идет, а я не пью». Диеты у них с Раисой Максимовной, разгрузочные дни. Ни на кого из прежних генсеков он не был похож. Совсем не по-советски, нежно любил свою жену. Гуляли они, держась за руки. А Ельцин, к примеру, с утра просит стопочку и огурчик. Вот это – по-русски. (Пауза.) Кремль – террариум. Я расскажу… Только печатайте без моей фамилии… анонимно дайте информацию… Уже я на пенсии… Ельцин набрал свою команду, «горбачевцев» вымели, так или иначе всех убрали. Поэтому и сижу с вами, что пенсионер, а так бы молчал как партизан. Диктофона не боюсь, но он мне мешает. Привычка, знаете. Нас просвечивали, как на рентгене… (Пауза.) Вроде бы мелочь, но это характеризует человека… Ахромеев переехал в Кремль и сразу же отказался от повышенного в несколько раз оклада. Попросил оставить ему тот, который у него был: «Мне хватает». Кто из нас донкихот? И кто, скажите, считает донкихота нормальным? Когда было издано постановление ЦК КПСС и правительства (началась борьба с привилегиями) об обязательной сдаче зарубежных подарков дороже 500 рублей в доход государства, он оказался первым и одним из немногих, кто это постановление выполнял. Кремлевские нравы… Служить, прогибаться, знать, на кого настучать, а кому вовремя подхихикнуть. С кем поздороваться, а кому слегка кивнуть. Все вперед просчитывать… Где вам дали кабинет? Рядом с президентом – на одном этаже? Если нет – вы не человек… Так… мелкая сошка… Какие у вас стоят телефоны? «Вертушка» есть? А телефон с надписью «Президент» для прямой связи с «самим»? Дают ли вам машину из гаража особого назначения?..
…Читаю Троцкого «Моя жизнь». Там хорошо показана кухня революции… Все сейчас засели за Бухарина. Его лозунг «Обогащайтесь, накапливайте» пришелся ко двору. В самый раз. Бухарчик (как окрестил его Сталин) предлагал «врастать в социализм», Сталина называл Чингисханом. Но тоже фигура неоднозначная… Готов был, как все, бросать людей в топку мировой революции, не считая. Воспитывать расстрелами. Это не Сталин первый придумал… Все они военные люди – после революции, после гражданской войны. После крови… (Пауза.) У Ленина есть замечание, что революции приходят тогда, когда они сами этого хотят, а не кто-то хочет. Да… вот… так… Перестройка… гласность… Всё мы упустили из рук… Почему? В высших эшелонах власти было немало умных людей. Читали Бжезинского… Но представление было такое: подремонтируем, подмажем и дальше поедем. Не знали, до какой степени нашим людям надоело все советское. Сами мало верили в «светлое будущее», но верили, что народ верит… (Пауза.) Нет… Ахромеева не убили… Отбросим конспирологические теории… Самоубийство – это был его последний аргумент. Уходя, он все-таки сказал о главном: летим в бездну. Была огромная страна, эта страна выиграла страшную войну – и вот она рушится. Китай не рухнул. И Северная Корея, где люди мрут от голода. И маленькая социалистическая Куба стоит, а мы исчезаем. Нас взяли не танками и ракетами, а разрушили то, чем мы были больше всего сильны. Наш дух. Сгнила система, сгнила партия. И может быть, именно поэтому… это тоже одна из причин его ухода…
…Родился он в глухой мордовской деревне, рано лишился родителей. Ушел на войну курсантом военно-морского училища. Добровольцем. День Победы встретил в госпитале – полное нервное истощение, весил тридцать восемь килограммов. (Пауза.) Победила измученная, больная армия. Истощенная, кашляющая. С радикулитами, артритами… язвенной болезнью желудка… Я такой ее помню… Мы с ним из одного поколения – люди войны. (Пауза.) От курсанта он поднялся до самых вершин военной пирамиды. Советская власть дала ему все: высшее воинское звание Маршала, Звезду Героя, Ленинскую премию… Не наследному принцу, а мальчику из простой крестьянской семьи. С глухой окраины. И тысячам таких, как он, дала она шанс. Бедным… маленьким людям… И он любил советскую власть.
Звонок в дверь. Заходит кто-то из знакомых. Что-то долго обсуждают в прихожей. Когда N. возвращается, я вижу: он немного расстроен и говорит уже не так охотно, но потом, к счастью, снова увлекается.
– Мы вместе работали… звал к нам… Отказался: это партийная тайна, и разглашать ее нельзя. Зачем подпускать к ней чужих (Пауза.) Я не был другом Ахромеева, но я его знал много лет. Никто не пошел на крест ради спасения страны. Один он. А мы стали хлопотать о персональных пенсиях и сохранении за нами государственных дач. Не могу промолчать…
…До Горбачева наших лидеров народ видел только на трибуне мавзолея: ондатровые шапки и каменные лица. Анекдот: «Почему исчезли ондатровые шапки?» – «Потому что номенклатура размножается быстрее, чем ондатра». (Смеется.) Нигде столько не рассказывали анекдотов, как в Кремле. Политических анекдотов… антисоветских… (Пауза.) Перестройка… Точно не помню, но мне кажется, что первый раз я услышал это слово за границей от иностранных журналистов. У нас чаще говорили: «ускорение» и «ленинский путь». А за границей начался горбачевский бум, весь мир заболел «горбиманией». Там перестройкой называли все, что у нас происходило. Все перемены. Если по улице ехал кортеж с Горбачевым, стояли тысячи людей вдоль дороги. Плач, улыбки. Это все я помню… Нас полюбили! Исчез страх КГБ, а главное – объявлен конец ядерному безумию… И за это мир был нам благодарен. Десятки лет атомной войны боялись все, даже дети. Привыкли смотреть друг на друга из окопа. Через прицел… (Пауза.) В европейских странах стали учить русский язык… в ресторанах подавали русские блюда: борщ, пельмени… (Пауза.) Я десять лет проработал в США и Канаде. Вернулся домой в горбачевское время… Увидел много искренних, честных людей, желающих во всем участвовать. Я видел таких людей… когда полетел в космос Гагарин… Такие лица… У Горбачева было много единомышленников, но меньше всего их было среди номенклатуры. Цековской… обкомовской… «Курортный секретарь» – это за то, что взяли его в Москву из Ставрополя, где любили отдыхать генеральные секретари, члены Политбюро. «Минеральный секретарь» и «сокин сын» за антиалкогольную кампанию. Компромат накапливался: будучи в Лондоне, не посетил могилу Маркса… Случай небывалый! Вернулся из Канады, нахваливал всем, как там хорошо. И то хорошо, и это… а у нас… Понятно, что у нас… Кто-то не выдержал: «Михаил Сергеевич, и у нас так будет лет через сто». – «Ну, ты оптимист». Кстати, тыкал он всем… (Пауза.) Прочел у одного «демократического» публициста, что военное поколение… это значит – мы… слишком задержалось у власти. Победили, отстроили страну, и надо было уходить, потому что другого представления о жизни, кроме как жить по военным меркам, не имели. Из-за этого так отстали от мира… (Агрессивно.) «Чикагские мальчики»… «реформаторы в розовых штанишках»… Где великая страна? Если бы это была война, мы бы победили. Если бы война… (Долго успокаивается.)
…Но чем дальше, тем больше Горбачев напоминал проповедника, а не генсека. Стал телезвездой. Скоро всем надоело слушать его проповеди: «назад к Ленину»… «скачок в развитой социализм»… Возникал вопрос: а что тогда у нас построено – «недоразвитый социализм»? Что у нас… (Пауза.) Я помню, что за границей мы видели другого Горбачева, там он мало напоминал того Горбачева, которого знали дома. Там он чувствовал себя свободным. Удачно шутил, четко формулировал свои мысли. А дома интриговал, лавировал. И от этого казался слабым. Болтуном. Но слабым он не был. И трусом тоже. Все это – неправда. Холодный и искушенный политик. Почему два Горбачева? Будь он дома откровенным, как «за бугром», его бы «старики» в момент раскусили и съели. Есть еще одна причина… Он… я так думаю… давно перестал быть коммунистом… уже не верил в коммунизм… Тайно или подсознательно он был социал-демократом. Особо не афишировалось, но все знали, что в молодости он учился в Московском университете (МГУ) вместе с лидером Пражской весны Александром Дубчеком и его соратником Зденеком Млынаржем. Они дружили. Млынарж написал в своих воспоминаниях, что когда им прочитали на закрытом партсобрании в университете доклад Хрущева на Двадцатом съезде, они испытали такое потрясение, что всю ночь бродили по Москве. А утром на Ленинских горах, как когда-то Герцен и Огарев, поклялись всю жизнь бороться со сталинизмом. (Пауза.) Вся перестройка оттуда… Из хрущевской оттепели…
…Мы уже начинали эту тему… От Сталина и до Брежнева во главе страны стояли руководители, которые воевали. Пережили время террора. Их психология сложилась в условиях насилия. Постоянного страха. Не могли они забыть и сорок первый год… Позорное отступление Советской армии до Москвы. Как в бой солдат отправляли со словами: оружие добудете в бою. Людей не считали, а патроны считали. Нормально… Логично, что люди с такой памятью верили в то, что для победы над врагом надо клепать танки и самолеты. Чем больше, тем лучше. Вооружения в мире накопилось столько, что СССР и Америка могли убить друг друга тысячу раз. А оружие продолжали клепать. И вот пришло новое поколение… Вся горбачевская команда – это дети военных лет… В их сознание впечаталась радость мира… маршал Жуков, принимающий парад Победы на белом скакуне… Уже другое поколение… и другой мир… Первые не доверяли Западу, видели в нем врага, а вторые хотели жить, как на Западе. Конечно, «стариков» Горбачев пугал… Пугали его разговоры о «строительстве безъядерного мира» – прощай, послевоенная доктрина «равновесия страха», о том, что «в ядерной войне не может быть победителей» – значит, сворачиваем «оборонку», сокращаем армию. Первоклассные военные заводы станут кастрюли выпускать и соковыжималки… Так, что ли? Был момент, когда высший генералитет находился в состоянии почти войны против политического руководства. Против Генсека. Ему не могли простить потерю Восточного блока, наше бегство из Европы. Особенно из ГДР. Даже канцлер Коль был удивлен нерасчетливостью Горбачева: нам предлагали огромные деньги за уход из Европы, он отказался. Удивляла его наивность. Русская простота. Так хотелось ему, чтобы его любили… чтобы французские хиппи носили майки с его портретом… Интересы страны сдавались бездарно и позорно. Армию выводили в лес, в русское поле. Офицеры и солдаты жили в палатках. В землянках. Перестройка… как война… это не было похоже на возрождение…
На советско-американских переговорах по разоружению американцы всегда получали то, что хотели именно они. Ахромеев описывает в книге «Глазами маршала и дипломата», как шли дебаты по ракете «Ока» (на Западе ее именовали СС-23). Ракета новая, ни у кого больше такой не было, и американская сторона имела цель ее уничтожить. Но под условия договора она не попадала: уничтожению подлежали ракеты средней дальности от 1000 до 5500 км. и меньше – от 500 до 1000 км. Боевой радиус «Оки» – 400 км. Советский Генштаб предлагал американцам: что ж, давайте по-честному – запретим все ракеты в диапазоне не с 500, а с 400 до 1000 км. Но тогда американцам пришлось бы пожертвовать своей модернизированной ракетой «Лэнс-2» с дальностью 450–470 км. Долгая закулисная борьба… В тайне от военных Горбачев лично принял решение об уничтожении «Оки». Именно тогда Ахромеев сказал свою знаменитую фразу: «Может быть, нам сразу попросить политическое убежище в нейтральной Швейцарии и не возвращаться домой?». Не мог он участвовать в развале того, чему отдал всю свою жизнь… (Пауза.) Мир стал однополярным, теперь он принадлежит Америке. Мы стали слабыми, нас тут же задвинули на периферию. Превратили в третьеразрядную, побежденную страну. Во Второй мировой войне мы победили… Третью мировую проиграли… (Пауза.) Вот он… ему это было невыносимо…
…14 декабря 1989 года… Похороны Сахарова. На улицах Москвы тысячи людей. По милицейским сводкам, от семидесяти до ста тысяч. У гроба стоят Ельцин, Собчак, Старовойтова… Американский посол Джек Мэтлок написал в своих мемуарах, что присутствие этих людей на похоронах «символа русской революции», «главного диссидента страны» для него было закономерным, а удивился он, когда «увидел немного в стороне одинокую фигуру Маршала С. Ахромеева». При жизни Сахарова они были враги, непримиримые оппоненты. (Пауза.) Но Ахромеев пришел попрощаться. Из Кремля никого, кроме него, там не было… и из Генштаба…
…Дали немного свободы, и отовсюду сразу вылезло мурло мещанина. Для Ахромеева, аскета и бессребреника, это был удар. В самое сердце. Он не мог поверить, что у нас может быть капитализм. С нашими советскими людьми, с нашей советской историей… (Пауза.) У меня до сих пор перед глазами кадры: как по госдаче, где Ахромеев жил с семьей из восьми человек, бегает белокурая девица и кричит: «Посмотрите – два холодильника и два телевизора! А кто он такой, этот маршал Ахромеев, чтобы у него было два телевизора и два холодильника?» Сегодня молчат… ни звука… А все прежние рекорды по части дач, квартир, машин и прочих привилегий давно побиты. Роскошные автомобили, западная мебель в кабинетах, отдых не в Крыму, а в Италии… У нас в кабинетах стояла советская мебель и на машинах мы ездили на советских. Носили советские костюмы и ботинки. Хрущев из шахтерской семьи… Косыгин из крестьян… Все, как я уже говорил, с войны. Опыт жизни, конечно, ограниченный. Не только народ, но и лидеры жили за «железным занавесом». Все жили, как в аквариуме… (Пауза.) Опять же… может, это частная вещь, но послевоенная опала маршала Жукова была связана не только с ревностью Сталина к его славе, но и с количеством вывезенных из Германии ковров, мебели, охотничьих ружей, хранившихся у него на даче. Хотя все это добро влезло бы в две легковушки. Но большевик не может иметь столько барахла… По нынешним временам смешно… (Пауза.) Горбачев любил роскошь… В Форосе ему построили дачу… Мрамор из Италии, плитка из Германии… песок для пляжа из Болгарии… Ни один западный лидер не имел у себя ничего подобного. Крымская дача Сталина, если сравнить ее с горбачевской, напоминала общежитие. Генсеки менялись… особенно их жены…
Кто защищал коммунизм? Не профессора и не секретари ЦК… а ленинградский преподаватель химии Нина Андреева бросилась защищать коммунизм… Много шума наделала ее статья «Не могу поступиться принципами». Ахромеев тоже писал… выступал… Говорил мне: «Надо давать сдачи». Ему звонили по телефону, угрожали: «военный преступник» – это за Афганистан. Мало кто знал, что он был против афганской войны. И не вывозил из Кабула алмазы и другие драгоценные камни, картины из национального музея, как другие генералы. Его постоянно травили в печати… За то, что мешал «новым историкам», которым надо было доказать, что у нас ничего не было, позади – пустыня. И Победы – не было. А были заградотряды и штрафбаты. Войну выиграли зэки, это они под пулеметами дошли до Берлина. Какая Победа? Забросали Европу трупами… (Пауза.) Армию унижали и оскорбляли. Разве могла такая армия победить в девяносто первом? (Пауза.) И разве мог ее маршал это пережить?…
Похороны Ахромеева… У могилы стояли родные и несколько друзей. Не было военного салюта. Газета «Правда» не удостоила некрологом бывшего начальника Генштаба четырехмиллионной армии. Новый министр обороны Шапошников (бывший министр Язов сидел в тюрьме вместе с другими «путчистами»), кажется, в это время был озабочен тем, как вселиться в квартиру Язова, из которой срочно выгоняли его жену. Интересы шкурные… Но… я скажу… это важно… Членов ГКЧП можно обвинить в чем угодно, но не в преследовании личных целей. В корысти… (Пауза.) По кремлевским коридорам об Ахромееве – шепоток: «Не на ту лошадку поставил». Чиновники перебегали к Ельцину… (Переспрашивает.) Понятие чести? Не задавайте наивных вопросов… Нормальные люди выходят из моды… Статья-некролог появилась в американском журнале «Тайм». Написал ее адмирал Уильям Кроув, занимавший во времена Рейгана пост председателя Комитета начальников штабов США (соответствует нашему начальнику Генштаба). Они много раз встречались на переговорах по военным вопросам. И он уважал Ахромеева за его веру, хотя она ему была чужая. Враг поклонился… (Пауза.)
Только советский человек может понять советского человека. Другому бы я рассказывать не стал…
Из жизни после жизни
«1 сентября в Москве на Троекуровском спецкладбище для высокопоставленных лиц (филиал московского Новодевичьего кладбища) был похоронен Маршал Советского Союза С. Ф. Ахромеев.
В ночь с первого на второе сентября неизвестные раскопали могилу Ахромеева и его соседа по кладбищу – генерал-полковника Среднева, похороненного неделю назад. Следствие полагает, что могила Среднева была разрыта первой, видно, по ошибке… Мародеры унесли маршальскую форму Ахромеева с золотыми галунами… и маршальскую фуражку, которую по военной традиции приколачивают к гробу. А также многочисленные ордена и медали.
Следователи уверенно заявляют, что могилу Маршала Ахромеева осквернили не по политическим, а по коммерческим мотивам. Мундиры высших военачальников пользуются особым спросом у перекупщиков антиквариата. А уж маршальскую форму у них с руками оторвут…»
Из интервью на Красной площади
(декабрь 1997 года)
«Я – конструктор…
До августа девяноста первого года мы жили в одной стране, после августа в другой. До августа мою страну звали СССР…
Кто я? Я один из тех идиотов, кто защищал Ельцина. Стоял у Белого дома и готов был лечь под танк. Люди вышли на улицу на волне, на подъеме. Но умереть они готовы были за свободу, а не за капитализм. Я считаю себя человеком обманутым. Мне не нужен капитализм, к которому нас привели… подсунули… ни в какой форме – ни в американской, ни в шведской. Я не ради чьих-то «бабок» революцию делал. Мы кричали «Россия» вместо того, чтобы кричать «СССР». Мне жаль, что нас тогда не разогнали брандспойтами и не вкатили на площадь пару пулеметов. Надо было арестовать двести-триста человек, остальные бы забились по углам. (Пауза.) Где сегодня те, кто звал нас на площадь: «Долой кремлевскую мафию!», «Завтра – свобода!»? Сказать им нам нечего. Свалили на Запад, теперь там ругают социализм. Сидят в чикагских лабораториях… А мы… тут…
Россия… Об нее вытерли ноги. Каждый может дать ей по морде. Превратили в западную свалку поношенного тряпья, просроченных лекарств. Хлама! (Мат.) Сырьевой придаток, газовый краник… Советская власть? Она была не идеальная, но она была лучше того, что сейчас. Достойнее. В общем, социализм меня устраивал: не было ни чрезмерно богатых, ни бедных… бомжей и беспризорников… Старики могли прожить на свои пенсии, бутылки на улицах не собирали. Объедки. В глаза не заглядывали, не стояли с протянутой рукой… Сколько людей убила перестройка – еще надо посчитать. (Пауза.) Жизнь наша прежняя начисто снесена, не осталось камня на камне. Скоро с сыном не о чем будет поговорить. “Папа, Павлик Морозов – отморозок, а Марат Казей – чудик, – говорит мне мой сын, придя из школы. – А ты меня учил…” Я учил его, как учили меня. Правильно учил. “Это ужасное советское воспитание…” А “это ужасное советское воспитание” научило меня думать не только о себе, но и о других. О тех, кто слабее, о тех, кому плохо. Для меня героем был Гастелло, а не эти… в малиновых пиджаках… с философией, что своя рубашка ближе к телу, свой жир теплее, своя денежка звонче. “Не гони, папа, „духовку”” … “гуманистическая тюря”… Где его этому учат? Люди теперь другие… капиталистические… Понимаете! Он это впитывает, ему двенадцать лет. Я уже ему не пример.
Почему я защищал Ельцина? Одно только его выступление, что надо забрать привилегии у номенклатуры, дало ему миллионы сторонников. Я готов был взять автомат и стрелять коммунистов. Меня убедили… Мы не понимали, что нам готовят взамен. Подсовывают. Грандиозный обман! Ельцин выступил против “красных” и записал себя в “белые”. Это катастрофа… Вопрос: чего мы хотели? Мягкого социализма… человеческого… Что имеем? На улице – лютый капитализм. Стрельба. Разборки. Разбираются – кто ларечник, а кто владелец завода. Наверх вылезли бандиты… фарцовщики и менялы взяли власть… Вокруг враги и хищники. Шакалы! (Пауза.) Не могу забыть… я не могу забыть, как мы стояли возле Белого дома… Кому мы таскали каштаны из огня? (Мат.) Отец мой был настоящий коммунист. Правдивый. Работал парторгом на большом заводе. Участник войны. Я ему: “Свобода! Станем нормальной… цивилизованной страной…”. А он мне: “Твои дети будут служить у барина. Ты этого хочешь?”. Я молодой был… дурак… Смеялся над ним… Дико наивные мы были. Я не знаю, почему все так получилось. Не знаю. Не так, как мы хотели. У нас было другое в голове. Перестройка… в этом было что-то великое… (Пауза.) Через год закрыли наше проектное бюро, мы с женой оказались на улице. Как жили? Вынесли на рынок все ценные вещи. Хрусталь, советское золото и самое ценное, что у нас было – книги. Неделями ели одно картофельное пюре. Я занялся “бизнесом”. Продавал на рынке “бычки” – недокуренные сигареты. Литровая банка “бычков”… трехлитровая… Родители жены (вузовские преподаватели) собирали их на улице, а я продавал. И люди покупали. Курили. Я сам курил. Жена офисы убирала. Одно время у какого-то таджика пельменями торговали. За свою наивность мы все дорого заплатили. Мы все… Сейчас с женой кур разводим, она плачет без конца. Вернуть бы все обратно… И не надо кидать в меня ботинком… Это не ностальгия по серой колбасе за два рубля двадцать копеек…»
«Я – бизнесмен…
Коммунисты проклятые и гэбня… Я ненавижу коммунистов. Советская история – это НКВД, ГУЛАГ, СМЕРШ. Меня тошнит от красного цвета. Красных гвоздик… Жена купила красную блузку: “Ты что, с ума сошла!”. Я приравниваю Сталина к Гитлеру. И требую Нюрнберга для красных сук. Всем красным собакам – смерть!
Везде нас окружают пятиконечные звезды. Большевистские идолы как стояли, так и стоят на площадях. Я иду по улице с ребенком, он спрашивает: “Кто это?”. А это памятник Розе Землячке, которая кровью залила Крым. Лично любила расстреливать молодых белых офицеров… И я не знаю, что мне ребенку отвечать.
Пока мумия… советский фараон… будет лежать на Красной площади под капищем, будем страдать. Будем прокляты…»
«Я – кондитер…
Мой муж мог бы рассказать… Где он? – (Оглядывается по сторонам.) – А я – что? Пирожные леплю…
Девяносто первый год? Хорошие мы тогда были… Красивые… Не были толпой. Я видела, как человек плясал. Плясал и кричал: “Хунте – п…ц! Хунте – п…ц!”. (Закрывает лицо руками.) Ой, не записывайте! Ой-ой! Из песни слово не выкинешь, но слово-то непечатное. Не молодой это был мужчина… плясал… Мы их победили и радовались. А у них, говорят, уже расстрельные списки лежали наготове. Ельцин первый… Недавно я их всех по телевизору видела… хунту эту… Старые и не умные. А тогда три дня было жуткое отчаяние: неужели конец? Физический страх. Вот этот дух свободы… его все почувствовали… И страх – это потерять. Горбачев – великий человек… открыл шлюзы… Его любили, но недолго, скоро в нем стало раздражать все: как он говорит, что он говорит, его манеры, его жена. (Смеется.) По России мчится тройка: Райка, Мишка, перестройка. Взять вот Наину Ельцину… Ее любят больше, она всегда за спиной мужа. А Раиса норовила стать рядом, а то и впереди. А у нас так: либо ты сама царица, либо ты царю не мешай.
Коммунизм – как сухой закон: идея хорошая, но не работает. Так мой муж говорит… Красные святые… они были… взять Николая Островского… Святой! Но кровушки сколько пустили. Россия вычерпала свой лимит на кровь, на войны и революции… Для новой крови нет ни сил, ни какого-то сумасшествия. Люди вдоволь настрадались. Теперь ходят по рынкам – гардины и тюль выбирают, обои, сковородочки там всякие. Нравится все яркое. Потому что раньше все у нас было серое, некрасивое. Радуемся, как дети, стиральной машине с семнадцатью режимами. Моих родителей уже нет: мамы – семь, а папы – восемь лет, но я до сих пор пользуюсь спичками, которыми мама запаслась, и крупа лежит. И соль. Мама все покупала (тогда говорили не “покупала”, а “доставала”) и складывала на черный день… Теперь мы ходим по рынкам и магазинам, как по выставкам – всего навалом. Хочется себя побаловать, пожалеть. Это психотерапия… мы все больны… (Задумалась.) Как же надо было настрадаться, чтобы спичками так запастись. У меня язык не поворачивается назвать это мещанством. Вещизмом. Это лечение… (Молчит.) Чем дальше, тем меньше про путч вспоминают. Стали стесняться. Чувства победы уже нет. Потому как… я не хотела, чтобы уничтожалось советское государство. Как мы его разрушали! С радостью! А я половину своей жизни прожила там… Это нельзя взять и вычеркнуть… Согласитесь! У меня в голове все застроено по-советски. До чего-то другого еще доползти надо. Люди плохое мало теперь вспоминают, а гордятся Победой, тем, что мы первые полетели в космос. То, что магазины пустые были… Это забылось… и уже не верится…
Сразу после путча я поехала к деду в деревню… Приемник из рук не выпускала. Утром пошли грядки копать. Пять-десять минут пройдет, и я кидаю лопату: дед, ты послушай… Ельцин выступает… И опять: дед… иди ты сюда… Дед терпел-терпел и не выдержал: “Ты копай глубже и не слушай, что они там болтают. Наше спасение в земле – уродит картошка или не уродит”. Мудрый был дед. Вечером пришел сосед. Я им подбросила тему о Сталине. Сосед: “Хороший был человек, но долго жил”. Мой дед: “А я его, подлеца, пережил”. А я все с приемником ходила. Меня трясло от восторга. Самое большое горе – депутаты уходят на обед. Действие прерывалось.
…Что у меня есть? С чем я осталась? У меня есть огромная библиотека и фонотека – все! И у моей мамы, она кандидат химических наук, тоже книги и редкая коллекция минералов. К ней залез вор… Ночью она просыпается, а посреди квартиры (квартира однокомнатная) стоит молодой бугай. Открыл шкаф и вышвыривает все оттуда. Бросает вещи на пол со словами: “Интеллигенция проклятая… даже шубы приличной нет…”. Потом он просто хлопнул дверью и ушел. Брать-то ему нечего. Вот такая у нас интеллигенция. С этим мы остались. А вокруг кто-то строит коттеджи, покупает дорогие машины. Я сроду не видела бриллиант…
Жизнь в России – это беллетристика. Но я хочу жить тут… с советскими людьми… И смотреть советские фильмы. Пусть это ложь, пусть делались они по заказу, но я их обожаю. (Смеется.) Не дай бог, муж увидит меня по телевизору…»
«Я – офицер…
Теперь я… Прошу слова. (Молодой парень – лет двадцати пяти.) Записывайте: я – православный русский патриот. Служу Господу нашему. Служу с усердием… с помощью молитв… Кто продал Россию? Евреи. Безродные. От жида и Бог много раз плакал.
Мировой заговор… Мы имеем дело с заговором против России. План ЦРУ… И не хочу слушать… Не говорите мне, что это фальшивка! Молчать! План директора ЦРУ Аллена Даллеса… “Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России… Мы сделаем из молодых людей циников, пошляков, космополитов. Вот так мы сделаем…” Понятно? Евреи и америкосы – наши враги. Тупые янки. Речь президента Клинтона на закрытом совещании американской политической верхушки: “Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн посредством ядерной бомбы… Мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке…”. Доколе врагам нашим возноситься над нами? Иисус сказал: не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны. Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе…
Остановить его я не могу.
…В девяносто первом я окончил военное училище, получил две звездочки. Младшего лейтенанта. Гордился и форму не снимал. Советский офицер! Защитник! А после провала ГКЧП ездил на службу в штатском, а там переодевался. Любой дед мог подойти на автобусной остановке и спросить: “Что же ты Родину не защитил, сынок? Сукин сын! Ты же присягал”. Офицеры голодными служили. За офицерскую зарплату можно было купить килограмм дешевой колбасы. Уволился из армии. Было время – по ночам проституток охранял. Сейчас охранником служу в одной фирме. Жиды! Все беды от них… А русскому человеку хода нет. Христа они распяли… (Сует мне какую-то листовку.) Читайте… Ни милиция, ни армия собчаков и чубайсов… и немцовых… не защитит от справедливого народного гнева. “Хаим, ты слышал, что скоро будет погром?” – “А я не боюсь. Я по паспорту русский”. – “Дурак, бить будут по морде, а не по паспорту”. (Крестится.)
Русской земле – русский порядок! Имя Ахромеева, Макашова… и других героев… на наших знаменах! Господь нас не оставит…»
«Я – студент…
Ахромеев? А кто это? Что за персонаж?
– ГКЧП… августовская революция…
– Простите… Не в курсе…
– Сколько вам лет?
– Девятнадцать. Я политикой не интересуюсь. Далек от этих шоу. Но Сталин мне нравится. Это интересно. Сравните сегодняшних правителей с вождем в солдатской шинели. В чью пользу сравнение? То-то… Мне не нужна великая Россия. Я не надену глупые сапоги и не повешу на шею автомат. Я умирать не хочу! (Помолчал.) Русская мечта: чемодан в руки и на х…й из России! В Америку! Но уехать и работать там всю жизнь официантом не хочу. Думаю».
О милостыне воспоминаний и похоти смысла
Игорь Поглазов – ученик 8 класса, 14 лет
– Мне кажется, что это предательство… Я предаю свои чувства, предаю нашу жизнь. Наши слова предаю… Они были сказаны только кому-то из нас, а я впускаю в наш мир чужого человека. Хороший этот человек или плохой? – это уже не важно. Поймет или не поймет он меня… Помню, как на рынке стояла женщина и продавала яблоки, и всем рассказывала, как она сына похоронила. Тогда я себе поклялась: «Со мной этого никогда не будет». С мужем мы вообще молчим на эту тему, плачем, но каждый отдельно, чтобы другой не видел. Одно только слово, и я начинаю выть. Первый год вообще никак не могла утихнуть: зачем? Почему он это сделал? Хочу думать… Утешаю себя: он не собирался уходить от нас… хотел попробовать… заглянуть… В юности их волнует: что там? Особенно мальчиков это волнует… После смерти рылась в его тетрадях, в его стихах. Как ищейка рыскала. (Плачет.) За неделю до того воскресенья… стояла перед зеркалом, расчесывала волосы… Он подошел ко мне, обнял за плечи: мы стояли вдвоем, смотрели в зеркало и улыбались. «Игорек, – прижалась я к нему, – какой ты у меня красивый. А красивый ты потому, что от любви родился. От большой любви». Он еще сильнее обнял меня: «Мама, ты, как всегда, неподражаема». Меня бьет озноб от мысли: тогда у зеркала, он уже думал об этом или нет… он уже думал?
Любовь… Мне странно произносить это слово. Вспомнить, что есть любовь. А когда-то я думала, что любовь больше смерти… она сильнее всего… Мы с мужем познакомились в десятом классе. Мальчики из соседней школы пришли к нам на танцы. Наш первый вечер я не помню, потому что Валика, так зовут моего мужа, я не видела, а он меня заметил, но не подошел. Он даже моего лица не увидел, только силуэт. И как будто он голос откуда-то услышал: «Это твоя будущая жена». Так он мне потом признавался… (Улыбнулась.) А может, придумал? Он – фантазер. Но чудо всегда было с нами, и оно носило меня по земле. Я была веселая, по-сумасшедшему веселая, неудержимая – вот такая была. Я любила своего мужа, и мне нравилось кокетничать с другими мужчинами, это как игра: ты идешь, а на тебя смотрят, и тебе нравится, что смотрят, и пусть чуть-чуть влюбленно. «И зачем так много мне одной?» – часто напевала я вслед за своей любимой Майей Кристаллинской. Я мчалась по жизни, и теперь мне бывает жаль, что я не все запомнила, никогда уже теперь я не буду такая радостная. Чтобы любить, надо много сил, а я теперь другая. Я стала обыкновенная. (Молчит.) Иногда хочется… а чаще неприятно вспоминать себя прежнюю…
Игорьку три-четыре года… Купаю его: «Мама, я люблю тебя, как Цалевну Плекласную». С «р» мы долго сражались… (Улыбается.) Этим можно жить, теперь я этим живу. Милостыней воспоминаний… все крошки подбираю… Я – учительница русского языка и литературы в школе. Обычная домашняя картина: я – за книгами, он – в кухонном шкафчике. Пока выгребет из него кастрюли, сковородки, ложки, вилки, я и подготовлюсь к завтрашним занятиям. Подрос. Я сижу и пишу, и он тоже сидит за своим столиком и пишет. Рано научился читать. Писать. В три года мы заучивали наизусть Михаила Светлова: «Каховка, Каховка – родная винтовка… / Горячая пуля, лети!». Тут надо остановиться и рассказать подробнее… Я хотела, чтобы он рос мужественным, сильным, и подбирала ему стихи о героях, о войне. О Родине. И однажды моя мама меня ошарашила: «Вера, прекрати ему читать военные стихи. Он играет только в войну». – «Все мальчики любят играть в войну». – «Да, но Игорь любит, чтобы в него стреляли, а он падал. Умирал! Он с таким желанием, упоением падает, что мне бывает страшно. Кричит другим мальчикам: “Вы стреляете, а я падаю”. Никогда – наоборот». (После долгой паузы.) Почему я не послушала маму?
Дарила ему военные игрушки: танк, оловянных солдатиков, снайперскую винтовку… Он же мальчик, должен стать воином. Инструкция к снайперской винтовке: «снайпер должен убивать спокойно и выборочно… сначала хорошо “познакомиться” с целью…» Почему-то это считалось нормальным, никого не пугало. Почему? Психика у нас была военная. «Если завтра война, если завтра в поход…» Других объяснений не нахожу. Нет у меня других объяснений… Сейчас уже реже дарят детям сабельки… пистолетики… пиф-паф! А мы… Помню, как я удивилась, когда кто-то из учителей в школе рассказал, что в Швеции, что ли, запрещены военные игрушки. А как воспитать мужчину? Защитника? (Срывающимся голосом.) «На смерть, на смерть держи равненье, / певец и всадник бедный…» По какому поводу не соберемся… всегда… через пять минут вспомним войну. Часто песни военные пели. Есть ли еще где-нибудь такие люди, как мы? Поляки жили при социализме, и чехи, и румыны, но они все равно другие… (Молчит.) Не знаю теперь, как выжить. За что уцепиться? За что…
Срывается на шепот. А мне кажется, что она кричит.
…Закрою глаза: вижу, как он лежит в гробу… мы же были счастливы… почему он решил, что в смерти много красивого…
…Подруга повела меня к портнихе: «Ты должна пошить себе новое платье. Когда у меня депрессия я шью себе новое платье…»
…Во сне кто-то гладит, гладит меня по голове… Первый год убегала из дома в парк, там кричала… птицы пугались…
Ему десять лет, нет, наверное, одиннадцать… С двумя сумками еле добираюсь домой. После целого дня в школе. Вхожу. Оба на диване: один – с газетой, другой – с книжкой. В квартире кавардак, черт-те что! Гора немытой посуды! Меня встречают с восторгом! Я беру в руки веник. Баррикадируются стульями. «Выходите!» – «Никогда!» – «Бросьте на пальцах – кому первому всыпать?» – «Мамочка-девочка, не сердись», – вылезает первым Игорек, он уже ростом с отца. «Мамочка-девочка» – мое домашнее имя. Это он придумал… Летом обычно ездили на юг, «к пальмам, которые живут ближе всех к солнцу». (Радостно.) Слова вспоминаются… наши слова… Грели его гайморитный нос. До марта потом не вылезали из долгов, экономили: на первое – пельмени, на второе – пельмени и к чаю – пельмени. (Молчит.) Вспоминается какая-то яркая афиша… Раскаленный Гурзуф. И море… камни и песок, белые от волн и солнца… Осталось много фотографий, сейчас я прячу их от себя. Боюсь… сразу внутри все взрывается… Сразу – взрыв! Один раз поехали без него. Вернулись с полдороги. «Игорек! – врываемся в дом. – Ты едешь с нами. Мы без тебя не можем!» С криком «Ур-ра!!!» он повисает у меня на шее. (После долгой паузы.) Мы без него не можем…
Почему его не удержала наша любовь? Я когда-то верила, что любовь может все. Опять я… опять…
Это уже случилось… его уже с нами нет… Я долго находилась в состоянии столбняка. «Вера, – зовет муж. Я не слышу. – Вера…» Не слышу. И вдруг истерика! Я как заорала, как затопала ногами – на свою маму, мою любимую маму: «Ты уродина, уродина – толстовка! Таких же уродов, себе подобных, ты и воспитала! Что мы всю жизнь от тебя слышали? Надо жить для других… для высокой цели… Упасть под танк, сгореть за родину в самолете. Громыхающая революция… героическая смерть… Смерть всегда была красивее жизни. Мы выросли уродами и выродками. И Игорька я так воспитала. Это ты виновата во всем! Ты!». Мама съежилась и стала вдруг – маленькая-маленькая. Маленькая старушка. У меня закололо сердце. Впервые за много дней я услышала боль, до этого в троллейбусе поставили на ноги тяжелый чемодан – ничего не почувствовала. Ночью распухли все пальцы, и только тогда я вспомнила о чемодане. (В слезах.) Тут надо остановиться и рассказать о моей маме… Моя мама из поколения довоенной интеллигенции. Из тех людей, у которых блестели слезы на глазах, когда играли «Интернационал». Она пережила войну и всегда помнила, что советский солдат повесил красный флаг над Рейхстагом: «Наша страна такую войну выиграла!». Десять… двадцать… сорок лет… повторяла она нам это как заклинание. Как молитву… Это была ее молитва… «Мы ничего не имели, но были счастливы», – мамина убежденность в этом была абсолютной. Спорить бесполезно. Льва Толстого – «зеркало русской революции» – она любила за «Войну и мир», а еще за то, что граф хотел все раздать бедным, чтобы спасти душу. Такой была не только моя мама, но и все ее друзья – первые советские интеллигенты, выросшие на Чернышевском, Добролюбове, Некрасове… на марксизме… Представить картину, чтобы мама сидела и вышивала на пяльцах или как-то особенно украшала наш дом: фарфоровые вазочки, слоники там всякие… вы что! Это пустая трата времени. Мещанство! Самое важное – духовная работа… книги… Один костюм можно носить двадцать лет, а два пальто хватало на всю жизнь, но без Пушкина или без полного собрания сочинений Горького жить нельзя. Ты участвуешь в великом замысле, и великий замысел есть… Так они жили…
…В центре города у нас – старое кладбище. Много деревьев. Кусты сирени. Там гуляют, как в ботаническом саду. Стариков мало, а молодые смеются, целуются. Магнитофон включат… Возвращается он как-то поздно: «Где был?» – «Ходил на кладбище». – «С чего это ты вдруг забрел на кладбище?» – «Там интересно. Смотришь в глаза людей, которых уже нет».
…Открываю дверь в его комнату… Во весь рост он стоял на карнизе окна, карниз у нас непрочный, неровный. Шестой этаж! Замерла. Невозможно крикнуть, как в детстве, когда он залезал на самую тонкую верхушку дерева или на высокую старую стену разрушенной церкви: «Если почувствуешь, что не удержишься, рассчитывай свое падение на меня». Не закричала, не заплакала, чтоб не испугался. По стенке уползла обратно. Через пять минут, которые вечностью мне показались, снова захожу – он уже соскочил с карниза и ходит по комнате. Тут я на него набросилась: и целовала, и колотила, и трясла: «Зачем? Скажи мне, зачем?» – «Не знаю. Попробовал».
…Один раз возле соседнего подъезда с утра увидела траурные венки. Кто-то умер. Ну умер – и умер. Вернулась с работы и узнаю от отца, что он ходил туда. Спрашиваю: «Зачем? Там же незнакомые нам люди». – «Это была молодая девушка. Она лежала такая красивая. А я думал, что смерть страшная». (Молчит.) Кружил… куда-то за край его тянуло… (Молчит.) Но дверь та закрыта… туда нам нет доступа.
…Уткнется в колени: «Мама, а каким я был маленьким?». И я начинаю… Как он сторожил у двери деда Мороза. Спрашивал, на каком автобусе можно поехать в тридевятое царство в тридесятое государство. Увидел в деревне русскую печь, всю ночь ждал, когда она пойдет-поедет, как в сказке. Был очень доверчивый…
…На улице уже, помню, снег… Прибегает: «Мама! Я сегодня целовался!» – «Целовался?!» – «Да. У меня сегодня было первое свидание». – «И ты мне ничего не сказал?» – «Не успел. Сказал Димке и Андрею, и мы отправились втроем». – «Разве на свидание ходят втроем?» – «Ай, я один как-то не решился». – «Ну и как вы втроем были на свидании?» – «Очень хорошо. Мы с ней ходили вокруг горки под ручку и целовались. А Димка и Андрей стояли на страже». О Боже! «Мама, а может пятиклассник жениться на девятикласснице? Если, конечно, это любовь…»
…А вот это… это… (Долго плачет.) Об этом не могу…
…Любимый наш месяц – август. Едем за город и любуемся паутиной. Смеемся… смеемся… смеемся… (Молчит.) Что я все плачу? У нас же было целых четырнадцать лет… (Плачет.)
Жарю-парю на кухне. Окно открыто. Слышу, как они с отцом разговаривают на балконе. Игорь: «Папа, что такое – чудо? Кажется, я понял. Вот послушай… Жили были дед и баба, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, а золотое. Дед бил, бил – не разбил. Баба била, била – не разбила. Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба…». Отец: «С точки зрения логики – абсолютный абсурд. Били, били – не разбили, а потом вдруг – в плач! Но сколько лет, да что там лет – веков – сказку эту дети слушают, как стихи». Игорь: «А я, папа, раньше думал, что все можно понять умом». Отец: «Много вещей нельзя понять умом. Например, любовь». Игорь: «И смерть».
С детства сочинял стихи… На столе, в его карманах, под диваном я находила исписанные листочки. Терял, бросал их, забывал. Я даже не всегда верила, что они его: «Неужели это ты написал?» – «А что там?» Читаю: «Ходят в гости друг к другу люди, / Ходят в гости друг к другу звери…». – «Ну-у-у, это старое. Я уже забыл». – «А эти строки?» – «Какие?» Читаю: «Лишь на веточке обшарпанной / Капли звездные накапаны…». В двенадцать лет написал, что ему хочется умереть. Хочется любви и хочется умереть – два желания. «Мы с тобой повенчаны / Голубой водою…» Еще?! Вот: «Я не ваш, облака серебристые / Я не ваш, голубые снега…». Он же мне это читал. Читал! Но в юности часто пишут о смерти…
В нашем доме стихи звучали постоянно, как речь: Маяковский, Светлов… Мой любимый Семен Гудзенко: «Когда на смерть идут – поют, / а перед этим можно плакать. / Ведь самый страшный час в бою – / час ожидания атаки». Вы замечали? Ну да, конечно… Зачем спрашивать? Мы все в этом выросли… Искусство любит смерть, а наше особенно ее любит. Культ жертвы и гибели у нас в крови. Жизнь на разрыв аорты. «Эх, русский народец, не любит умирать своей смертью!» – писал Гоголь. И Высоцкий пел: «Хоть немного еще постою на краю…». На краю! Искусство любит смерть, но существует французская комедия. Почему же у нас почти нет комедий? «Вперед за Родину!», «Родина или смерть!». Я учила своих учеников: светя другим, сгораю сам. Учила подвигу Данко, который вырвал из груди свое сердце и освещал им путь другим людям. О жизни мы не говорили… мало говорили… Герой! Герой! Герой! Жизнь состояла из героев… жертв и палачей… Других людей не было. (Кричит. Плачет.) Для меня пытка сейчас – идти в школу. Дети ждут… они хотят слов и чувств… Что сказать… что я могу им сказать?
Все было… и было именно так… Поздний вечер, я уже в постели, читаю роман «Мастер и Маргарита» (он еще считался «диссидентским», мне его принесли перепечатанным на машинке). Дохожу до последних страниц… Помните, Маргарита просит отпустить Мастера, а Воланд, дух Сатаны, говорит: «Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже просил тот, с кем он так стремился разговаривать…». Какая-то непонятная сила бросила меня в другую комнату, к дивану, где спал сын. Я стала на колени и шептала, как молитву: «Игорек, не надо. Миленький мой, не надо. Не надо!» – Начала делать то, что мне уже было запрещено, как только он вырос: целовать его руки, ноги. Он открыл глаза: «Мама, ты чего?». Я тут же нашлась: «С тебя сползло одеяло. Я поправила». Заснул. А я… Что произошло со мной, я не поняла. Веселый, он дразнил меня «огневушка-поскакушка». Я легко бежала по жизни.
Приближался его день рождения… и Новый год… Кто-то из друзей пообещал достать нам бутылку шампанского, тогда же мы мало что могли купить в магазинах, все доставали. По блату. Через знакомых, через знакомых знакомых. Доставали копченую колбасу, шоколадные конфеты… Раздобыть килограмм мандаринов к Новому году – великая удача! Мандарин был не просто фрукт, а что-то такое диковинное, только Новый год пах мандаринами. Деликатесы к новогоднему столу собирали месяцами. На этот раз я припрятала баночку печени трески и кусочек красной рыбы. Все потом подали к поминальному столу… (Молчит.) Нет, я не хочу кончать свой рассказ так быстро. У нас было целых четырнадцать лет. Четырнадцать лет без десяти дней…
Как-то чистила антресоли и нашла там папку с письмами. Когда лежала в роддоме, мы с мужем каждый день писали друг другу письма, записочки, а то и несколько раз на день. Читала, смеялась… Игорю уже было семь лет… И он не мог понять, как это его не было, а мы с отцом были? То есть он как бы был, мы в письмах все время говорили о нем: вот ребеночек повернулся, вот он меня толкнул… шевелится… «Я один раз умер, а потом опять к вам пришел, да?» Я обомлела от его вопроса. Но дети… они иногда так говорят… как философы, как поэты… Надо было мне записывать за ним… «Мама, дедушка умер… это значит, что его закопали, и он растет…»
В седьмом классе у него уже появилась девочка… Влюбился серьезно. «Ты у меня не женишься ни на первой любви, ни на продавщице!» – грозила я. Я уже привыкала к мысли, что мне надо будет его с кем-то делить. Готовила себя. У моей подруги тоже сын, они с Игорем были одногодки, и подруга как-то мне призналась: «Я еще не знакома со своей невесткой, а уже ее ненавижу». Так она любит своего сына. Не может себе даже представить, что придется отдать его другой женщине. Что было бы у нас? Со мной? Не знаю… Я безумно… безумно его любила… Какой бы ни был трудный день, открываю дверь в дом – и откуда-то свет. Не откуда-то, а от любви.
У меня два страшных сна. Первый – мы с ним тонем. Он ведь хорошо плавал, однажды я рискнула поплыть вместе с ним далеко в море. Повернула обратно, чувствую, сил не хватает – ухватилась за него, да мертвой хваткой. Кричит: «Отпусти!» – «Не могу!» Вцепилась, на дно его тяну. Все-таки он оторвался и стал меня подталкивать к берегу. Поддерживает и подталкивает. Так мы с ним выплыли. Во сне все повторяется, но я его не отпускаю. Мы и не тонем, и не выплываем. Идет такая схватка в воде… Второй сон – начинается дождь, но я чувствую, что это не дождь, а земля сыплется. Песок. Начинает идти снег, но я уже по шороху слышу, что это не снег, а земля. Лопата стучит, как сердце, шох-шох, шох-шох…
Вода… вода его завораживала… Любил озеро, речку, колодцы. Особенно – море. У него много стихов о воде. «Только тихая звезда побелела, как вода. Темнота». Еще: «И вода течет одна… Тишина». (Пауза.) Мы теперь к морю не ездим.
Последний год… Часто собирались за ужином вместе. Говорили, конечно, о книгах. Читали вместе самиздат… «Доктор Живаго», стихи Мандельштама… Помню, как спорили о том, кто есть поэт? Какая у него судьба в России? Мнение Игоря: «Поэт должен рано умереть, иначе он не поэт. Старый поэт это просто смешно». Вот… и это я пропустила… Не придала значения… Из меня обычно, как из рождественского мешка, сыпалось, сыпалось… Почти у каждого русского поэта есть стихи о Родине. Я много знаю наизусть. Читала любимого Лермонтова: «Люблю Отчизну я, но странною любовью». И Есенина: «Я люблю тебя, родина кроткая…». Была счастлива, когда купила письма Блока… Целый томик! Его письмо матери после приезда из-за границы… он писал, что Родина сразу показала ему свое свиное рыло и божественное лицо… Упор, конечно, я делала на божественное… (Заходит в комнату муж. Обнимает и садится рядом.) Что еще? Игорь ездил в Москву на могилу Высоцкого. Взял и постригся наголо, стал очень похож на Маяковского. (Вопрос – мужу.) Помнишь? Как я его ругала? У него были необыкновенные волосы.
Последнее лето… Загорелый. Большой, сильный. Ему давали на вид восемнадцать лет. Поехали на каникулах с ним в Таллин. Он был там второй раз, водил меня всюду, по разным закоулкам. За три дня мы жахнули кучу денег. Ночевали в каком-то общежитии. Возвращаемся с ночного похода по городу – взялись за руки, смеемся, открываем дверь. Подошли к вахтерше, она не пускает: «Женщина, после одиннадцати входить с мужчиной нельзя». И тут я Игорю на ухо: «Поднимайся, я сейчас». Пошел, а я шепотом: «Как вам не стыдно! Это же мой сын!». Так все радостно… хорошо! Вдруг там же… ночью… мне страшно. Страх, что я больше его никогда не увижу. Страх перед чем-то новым. Еще ничего не случилось.
Последний месяц… У меня умер брат. В роду у нас мало мужчин, и я брала Игоря с собой, чтобы он помогал. Если бы я знала… Он же смотрел, смотрел на смерть… «Игорь, переставь цветы. Принеси стулья. Сходи за хлебом». Вот эта обыкновенность занятий рядом со смертью… она опасна… Смерть можно перепутать с жизнью. Это я сейчас понимаю… Приехал автобус. Все родственники сели, моего сына нет. «Игорь, где ты? Иди сюда». Входит – все места заняты. Все какие-то знаки… То ли от толчка, то ли… Автобус тронулся, и брат на мгновение открыл глаза. Плохая примета – в семье еще будет одна смерть. Сразу испугались за нашу маму – за ее больное сердце. Когда опускали гроб в яму, что-то упало туда… Тоже нехорошо…
Последний день… Утро. Я умываюсь, чувствую: стоит в проеме дверей, держась обеими руками за дверной косяк, и смотрит, смотрит на меня. Смотрит. «Что с тобой? Садись за уроки. Я скоро вернусь». Молча повернулся и ушел в свою комнату. После работы я встретилась с подругой. Она связала для него модный пуловер, это был мой подарок ему на день рождения. Принесла домой, муж еще поругал: «Неужели ты не понимаешь, что еще рано ему носить такие шикарные вещи?». На обед подала его любимые куриные котлеты. Обычно добавку просит, а тут поклевал и оставил. «Что-нибудь в школе случилось?» Молчит. Тут я заплакала, у меня что-то градом покатились слезы. Я плакала так громко впервые за много лет, на похоронах брата со мной такого не было. И он испугался. Испугался так, что тут я начала его утешать: «Примерь пуловер. – Надел. – Нравится?» – «Очень». Заглянула через некоторое время к нему в комнату – лежал и читал. В другой комнате отец печатал на машинке. У меня болела голова, и я уснула. Когда пожар, люди спят крепче обычного… Я оставила его… он читал Пушкина… Тимка, наша собачка, лежала в прихожей. Не залаяла, не заскулила. Не помню, сколько времени прошло, открываю глаза: возле меня сидит муж. «А Игорь где?» – «В туалете заперся. Наверное, стихи бормочет». Дикий, немой страх подбросил меня вверх. Подбегаю, стучу, колочу дверь. Бью руками, ногами. Тишина. Зову, кричу, умоляю. Тишина. Муж ищет молоток, топор. Взламывает дверь… В стареньких брюках, свитере, домашних тапочках… На каком-то ремне… Схватила, понесла. Мягкий, теплый. Стали делать искусственное дыхание. Вызвали «скорую помощь»…
Как же я спала? Почему Тимка не почувствовал? Собаки такие чуткие, они же слышат в десятки раз лучше, чем мы, люди. Почему… Я сидела и смотрела в одну точку. Мне сделали укол, и я куда-то провалилась. Утром разбудили: «Вера, вставай. Потом себе не простишь». – «Ну, сейчас я тебе всыплю за такие шуточки. Ты у меня получишь», – подумала я. И тут до меня доходит, что всыпать некому.
Он лежит в гробу… На нем тот свитер, который я ему приготовила ко дню рождения…
Кричать начала не сразу… через несколько месяцев… Но слез не было. Кричать кричала, но не плакала. И только когда один раз выпила стакан водки – заплакала. Стала пить, чтобы плакать… цепляться за людей… У одних наших друзей мы просидели, не выходя из квартиры, два дня. Теперь понимаю, как им было тяжело, как мы их мучили. Мы убегали из своего дома… Сломался стул на кухне, на котором он обычно сидел, – я не тронула, так этот стул и стоял, а вдруг ему не понравится, что я выброшу его любимую вещь. Дверь в его комнату ни я, ни муж не могли открыть. Два раза хотели поменять квартиру, уже документы подготовим, людей обнадежим, упакуем вещи. И не могу из квартиры выйти, мне кажется, что он где-то здесь, я просто не вижу его… но он где-то здесь… Я бродила по магазинам, подбирала ему вещи: вот брюки – его цвет, и эта рубашка. Какая-то по счету весна… какая – не помню… Прихожу домой, говорю мужу: «Знаешь, сегодня я понравилась одному мужчине. Он хотел назначить мне свидание». И мой муж отвечает: «Как я рад за тебя, Верочка. Ты возвращаешься…». Безмерно я была ему благодарна за эти слова. Тут я хочу рассказать о своем муже… Он – физик, наши друзья шутят: «Повезло вам – в одном флаконе физик и лирик». Я любила… Почему любила, а не люблю? Потому что себя новую, выжившую, еще не знаю. Боюсь… я не готова… я не смогу больше быть счастливой…
Ночью лежу с открытыми глазами. Звонок. Ясно слышу звонок в дверь. Утром рассказываю мужу. Он: «А я ничего не слышал». Ночью опять звонок. Я не сплю, смотрю на мужа – он тоже проснулся. «Ты слышал?» – «Слышал». У нас у обоих чувство, что мы не одни в квартире. И Тимка кругами возле кровати бегает, кругами, как по следу за кем-то. Я куда-то падаю, в какое-то тепло. И вижу такой сон… Непонятно где, выходит ко мне Игорь в том свитере, в каком мы его похоронили. «Мама, ты меня зовешь и не понимаешь, как мне тяжело к тебе прийти. Перестань плакать». Дотрагиваюсь до него, он мягкий. «Тебе было хорошо дома?» – «Очень». – «А там?» Он не успевает ответить, исчезает. С той ночи я прекратила плакать. И он стал сниться мне маленьким, только маленьким. А я жду его большого, чтобы поговорить с ним…
Это был не сон. Я только закрыла глаза… Дверь в комнату распахнулась, взрослым, каким я его никогда не видела, он вошел на мгновение. У него было такое лицо, что я поняла: ему уже безразлично все, что здесь происходит. Наши разговоры о нем, воспоминания. Он уже совсем от нас далеко. А я не могу, чтобы наша связь порвалась. Я не могу… Я долго думала… и решила родить… Мне нельзя было, уже поздно, врачи боялись, но я родила. Родила – девочку. Мы к ней относимся, как будто она не наша девочка, а дочка Игоря. Я боюсь ее так любить, как любила его… И я не могу ее так любить. Ну сумасшедшая я! Сумасшедшая! Много плачу, хожу и хожу на кладбище. Девочка всегда со мной, а я не перестаю думать о смерти. Так нельзя. Муж считает, что нам надо уехать. В другую страну. Чтобы все поменять: пейзаж, людей, алфавит. Друзья зовут в Израиль. Часто звонят нам: «Что вас там держит?». (Почти кричит.) Что? Что?
Есть у меня одна страшная мысль: а вдруг бы он сам рассказал вам совсем другую историю? Совсем другую…
«…на этом потрясающем клее все держалось»
Мы были тогда совсем юные… Юность – кошмарное время, не знаю, кто придумал, что это прекрасный возраст. Ты несуразна, ты нелепа, ты из всего выламываешься, ты не защищена со всех сторон. А для родителей ты еще маленькая, они тебя строят. Ты все время под каким-то колпаком, и никто к тебе пробиться не может. Ощущение… хорошо помню это ощущение… Как в больнице, когда я лежала в боксе за стеклом. С какой-то инфекцией. Родители притворяются (ты так считаешь), что хотят быть с тобой, на самом деле они живут совершенно в другом мире. Они где-то далеко… вроде бы рядом, но они далеко… Родители не догадываются, насколько у их детей все серьезно. Первая любовь – это страшно. Смертельно опасно. Моя подружка считала, что Игорь покончил с собой из-за любви к ней. Глупость! Глупость девчоночья… В него были влюблены все наши девчонки. О-о! Очень красивый, при этом вел себя так, как будто старше всех нас, но было ощущение, что он очень одинокий. Писал стихи. А поэт должен быть озябшим и одиноким. Погибнуть на дуэли. У всех у нас было много юношеской чепухи в голове.
Это были советские годы… коммунистические… Нас воспитывали на Ленине, на пламенных революционерах, очень пламенных, мы не считали революцию ошибкой и преступлением, но и не увлекались марксистско-ленинскими штучками. Революция была уже абстракцией… Больше всего помню праздники, и ожидание этих праздников. Все очень ярко помню… На улицах много людей. Звучат какие-то слова из динамиков, кто-то верит этим словам полностью, а кто-то частично верит, а кто-то не верит совсем. Но кажется, что все счастливы. Много музыки. Мама молодая, красивая. Все вместе… все это вместе вспоминается как счастье… Те запахи, те звуки… Стук клавишей печатной машинки, утренние крики приезжавших из деревень молочниц: «Молоко! Молоко!» Холодильники были еще не у всех, и банки с молоком хранились на балконах. А авоськи с курицами болтались на форточках. В окна между двойными рамами закладывали вату с блестками для красоты и антоновские яблоки. Кошачий запах из подвалов… А неподражаемый тряпочно-хлорный запах советской столовой? Все это вроде бы не связано было друг с другом, но сейчас оно у меня слилось в одно ощущение. В одно чувство. А у свободы другие запахи… и картинки… Все другое… После первой поездки за границу… это уже при Горбачеве… мой друг вернулся оттуда со словами: «Свобода пахнет хорошим соусом». Я сама прекрасно помню свой первый супермаркет, увиденный в Берлине – сто сортов колбасы и сто сортов сыра. Это было непонятно. После перестройки нас ждало много открытий, много новых эмоций и новых мыслей. Они еще не описаны, их еще не уложили в историю. Формул еще нет… Но я тороплюсь… перескакиваю из одного времени в другое… Большой мир нам откроется потом. А тогда мы только мечтали о нем… о том, чего нет, чего бы хотелось… Хорошо было мечтать о мире, который мы не знали. Мечтали… А жили советской жизнью, в которой существовали единые правила игры, и все по ним играли. Вот кто-то стоит на трибуне. Он врет, все хлопают, но все знают, что он врет, и он знает, что они знают, что он врет. Но он говорит все это и радуется аплодисментам. Не было сомнений, что и мы будем так жить и надо искать убежище. Моя мама слушала запрещенного Галича… и я слушала Галича…
Еще вспомнила… Как хотели поехать в Москву на похороны Высоцкого, милиция нас снимала с электрички… А мы орали: «Спасите наши души! / Мы бредим от удушья…», «Недолет. Перелет. Недолет. По своим артиллерия бьет…». Скандал! Директор приказала явиться в школу вместе с родителями. Со мной пошла моя мама, и вела она себя там прекрасно… (Задумалась.) Жили на кухне… страна жила на кухнях… Сидим у кого-то, пьем вино, слушаем песни, разговариваем о стихах. Открыта банка консервов и нарезан черный хлеб. Нам всем хорошо. У нас были свои ритуалы: байдарки, палатки и походы. Песни у костра. И были общие знаки, по которым мы узнавали друг друга. Была своя мода, свои приколы. Давно нет этих тайных кухонных сообществ. И нет той нашей дружбы, о которой мы думали, что она вечная. Да… была настройка на вечность… Ничего не было выше дружбы. На этом потрясающем клее все держалось…
На самом деле, никто из нас не жил в СССР, каждый жил в своем круге. Круг туристов, круг альпинистов… Мы после уроков собирались в каком-то жэке, там нам выделили комнату. Организовали театр, я играла в этом театре. Был литкружок. Помню, как Игорь читал там свои стихи, он сильно подражал Маяковскому и был неотразим. Кличка у него была – Студент. К нам приходили взрослые поэты, и они говорили с нами откровенно. От них мы узнали правду о пражских событиях. О войне в Афганистане. Что… что еще? Учились играть на гитаре. Ну, это обязательно! В те годы гитара входила в список предметов первой необходимости. На коленях были готовы слушать любимых поэтов и бардов. Поэты собирали целые стадионы. Конная милиция дежурила. Слово было поступком. Встать на собрании и сказать правду – поступок, потому что опасно. Выйти на площадь… Это такой драйв, такой адреналин, такая отдушина. В слово все выливалось… Сегодня это уже невероятно, сегодня надо что-то сделать, а не сказать. Говорить ты можешь абсолютно все, но слово никакой уже власти не имеет. Хотели бы верить, но не можем. Всем на все наплевать, а будущее – дерьмо. С нами было не так… О-о! Стихи, стихи… слова, слова…
(Смеется.) В десятом классе у меня был роман. Он жил в Москве. Я приехала к нему только на три дня. Утром на вокзале мы забрали у его друзей ротапринтное издание мемуаров Надежды Мандельштам, тогда все ей зачитывались. И на следующий день в четыре утра книгу надо было вернуть. Принести к проходящему поезду. Сутки мы не отрываясь читали, один раз только сбегали за молоком и батоном. Даже забыли целоваться, передавали друг другу эти листочки. В каком-то бреду, в каком-то ознобе все происходило… от того, что ты держишь эту книгу в руках… что ты ее читаешь… Через сутки бежали по пустому городу к вокзалу, транспорт еще не ходил. Я хорошо помню этот ночной город, как мы идем, и книга лежит у меня в сумочке. Мы несли ее, как какое-то секретное оружие… Так мы верили, что слово может потрясти мир.
Горбачевские годы… Свобода и купоны. Талоны… купоны… На все: от хлеба до крупы и носков. Стояли в очереди по пять-шесть часов… Но стоишь с книгой, которую раньше ты не могла купить, и знаешь, что вечером покажут фильм, который раньше был запрещен, десять лет пролежал на полке. Кайф! Или весь день у тебя в голове, что в десять часов программа «Взгляд»… Ее ведущие Александр Любимов и Владислав Листьев стали народными героями. Мы узнавали правду… что был не только Гагарин, но и Берия… На самом деле мне, дуре, хватило бы свободы слова, потому что я, как скоро выяснилось, была советская девочка, все советское мы впитали глубже, чем нам казалось. Мне только бы дали почитать Довлатова и Виктора Некрасова, дали бы Галича послушать. И мне этого бы хватило. Я и не мечтала поехать в Париж, пройтись по Монмартру… или увидеть «Святое семейство» Гауди… Только дайте нам почитать и поговорить. Почитать! Заболела наша Олечка, ей было всего четыре месяца, а у нее тяжелая бронхиальная обструкция. Я сходила с ума от страха. Забрали меня с ней в больницу, но ее нельзя было ни на минуту положить, только стоячком, у меня на руках, она затихала. Стоячком так. Хожу и хожу с ней по коридорам. Если она на полчаса заснет, как вы думаете, чем я занималась? Я… не выспавшаяся, измученная… Чем? У меня всегда был под мышкой «Архипелаг ГУЛАГ» – я его в ту же минуту открывала. На одной руке умирает ребенок, а в другой – Солженицын. Книги заменяли нам жизнь. Этот был наш мир.
Потом что-то произошло… Мы опустились на землю. Ощущение счастья и эйфории вдруг переломилось. Целиком и полностью. Я поняла, что этот новый мир не мой, не для меня. Ему нужны какие-то другие люди. Слабых бей сапогами по глазам! Наверх подняли низ… в общем-то, еще одна революция… Но цели у этой революции земные: каждому по коттеджу и машине. Не мелковато ли для человека? Улицы заполнили какие-то «качки» в трениках. Волки! Затоптали всех. Моя мама работала мастером на швейной фабрике. Быстро… очень быстро закрыли фабрику… мама сидела дома и шила трусы. Все ее подруги тоже шили трусы, в какую квартиру ни зайдешь. А жили мы в доме, который построила фабрика для своих работников, вот все и шили трусы и бюстгальтеры. Купальники. В массовом порядке на всех старых вещах – на своих… просили знакомых – отрезали ярлыки, этикетки, желательно импортные, и пришивали к этим купальникам. Потом женщины собирались группами и ехали с мешками по России, это называлось «трусовка». Я в это время уже училась в аспирантуре. (Весело.) Помню… комедия… в университетской библиотеке и в кабинете декана стояли бочки с солеными огурцами и помидорами, с грибами и капустой. Соленья продавали, и этими деньгами платили преподавателям зарплату. А то вдруг – весь факультет завален апельсинами. Или лежат пачки мужских рубашек… Великая русская интеллигенция выживала как могла. Вспомнили старые рецепты… то, что ели в войну… В дальних углах парков… на железнодорожных откосах сажали картошку… Есть неделями одну картошку – голод это или не голод? А одну квашеную капусту? Меня до конца жизни от нее отвернуло. Научились делать чипсы из очисток картофеля, передавали друг другу этот чудесный рецепт: бросить очистки в кипящее подсолнечное масло и побольше соли. Молока не было, но продавалось мороженое, манную кашу варили на мороженом. Ела бы я это сейчас?
Первой пала наша дружба… У всех появились какие-то дела – надо было деньги зарабатывать. Раньше казалось, что нам эти деньги… они никакой власти над нами не имеют… А тут все оценили прелесть зеленых бумажек, это не советские рубли, не «резаная бумага». Книжные девочки и мальчики… комнатные растения… Мы оказались не приспособлены к новой жизни, которую ждали. Что-то другое мы ждали, не это. Прочитали вагон романтических книг, а жизнь погнала пинками и подзатыльниками в другую сторону. Вместо Высоцкого – Киркоров. Попса! И этим все сказано… Недавно собрались у меня на кухне, что уже редко бывает, и спорили: пел бы Высоцкий для Абрамовича? Мнения разделились. Больше было тех, кто уверен: конечно бы пел. Другой вопрос – за сколько?
Игорь? Он остался в моей памяти похожим на Маяковского. Красивым и одиноким. (Молчит.) Я вам что-нибудь объяснила? Получилось ли у меня…
«…и базар стал нашим университетом»
Много лет прошло… Для меня это до сих пор вопрос: почему? Почему он так решил? Мы дружили, но он все решил сам… один… Ну что вы скажете человеку на крыше? Ну что? В юности я сам думал о самоубийстве, а почему – непонятно. Люблю маму, папу… брата… все дома хорошо… А куда-то несет. Где-то там… там что-то есть… Что? Что-то… оно вот там… Там целый мир, более яркий, более значительный, чем тот, в котором ты живешь, там что-то более важное происходит. И там ты можешь прикоснуться к какой-то тайне, другим путем постичь ее нельзя, рационально ты к ней не подключишься. Вот хочется… дай попробую… Встать на карниз… спрыгнуть с балкона… Но ты не собираешься умереть, а ты хочешь подняться вверх, ты хочешь взлететь, тебе кажется, что ты взлетишь. Действуешь как во сне… в обмороке… Когда приходишь в себя, вспоминается какой-то свет, какой-то звук… и чувство, что в том состоянии тебе было хорошо… тебе было намного лучше, чем здесь…
Наша компания… С нами был еще Лешка… Недавно умер от передоза. Вадим в девяностые исчез. Занялся книжным бизнесом. Началось как шутка… бредовая идея… А как только деньги завелись – тут же на него наехал рэкет, ребята с наганами. Он то откупался, то бегал от них – спал в лесу на деревьях. В те годы драться перестали, больше убивали. Где он? Следов нет… до сих пор милиция не нашла… Закопали где-нибудь. Аркадий свалил в Америку: «Я лучше буду жить в Нью-Йорке под мостом». Остались я и Илюша… Илюша женился по большой любви. Жена терпела его странности, пока была мода на поэтов и художников, но потом в моду вошли брокеры и бухгалтеры. Жена ушла. У него началась тяжелая депрессия, он выйдет на улицу – и тут же паническая атака. Его трясет от страха. Сидит дома. Большой ребенок у родителей. Пишет стихи – крик души… А в юности мы слушали одни и те же кассеты и читали одни и те же советские книжки. Ездили на одинаковых велосипедах… В той жизни все у нас было просто: одни ботинки на все времена года, одна куртка, одни брюки. Нас воспитывали как молодых воинов в древней Спарте: если Родина прикажет, на ежа сядем.
…Какой-то военный праздник… Наш детсад привели к памятнику пионеру-герою Марату Казею. «Вот, дети, – сказала воспитательница, – это юный герой, он подорвал себя гранатой и уничтожил много фашистов. Когда вы вырастете, вы должны стать такими же». Тоже подорвать себя гранатой? Сам я этого не помню… с маминых слов… Ночью я сильно плакал: мне надо умереть, буду лежать где-то один, без мамы и папы… раз я плачу, значит, я ни капельки не герой… Я заболел.
…А когда учился в школе, у меня уже была мечта – попасть в отряд, который нес вахту у Вечного огня в центре города. Туда брали лучших учеников. Им шили военные шинели, шапки-ушанки и выдавали военные перчатки. Это не какая-то обязаловка, а великая гордость – попасть туда. Слушали западную музыку, гонялись за джинсами, они уже появились и у нас… символ двадцатого века, как и автомат Калашникова… Мои первые джинсы были с лейблом «Монтана» – как же это было круто! А ночью мне снилось, как я бросаюсь с гранатой на врага…
…Умерла бабушка, к нам переехал жить дед. Кадровый офицер, подполковник. У него было много орденов и медалей, я все время приставал к нему: «Дед, за что тебе дали этот орден?» – «За оборону Одессы». – «А какой ты подвиг совершил?» – «Оборонял Одессу». И точка. Я на него за это обижался. «Дед, а ты что-нибудь благородное, высокое вспомни». – «За этим не ко мне, а в библиотеку. Возьми книгу и почитай». Дед у меня был классный, мы просто химически с ним притягивались друг у другу. Умер в апреле, а хотел дожить до мая. До Дня Победы.
…В шестнадцать лет меня, как положено, вызвали в военкомат: «В какие войска желаешь?». Я заявил военкому, что окончу школу и буду проситься в Афганистан. «Дурак», – сказал военком. Но я долго готовился: прыгал с парашютом, изучил автомат… Мы – последние пионеры Страны Советов. Будь готов!
…Из нашего класса уезжал в Израиль один мальчик… Созвали общешкольное собрание, его убеждали: если твои родители хотят уехать, пускай уезжают, но у нас есть хорошие детдома, ты там доучишься и останешься жить в СССР. Для нас он был предателем. Его исключили из комсомола. Назавтра весь класс уезжал в колхоз на «картошку», он тоже пришел, его вывели из автобуса. Директор школы всех на линейке предупредила: кто, мол, начнет с ним переписываться, тому будет трудно окончить школу. Когда он уехал, мы все стали дружно ему писать…
…В перестройку… Те же учителя нам сказали: забыть все, что мы раньше учили, и читать газеты. Учились по газетам. Выпускной экзамен по истории вообще отменили, не пришлось зубрить съезды КПСС всякие. На последней октябрьской демонстрации нам еще раздали плакаты и портреты вождей, но для нас это уже было как карнавал для бразильцев.
…Помню, как люди ходили с мешками советских денег по пустым магазинам…
Поступил в университет… Чубайс в это время агитировал за ваучеры, он обещал, что один ваучер будет стоить две «Волги», тогда как он сейчас стоит две копейки. Драйвовое время! Я раздавал листовки в метро… Все мечтали о новой жизни… Мечтали… Мечтали, что колбасы на прилавках появится навалом, по советской цене, и члены Политбюро будут стоять за ней в общей очереди. Колбаса – точка отсчета. У нас экзистенциональная любовь к колбасе… Гибель богов! Фабрики – рабочим! Землю – крестьянам! Реки – бобрам! Берлоги – медведям! Шествия на улицах и трансляция Съезда народных депутатов прекрасно заменяли мексиканские сериалы… Проучился я два курса… И бросил университет. Жалко было родителей, им открыто сказали: вы – жалкие совки, ваша жизнь пропала не за понюх табаку, вы виноваты во всем, начиная с Ноева ковчега, вы сейчас никому не нужны. Всю жизнь вкалывать, и в результате – ничего. Все это их подкосило, разрушило их мир, они так и не восстановились, не вписались в крутой поворот. Младший брат после уроков мыл машины, торговал в метро жвачками и всякой фигней, и он зарабатывал больше отца… Отец был ученый. Доктор наук! Советская элита! В коммерческих магазинах появилась колбаса, все побежали смотреть. Увидели цены! Так в нашу жизнь вошел капитализм…
Я стал грузчиком. Это было счастье! Разгрузим с другом фуру с сахаром – нам дадут деньги и по мешку сахара. А что такое в девяностые мешок сахара? Целое состояние! Деньги! Деньги! Начало капитализма… В один день ты мог стать миллионером или получить пулю в лоб. Сейчас вспоминают… Пугают: могла быть гражданская война… Стояли у пропасти! Я этого не почувствовал. Помню, что улицы опустели, на баррикадах – никого. Газеты перестали выписывать и читать. Мужики во дворе сначала ругали Горбачева, а за ним Ельцина за то, что водка подорожала. Замахнулись на святое! Дикий, необъяснимый азарт охватил всех. В воздухе носился запах денег. Больших денег. И абсолютная свобода – ни партии, ни правительства. Все хотели делать «бабло», и те, кто делать «бабло» не умел, завидовали тем, кто умел. Кто-то торговал, кто-то покупал… кто-то прикрывал, кто-то «крышевал»… Я заработал первые «бабки»… Пошел с друзьями в ресторан. Заказали «Мартини» и водку «Рояль» – тогда это было супер! Хотелось подержать в руках бокал. Покрасоваться. Закурили «Мальборо». Всё – как читали у Ремарка. Долго жили по картинкам. Новые магазины… рестораны… как декорации из чужой жизни…
…Торговал жареными сосисками. Бешеные «бабки» намывались…
…Возил водку в Туркмению… Неделю просидел с напарником в закрытом товарном вагоне. Топоры были наготове. И лом. Узнали бы, что мы везем – убили! Назад загрузились махровыми полотенцами…
…Продавал детские игрушки… Один раз забрали у меня оптом целую партию и расплатились фурой с газированными напитками, которые я обменял на грузовик семечек, на маслобойне в обмен на семечки получил масло, которое частично продал, а частично обменял на тефлоновые сковородки и утюги…
…Сейчас у меня цветочный бизнес… Научился «солить» розы… В картонную коробку засыпаешь прокаленную соль – слоем не меньше сантиметра, укладываешь туда полураспустившиеся цветы и сверху еще раз посыпаешь солью. Закрываешь крышкой – и в большой полиэтиленовый пакет. Крепко завязать. Через месяц… через год достал, обмыл водой… Приходите в любой день и час. Вот визиточка…
Базар стал нашим университетом… Это громко сказано – университетом, но начальной школой жизни – точно. Сюда приходили, как в музей. Как в библиотеку. Мальчики и девочки как зомби ходили мимо рядов… с сумасшедшими лицами… Вот пара останавливается возле китайских эпиляторов… И она ему объясняет, как важна эпиляция: «Ты же этого хочешь, да? Ты хочешь, чтобы я была, как…». Имя актрисы я не помню… ну, Марина Влади, к примеру, или Катрин Денев. Миллионы каких-то новых коробочек, баночек. Их приносили домой, как священные тексты, использовав содержимое, баночки не выбрасывали, водружали на почетное место на книжных полках или в серванте за стеклом. Первые глянцевые журналы читали как классику, благоговейная вера, что за этой оберткой, за этой шелухой – там прекрасная жизнь. В первый «Макдональдс» километровые очереди… Репортажи по ТВ. Взрослые интеллигентные люди берегли коробочки и салфетки оттуда. С гордостью демонстрировали гостям.
Мой хороший знакомый… Жена на двух работах вкалывает, а у него гордыня: «Я – поэт. Кастрюли продавать не пойду. Брезгую». Когда-то мы с ним, как все, ходили по улицам и кричали: «Демократия! Демократия!» – и понятия не имели, что за этим последует. Кастрюли продавать никто не собирался. А теперь… Выбора нет: или ты кормишь семью, или держишься за совковые идеалы. Или – или… без вариантов… Пишешь стихи, бренчишь на гитаре, тебя хлопают по плечу: «Ну давай! Давай!», – а в кармане пусто. Те, кто уехал из страны? Там они и кастрюли продают, и пиццу развозят… на картонной фабрике коробки клеят… Там не стыдно.
Вы меня поняли? Я про Игоря рассказывал… Про наше потерянное поколение – коммунистическое детство и капиталистическая жизнь. Ненавижу гитару! Могу подарить.
О другой библии и других верующих
Василий Петрович Н. – член коммунистической партии с 1922 года, 87 лет
– Ну да… хотел… Врачи вернули оттуда… Разве они знают, откуда возвращают? Я, конечно, атеист, но в старости уже ненадежный атеист. Ты один на один с этим… с мыслью, что надо уходить… куда-то… Ну да… другой взгляд… да-а-а… На землю… на песок… Не могу спокойно смотреть на обычный песок. Я давно старый. Сидим с кошкой у окна. (Кошка на коленях. Гладит.) Телевизор включим…
И конечно… Никогда я не думал, что доживу до времен, когда начнут ставить памятники белым генералам. Раньше герои – кто? Красные командиры… Фрунзе, Щорс… А сейчас – Деникин, Колчак… Хотя живы еще те, кто помнит, как колчаковцы нас вешали на фонарях. «Белые» победили… Так получается? А я воевал, воевал, воевал. За что? Строил, строил… Что? Был бы я писателем, сам взялся бы за мемуар. Слушал недавно по радио передачу о своем заводе. Я был первым директором. Обо мне рассказывали, как будто меня уже нет – я умер. А я… я живой… Они представить себе не могли, что я еще здесь… Да! Ну да… (Смеемся втроем. С нами сидит внук. Слушает.) Я чувствую себя забытым экспонатом в музейном запаснике. Пыльным черепком. Великая была империя – от моря до моря, от Заполярья до субтропиков. Где она? Побеждена без бомбы… без Хиросимы… Победила Ее Величество колбаса! Хорошая жратва победила! «Мерседес-бенц». Больше ничего человеку не надо, не предлагайте ему ничего больше. Без надобности. Только хлеба и зрелищ! И это самое большое открытие двадцатого века. Ответ всем великим гуманистам. И кремлевским мечтателям. А мы… мое поколение… у нас были великие планы. Мечтали о мировой революции: «Мы на горе всем буржуям / Мировой пожар раздуем». Построим новый мир, сделаем всех счастливыми. Нам казалось, что это возможно, я искренне верил! Совершенно искренне! (Задыхается от кашля.) Астма замучила. Подождите… (Пауза.) Вот, я дожил… дожил до будущего, о котором мечтали. Умирали ради него, убивали. Крови было много… и своей, и чужой… «Иди и гибни безупречно! / Умрешь недаром – дело прочно, / Когда под ним струится кровь…», «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть…» (Удивленно.) Помню… не забыл! Не все вытравил из памяти склероз. Не окончательно. Стихи мы учили на уроках политграмоты… Сколько же это лет прошло? Сказать страшно…
Чем я потрясен? Убит чем? Идея растоптана! Коммунизм предали анафеме! Все разлетелось вдребезги! Я – выживший из ума старик. Кровавый маньяк… серийный убийца… Так, выходит? Я слишком долго живу, так долго жить не надо. Нельзя… нет… нельзя… Опасно жить долго. Мое время кончилось раньше моей жизни. Надо умирать вместе со своим временем. Как мои товарищи… Они погибали рано, в двадцать-тридцать лет… Счастливые умирали… С верой! С революций в сердце, как тогда говорили. Я им завидую. Вы не поймете… я им завидую… «Погиб наш юный барабанщик…» Славно погиб! За великое дело! (Задумался.) Я все время жил рядом со смертью, но мало думал о смерти. А этим летом свозили меня на дачу. Я смотрел и смотрел на землю… она живая…
– Смерть и убийство – разве это одно и то же? Вы жили среди убийств.
– (Раздраженно.) За такие вопросы… Быть бы вам лагерной пылью. Север или расстрел – выбор маленький. В мое время таких вопросов не задавали. Не было у нас таких вопросов! Мы… Мы представляли себе справедливую жизнь, без бедных и богатых. Умирали за революцию, умирали идеалистами… бессребрениками… Моих друзей давно нет, я остался один. Нет моих собеседников… По ночам я беседую с мертвыми… А вы? Вы наших чувств и наших слов не знаете: продразверстка, продотряд, лишенец, комбед… пораженец, повторник… Санскритские письмена для вас! Иероглифы! Старость – это, прежде всего, одиночество. Последний знакомый старик в соседнем подъезде умер пять лет назад, а может, и больше… уже семь… Вокруг одни незнакомые люди. Приходят: из музея, из архива… из энциклопедии… Я – справочник… живой архив… А собеседников нет… С кем бы я хотел поговорить? Мог бы с Лазарем Кагановичем… Нас мало уже осталось, а тех, кто не в маразме, еще меньше. Он старше, ему уже девяносто. Читал в газетах… (Смеется.) В газетах пишут, что старики во дворе отказываются играть с ним в домино. В карты. Гонят: «Душегуб!». И он плачет от обиды. Когда-то железный нарком. Расстрельные списки подписывал, десятки тысяч людей загубил. Тридцать лет был рядом со Сталиным. А на старости лет ему не с кем перекинуться в карты… забить «козла»… Обыкновенные работяги презирают… (Дальше говорит тихо. Не могу разобрать. Улавливаю только несколько слов.) Страшно… жить долго страшно.
…Я не историк и даже не гуманитарий. Правда, одно время работал директором театра, нашего городского театра. На какой участок бросала партия, там и служил. Предан был партии. Жизнь мало помню, помню только работу. Страна была стройплощадкой… домной… Кузницей! Так сейчас не работают. Я спал по три часа в сутки. Три часа… Мы отставали от передовых стран на пятьдесят-сто лет. На целый век. Сталинский план – догнать за пятнадцать-двадцать лет. Знаменитый сталинский скачок. И мы верили – догоним! Сейчас люди ни во что не верят, а тогда верили. Легко верили. Наши лозунги: «Ударим революционными мечтами по индустриальной разрухе!», «Большевики должны овладеть техникой!», «Догоним капитализм!». Я дома не жил… жил на заводе… на стройке. Ну да… В два… в три часа ночи мог зазвонить телефон. Сталин не спал, ложился поздно, и, соответственно, мы не спали. Руководящие кадры. Сверху донизу. Имею два ордена и три инфаркта. Был директором шинного завода, начальником стройтреста, оттуда перекинули на мясокомбинат. Заведовал партархивом. После третьего инфаркта дали театр… Наше время… мое… Великое время! Никто для себя не жил. Поэтому обидно… Брала у меня недавно интервью одна милая барышня. Начала меня «просвещать», в какое страшное время мы жили. Она в книжках читала, а я там жил. Я сам оттуда родом. Из тех лет. И она мне рассказывает: «Вы были рабы. Сталинские рабы». Соплюха! Не был я рабом! Не был! Я сейчас сам не вылезаю из сомнений… Но рабом я не был… У людей каша в голове. Все перемешалось: Колчак и Чапаев, Деникин и Фрунзе… Ленин и царь… Бело-красный салат. Окрошка. Чечетку на гробах отплясывают! Это было великое время! Больше никогда мы не будем жить в такой сильной и большой стране. Я плакал, когда Советский Союз развалился… Нас сразу прокляли. Оклеветали. Победил обыватель. Вошь. Червяк.
Моя Родина – Октябрь. Ленин… социализм… Я любил революцию! Партия – самое дорогое для меня. Я семьдесят лет в партии. Партбилет – моя библия. (Декламирует.) «Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим. / Кто был никем, тот станет всем…» Хотели построить Царство Божие на земле. Красивая, но несбыточная мечта, человек еще к этому не готов. Не совершенен он. Ну да… Но от Пугачева и декабристов… до самого Ленина… все мечтали о равенстве и братстве. Без идеи справедливости будет другая Россия и другие люди. Совсем другая будет страна. Мы еще не переболели коммунизмом. Не надейтесь. И мир не переболел. Человек всегда будет мечтать о Городе Солнца. Он еще в шкуре ходил, в пещере жил, а уже хотел справедливости. Вспомните советские песни и советские фильмы… Какая там мечта! Вера… «Мерседес» – это не мечта…
Внук весь разговор будет молчать. Расскажет в ответ на мои вопросы только несколько анекдотов.
Из анекдотов, рассказанных внуком
Тридцать седьмой год… Два старых большевика в камере. Один говорит: «Нет, не доживем мы до коммунизма, но наши дети…». Второй: «Бедные наши дети!».
Старый я… давно… Но старость – это тоже интересно. Понимаешь, что человек – животное… животного вдруг обнаруживается много… Это время, как говорила Раневская, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы. (Смеется.) Ничего не спасает от старости – ни ордена, ни медали… Не-е-т… Гудит холодильник, стучат часы. Больше ничего не происходит. (Заговорили о внуке. Внук на кухне готовит чай.) Дети пошли… у них только компьютер в голове… В девятом классе этот мой внук, он младший, сказал мне: «Про Ивана Грозного читать буду, а про Сталина не хочу. Надоел твой Сталин!». Ничего не знают, а уже надоел. Проехали! Все проклинают семнадцатый год. «Дураки! – говорят про нас. – Зачем они революцию делали?» А у меня в памяти… Я помню людей с горящими глазами. Сердца наши горели! Никто мне не верит! Но я-то не сошел с ума… Помню… да-а-а… Эти люди ничего не хотели для себя, не было, как теперь, на первом месте – я. Горшок щей… домик… садик… Было – мы. Мы! Мы! Ко мне иногда заходит друг моего сына, профессор университета. За границу ездит, лекции там читает. Ругаемся с ним до хрипоты. Я ему о Тухачевском, а он в ответ: красный командарм тамбовских крестьян газом травил, матросов в Кронштадте вешал. Сначала, говорит, вы постреляли дворян и попов… это в семнадцатом году… а в тридцать седьмом вас самих постреляли… Уже и до Ленина добрались. Ленина я никому не отдам! С Лениным в сердце умру! Сейчас… Подождите… (Сильный кашель. Из-за кашля дальше снова не очень разборчиво.) Раньше строили флот, покоряли космос, а сейчас – особняки, яхты… Честно признаться, часто ни о чем не думаю. Работает или не работает кишечник? – вот что с утра важно. Так жизнь кончается.
…Нам было по восемнадцать-двадцать лет… О чем мы говорили? Говорили о революции и о любви. Мы были фанатики революции. Но много спорили и о популярной в то время книге Александры Коллонтай «Любовь пчел трудовых». Автор защищала свободную любовь, то есть любовь без всего лишнего… «как выпить стакан воды»… Без вздохов и без цветов, без ревности и слез. Любовь с поцелуями и любовными записочками считалась буржуазным предрассудком. Все это настоящий революционер должен был в себе победить. Мы даже проводили собрания на эту тему. Наши взгляды делились: одни – за свободную любовь, но с «черемухой», значит, с чувствами, а другие – без всякой «черемухи». Я был за то, чтобы с «черемухой», хотя бы целоваться. Да! Ну да… (Смеется.) Как раз в это время я влюбился, ухаживал за своей будущей женой. Как ухаживал? Читали вместе Горького: «Буря! Скоро грянет буря! …Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах…» Наивно? Но и прекрасно тоже. Прекрасно, черт возьми! (Смеется по-молодому. И я замечаю, какой он до сих пор красивый.) Танцы… обыкновенные танцы… мы считали мещанством. Устраивали суды над танцами и наказывали тех комсомольцев, которые танцевали, дарили своим девушкам цветы. Я одно время даже был председателем суда над танцами. Из-за этого своего «марксистского» убеждения так и не научился танцевать. Потом каялся. Никогда не мог потанцевать с красивой женщиной. Медведь! Устраивали комсомольские свадьбы. Без свечек, без венцов. Без попов. Вместо икон – портреты Ленина и Маркса. У моей невесты были длинные волосы, так к свадьбе она их обрезала. Красоту мы презирали. Ну конечно, это было неправильно. Как говорится, перегиб… (Снова – кашель. Машет рукой, чтобы я не выключала диктофон.) Ничего-ничего… мне некуда откладывать… Скоро распадусь на фосфор, кальций и прочее. От кого вы еще узнаете правду? Остались одни архивы. Бумажки. Ну да… Я работал в архиве и знаю: бумажки врут еще хуже, чем люди.
О чем я? О любви… о моей первой жене… Когда у нас родился сын, мы назвали его Октябрем. В честь десятой годовщины Великого Октября. Я хотел еще дочку. «Если хочешь от меня второго ребенка, значит, любишь, – смеялась жена. – А как мы назовем нашу девочку?» Мне нравилось имя Люблена, оно складывалось из слов «люблю Ленина». Жена выписала на листочке все свои любимые женские имена: Марксана, Сталина, Энгельсина… Искра… Самые модные тогда. Так этот листочек и остался лежать на столе…
Первого большевика я увидел в своей деревне… Молодой студент в солдатской шинели. Он выступал на площади возле церкви: «Сейчас одни ходят в сапогах, а другие – в лаптях. А когда будет большевистская власть, все станут одинаковыми». Мужики кричали: «А как это?» – «А это настанет такое прекрасное время, когда ваши жены будут носить шелковые платья и туфельки на каблуках. Не будет богатых и бедных. Всем будет хорошо». Моя мама наденет шелковое платье, сестренка туфельки на каблуках. Я буду учиться… Все люди станут жить как братья, все будут равны. Как не полюбить такую мечту! Большевикам поверили бедные люди, неимущие. Молодежь за большевиками пошла. Мы ходили по улицам и кричали: «Долой колокола – на трактора!». Про Бога знали только одно – что Бога нет. Смеялись над попами, рубили дома иконы. Вместо крестных ходов – демонстрации с красными флагами… (Остановился.) Вроде я это уже рассказывал? Склероз… Я старый… давно… Ну да… Марксизм стал нашей религией. Я был счастлив, что живу в одно время с Лениным. Соберемся вместе и поем «Интернационал». В пятнадцать-шестнадцать лет – уже комсомолец. Коммунист. Солдат революции. (Молчит.) Смерти я не боюсь… в моем возрасте… Только неприятно… Мне неприятно по одной причине: кому-то придется с моим телом возиться. Возня с телом… Зашел я один раз в церковь. С батюшкой познакомился. Батюшка: «Надо исповедоваться». Старый я… А есть Бог или нет – скоро и так узнаю. (Смеется.)
Полуголодные, полураздетые… Но субботники у нас круглый год, и зимой тоже. Мороз! У моей жены легкое пальтишко, она беременная. Грузим на станции уголь, дрова, таскаем тачками. Незнакомая девушка, которая работала рядом с нами, спрашивает у жены: «У тебя такое пальтишко летнее. А потеплее нет?» – «Нет». – «Знаешь, а у меня два. Было хорошее пальто, и от Красного креста получила новое. Ты скажи мне свой адрес, я вечером принесу». Вечером она принесла нам пальто, но не старое свое пальто, а новое. Она нас не знала, достаточно было: мы – члены партии, и она – член партии. Мы были как братья и сестры. В нашем доме жила слепая девушка, с детства слепая, и она плакала, если ее не брали на субботники. Пусть она мало поможет, но она попоет с нами песни. Революционные песни!
Мои товарищи… они лежат под каменными плитами… На камнях высечено: член партии большевиков с двадцатого… двадцать четвертого… двадцать седьмого года… И после смерти было важно: какой ты веры? Хоронили партийных отдельно, гроб в красном кумаче. Я помню день смерти Ленина… Как? Ленин умер? Не может быть! Он же святой… (Просит внука и тот снимает с полки и показывает мне маленькие ленинские бюсты. Из бронзы, чугуна, фарфора.) Коллекция собралась. Все подарки. А вчера… По радио передали: у памятника Ленину в центре города отпилили ночью руку. На металлолом… за копейки… Была икона. Бог! Теперь – цветной металл. Продают и покупают на килограммы… А я еще живой… Коммунизм проклят! Социализм уже дрянь! Мне говорят: «Ну кто сегодня всерьез принимает марксизм? Его место в учебниках истории». А кто из вас может сказать, что читал позднего Ленина? Знает всего Маркса? Есть ранний Маркс… и Маркс в конце жизни… То, что сегодня ругают как социализм, никакого отношения к социалистической идее не имеет. Идея не виновата. (Из-за кашля опять неразборчиво.) Люди потеряли свою историю… остались без веры… О чем ни спросишь – пустота в глазах. Начальники обучились креститься, а свечку, как стакан с водкой, в правой руке держат. Вернули пронафталиненного двуглавого орла… хоругви с иконами… (Вдруг совершенно отчетливо.) Мое последнее желание – напишите правду. Но мою правду… а не свою. Чтобы остался мой голос…
Показывает свои фотографии. Иногда что-то комментирует.
…Привели к командиру. «Сколько тебе лет?» – спросил командир. «Семнадцать», – я соврал. Мне было неполных шестнадцать. Так я стал красноармейцем. Нам выдали обмотки и красные звездочки для шапок. Буденовок не было, а красные звездочки выдали. Что за Красная армия без красных звездочек? Дали винтовки. И мы себя чувствовали защитниками революции. Вокруг – голод, эпидемии. Возвратный тиф… брюшной тиф… сыпняк… А мы – счастливые…
…Из разбитого помещичьего дома кто-то вытащил пианино… Стоит в саду, мокнет под дождем. Пастушки подгонят коров поближе и играют на нем палками. Усадьбу по пьянке сожгли. Разграбили. А кому из мужиков нужно пианино?
…Взорвали церковь… До сих пор в ушах крик старух: «Деточки, не делайте этого!». Умоляли. Цеплялись за ноги. Двести лет церковь простояла. Намоленное место, как говорится. Построили вместо церкви городскую уборную. Священников заставили там убирать. Говно чистить. Сейчас… конечно… сейчас я понимаю… А тогда… весело…
…В поле лежали наши товарищи… На лбу и на груди у них были вырезаны звезды. Красные звезды. Распороты животы, туда насыпана земля: хотели земли – нате! Наши чувства – смерть или победа! Пусть мы умрем, но мы знаем, за что умрем.
…У реки увидели проколотых штыками белых офицеров. Почернели на солнце «их благородия». Из животов торчали погоны… животы набиты погонами… Не жалко! Мертвых людей видел столько, сколько и живых…
– Сегодня жалко всех: и «белых», и «красных». Мне жалко.
– Вам жалко… Жалко? (Мне показалось, что на этом наш разговор может и закончиться.) Ну да… конечно… «Общечеловеческие ценности»… «абстрактный гуманизм»… Телевизор смотрю, газеты читаю. А у нас милосердие было поповским словом. Бей белого гада! Даешь революционный порядок! Лозунг первых лет революции: загоним железной рукой человечество в счастье! Раз партия сказала – я верю партии! Я верю.
Город Орск под Оренбургом. День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями. В Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон: в углу висит на ремне полуголый мужчина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое говно, как кашу. «Закрывай! – кричит мне комиссар. – Это – кулацкая сволочь! Они для новой жизни не годятся!» Будущее… оно же должно быть красивым… Потом будет красиво… Ну верил я! (Почти кричит.) Мы верили в какую-то красивую жизнь. Утопия… это была утопия… А вы? У вас своя утопия – рынок. Рыночный рай. Рынок всех сделает счастливыми! Химера! Ходят по улицам гангстеры в малиновых пиджаках, золотые цепи до пуза. Капитализм карикатурный, как на картинках в советском журнале «Крокодил». Пародия! Вместо диктатуры пролетариата – закон джунглей: кусай того, кто слабее тебя, а тому, кто сильнее, кланяйся. Самый древний закон на земле… (Приступ кашля. Передышка.) Мой сын носил буденовку с красной звездочкой… В детстве это был лучший подарок ему на день рождения. Я давно не хожу в магазины. Продают ли там буденовки? Их долго носили. При Хрущеве еще носили. Какая сейчас мода? (Пробует улыбнуться.) Я отстал… конечно… Я уже древний… Мой единственный сын… он умер… Доживаю с невесткой и внуками. Сын был историк и убежденный коммунист. А внуки? (С насмешкой.) Внуки читают Далай-ламу. Вместо «Капитала» у них «Махабхарата». Каббала… Теперь все верят в разное. Ну да… теперь так… Человек всегда хочет во что-то верить. В Бога или в технический прогресс. В химию, в полимеры, в космический разум. Теперь – в рынок. Ну, допустим, наедимся, а дальше что? Я захожу в комнату к своим внукам – там все чужое: рубашки, джинсы, книги, музыка, зубная щетка – и та не наша. На полках стоят пустые банки из-под «Пепси», «Кока-колы»… Папуасы! В супермаркеты ходят как в музей. Отпраздновать день рождения в «Макдональдсе» – круто! «Дед, мы ходили в “Пицца-хат”!» Мекка! Спрашивают у меня: «Ты на самом деле верил в коммунизм? А почему не в гуманоидов?». Я мечтал: мир – хижинам, война – дворцам, а они хотят стать миллионерами. Приходят их друзья. Слышу разговоры: «Я лучше буду жить в слабой стране, но с йогуртом и хорошим пивом», «Коммунизм – отстой!», «Путь России – монархия. Боже, Царя храни!». Крутят песни: «Все будет прекрасно, поручик Голицын / За все комиссары получат сполна…». А я живой… я еще здесь… В самом деле… Я же не сошел с ума… (Смотрит на внука. Тот молчит.) В магазинах полно колбасы, а людей счастливых нет. Я не вижу людей с горящими глазами.
Из анекдотов, рассказанных внуком
Спиритический сеанс. Разговаривают профессор и старый большевик. Профессор: «В идею коммунизма изначально вкралась ошибка. Помните песню: “Наш паровоз, вперед лети, / В коммуне остановка…”?». Старый большевик: «Конечно, помню. А ошибка какая?». Профессор: «Паровозы не летают».
Сначала арестовали жену… Ушла в театр и домой не вернулась. Возвращаюсь с работы: сын вместе с котом спит на коврике в прихожей. Ждал-ждал маму и уснул. Жена работала на обувной фабрике. Красный инженер. «Что-то непонятное творится, – говорила она. – Забрали всех моих друзей. Это какая-то измена…» – «Вот мы с тобой не виноваты, и нас не берут». Был в этом убежден… Абсолютно убежден… искренне! Сначала я был ленинец, потом сталинец. До тридцать седьмого года я был сталинец. Верил всему, что говорил и делал Сталин. Да… величайший… гениальный… вождь всех времен и народов. Даже когда врагами народа объявили Бухарина, Тухачевского, Блюхера, я ему верил. Спасительная мысль… глупая… Я думал так: Сталина обманывают, наверх пробрались предатели. Партия разберется. И вот арестовали мою жену, честного и преданного бойца партии.
Через три дня пришли за мной… Первым делом понюхали в печке: не пахнет ли дымом, не сжег ли я что-нибудь. Их было трое. Один ходил и выбирал себе вещи: «Это вам уже не надо». Настенные часы снял. Меня поразило… я не ожидал… И в то же время что-то в этом было человеческое, внушало надежду. Вот эти человеческие гадости… Да-а-а… Значит, у этих людей есть чувства… Обыск продолжался с двух часов ночи до утра. В доме было очень много книг, каждую книгу пролистали. Прощупали одежду. Распороли подушки… Времени подумать у меня было достаточно. Вспоминал… лихорадочно… Посадки уже шли массовые. Каждый день кого-то брали. Обстановка страшноватая. Человека взяли, все вокруг молчат. Спрашивать бесполезно. Следователь на первом допросе мне объяснил: «Вы виноваты уже в том, что не донесли на свою жену». Но это уже в тюрьме… А тогда все в памяти перебрал. Все… Одно только вспомнил… Вспомнил последнюю городскую партконференцию… Зачитали приветствие товарищу Сталину, и весь зал встал. Шквал оваций: «Слава товарищу Сталину – организатору и вдохновителю наших побед!», «Сталину – слава!», «Слава вождю!» Пятнадцать минут… полчаса… Все оборачиваются друг на друга, но никто первый не садится. Все стоят. Я почему-то сел. Машинально. Подходят ко мне двое в штатском: «Товарищ, почему сидите?». Я вскочил! Вскочил как ошпаренный. Во время перерыва все время оглядывался. Ждал, что сейчас подойдут и арестуют… (Пауза.)
К утру обыск кончился. Команда: «Собирайтесь». Няня разбудила сына… Перед уходом я успел шепнуть ему: «Никому не рассказывай про папу и маму». Так он выжил. (Придвигает диктофон поближе к себе.) Записывайте, пока жив… «П. ж.»… «пока жив»… пишу на поздравительных открытках. Некому уже, правда, посылать… Меня часто спрашивают: «Почему вы все молчали?» – «Время такое было». Я считал, что виноваты предатели – Ягода, Ежов, – но не партия. Через пятьдесят лет легко судить. Хихикать… над старыми дураками… В то время я шагал вместе со всеми, а теперь их никого нет…
…Месяц просидел в одиночке. Такой каменный гроб – к голове шире, к ногам поуже. Ворона к своему окну приручил, кормил перловкой из похлебки. С тех пор ворон – моя любимая птица. На войне… Бой окончен. Тишина. Раненых подобрали, одни мертвые лежат. Другой птицы нет, а ворон летает.
…На допрос вызвали через две недели. Знал ли я, что у жены есть сестра за границей? «Моя жена – честный коммунист». На столе у следователя лежал донос, подписанный – я не поверил! – нашим соседом. Я узнал почерк. Подпись. Мой товарищ был, можно сказать, с Гражданской войны. Военный… в высоком звании… Немного был даже влюблен в мою жену, я ревновал. Ну да… ревновал… Жену я крепко любил… свою первую жену… Следователь подробно пересказывал мне наши разговоры. Я понял, что не ошибся… да, это сосед… все разговоры были при нем… История моей жены такая: она из-под Минска. Белоруска. После Брестского мира часть белорусских земель отошла к Польше. Там остались ее родители. Сестра. Родители скоро умерли, а сестра писала нам: «Я лучше поеду в Сибирь, чем оставаться в Польше». Хотела жить в Советском Союзе. Тогда коммунизм был популярен в Европе. Во всем мире. Многие в него верили. Не только простые люди, но и западная элита. Писатели: Арагон, Барбюс… Октябрьская революция была «опиумом для интеллектуалов». Где-то читал… теперь много читаю. (Передышка.) Моя жена – «враг»… Значит, нужна «контрреволюционная деятельность»… Хотели сфабриковать «организацию»… «террористическое подполье»… «С кем ваша жена встречалась? Кому передавала чертежи?» Какие чертежи! Я все отрицал. Били. Топтали сапогами. Все – свои. У меня партбилет, и у них – партбилет. И у моей жены – партбилет.
…Общая камера… В камере – пятьдесят человек. По нужде выводили два раза в день. А в остальное время? Как даме объяснить? У входа стояла огромная бадья… (Зло.) Попробуйте сесть и посрать при всех! Кормили селедкой и не давали воды. Пятьдесят человек… Английские… японские шпионы… Деревенский старик, безграмотный… Его посадили за пожар на конюшне. Сидел студент за анекдот… На стене висит портрет Сталина. Докладчик читает реферат о Сталине. Хор поет песню о Сталине. Артист декламирует стихотворение о Сталине. Что это такое? Вечер, посвященный столетию со дня смерти Пушкина. (Я смеюсь, а он не смеется.) Студент получил десять лет лагерей без права переписки. Был шофер, арестованный за то, что похож на Сталина. И вправду был похож. Заведующий прачечной, беспартийный парикмахер, шлифовальщик… Больше всего простых людей. Но был и ученый-фольклорист. Ночью он рассказывал нам сказки… детские сказки… И все слушали. На фольклориста донесла его собственная мать. Старая большевичка. Один раз только она передала ему папиросы перед этапом. Да-а-а… Сидел старый эсер, он открыто радовался: «Как я счастлив, что и вы, коммунисты, тут сидите и ничего, как и я, не понимаете». Контрик! Я думал, что советской власти уже нет. И Сталина – нет.
Из анекдотов, рассказанных внуком
Железнодорожный вокзал… Сотни людей. Человек в кожаной куртке отчаянно ищет кого-то. Нашел! Подходит к другому человеку в кожаной куртке: «Товарищ, ты партийный или беспартийный?» – «Партийный». – «Тогда скажи, где тут сортир?»
Все отобрали: ремень, шарф, шнурки из ботинок выдернули, а убить себя все равно можно. Была такая мысль. Ну да… была… Задушить себя брюками или резинкой от трусов. Били по животу мешком с песком. Все из меня вылезало, как из червяка. Подвешивали на крюки. Средневековье! Из тебя течет, ты свой организм уже не контролируешь. Отовсюду течет… Выдержать эту боль… Стыд! Умереть проще… (Передышка.) Встретил в тюрьме своего старого товарища… Николай Верховцев, член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Он преподавал на рабфаке. Все знакомые… в близком кругу… Кто-то читал вслух газету «Правда», и там информация: на бюро Цека слушался вопрос об оплодотворении кобылиц. Ну он возьми и пошути, что у Цека, мол, дел других нет, как только оплодотворением кобылиц заниматься. Днем он это сказал, а ночью его уже взяли. Пальцы рук ему зажимали дверью, сломали пальцы, как карандаши. Держали сутками в противогазе. (Молчит.) Непонятно, как сегодня об этом рассказывать… В общем-то, варварство. Унизительно. Ты – кусок мяса… лежишь в моче… Верховцеву попался следователь-садист. Они не все были садисты… Сверху им спускали лимит, план на врагов – месячный и годовой. Вот они меняются, пьют чай, звонят домой, флиртуют с медичками, которых вызывают, когда человек от пыток теряет сознание. У них дежурство… смена… А у тебя вся жизнь перевернулась. Такие вещи… Следователь, который вел мое дело, был раньше директором школы, он меня убеждал: «Наивный вы человек. Мы вас шлепнем и составим акт – при попытке к бегству. Вы знаете, что Горький сказал: если враг не сдается, то его уничтожают». – «Я – не враг». – «Поймите: нам не страшен только человек раскаявшийся, человек разрушившийся». Мы с ним дискутировали на эту тему… Второй следователь был кадровый офицер. Чувствовалось, что ему лень все эти бумажки заполнять. Они все время что-то писали. Один раз он дал мне папиросу. Люди сидели подолгу. Месяцами. Между палачами и жертвами завязывались человеческие… ну, человеческими их не назовешь, но какие-то все-таки отношения. Но одно не исключало другого… «Подпишите». Читаю протокол. – «Я этого не говорил». Бьют. Старательно бьют. Их всех потом самих расстреляли. Отправили в лагеря.
Это было утром… Открывается камера. Команда: «На выход!». Я – в одной рубашке. Хочу одеться. «Нет!» Ведут в какой-то подвал… Там уже ждет следователь с бумагой: «Подпишете – да или нет?». Отказываюсь. «Тогда – к стенке!» Бах! Выстрел поверх головы… «Ну как – подпишете?» Бах! И так три раза. Ведут назад, по каким-то лабиринтам… оказывается, в тюрьме столько подвалов! Я не подозревал. Водили так, чтобы заключенный ничего не увидел. И никого не узнал. Если кто-то идет навстречу, конвоир дает команду: «Мордой к стенке!». Но я уже был опытный. Подсматривал. Так я встретился со своим начальником на курсах красных командиров. И со своим бывшим профессором в совпартшколе… (Молчит.) С Верховцевым мы были откровенны: «Преступники! Советскую власть губят. Они ответят за это». Несколько раз его допрашивала женщина-следователь: «Когда меня пытают, она становится красивой. Ты понимаешь, она тогда красивая». Впечатлительный человек. Это от него я узнал, что Сталин в юности писал стихи… (Закрыл глаза.) Я сейчас, бывает, просыпаюсь в холодном поту: и меня могли направить на работу в энкавэдэ. И я бы пошел. У меня партбилет в кармане. Красная книжечка.
Звонок в дверь. Приехала медсестра. Измеряла давление. Сделала укол. Все это время разговор пусть отрывочно, но продолжается.
…Я как-то подумал: социализм не решает проблему смерти. Старости. Метафизического смысла жизни. Проходит мимо. Только в религии есть ответы на это. Да-а-а… В тридцать седьмом меня бы за такие разговоры…
…Книгу «Человек – амфибия» Александра Беляева читали? Там гениальный ученый хочет сделать своего сына счастливым и превращает его в человека-амфибию. Но сыну скоро становится тоскливо одному в океане. Он хочет быть как все: жить на земле, полюбить обыкновенную девушку. Это уже невозможно. И он гибнет. А отцу померещилось, что он проник в тайну… Что он – бог! Вот он – ответ всем великим утопистам!
…Идея была прекрасная! Но что вы с человеком сделаете? Человек не изменился со времен старого Рима…
Медсестра ушла. Закрыл глаза.
Подождите… все-таки я закончу… На час сил еще у меня хватит. Продолжим… В тюрьме я просидел без малого год. Уже готовился к суду. К этапу. Удивлялся: чего они со мной тянут? Как я понимаю, никакой логики у них не было. Тысячи дел… Хаос… Через год меня вызвал новый следователь… Мое дело отдают на пересмотр. И меня отпускают, сняли все обвинения. Значит, ошибка. Партия мне верит! Сталин был великий режиссер… Как раз в это время он убрал «кровавого карлика», наркома Ежова. Его судили. Расстреляли. Началась реабилитация. Народ вздохнул: до Сталина дошла правда… А это была всего лишь передышка перед новой кровью… Игра! Но все поверили. И я поверил. Прощаюсь с Верховцевым… Он показывает свои сломанные пальцы: «А я здесь уже девятнадцать месяцев и семь дней. Никто меня отсюда не выпустит. Побоятся». Николай Верховцев… член партии с тысяча девятьсот двадцать четвертого года… расстрелян в сорок первом году, когда немцы подходили к городу. Энкаведисты расстреляли всех заключенных, которых не успели эвакуировать. Выпустили уголовную шпану, а все «политические» подлежали ликвидации как предатели. Немцы вошли в город и открыли ворота тюрьмы – там лежала гора трупов. Жителей города, пока трупы не стали разлагаться, гоняли к тюрьме – смотреть на советскую власть.
Сына я нашел у чужих людей, няня увезла его в деревню. Он заикался, боялся темноты. Стали жить с ним вдвоем. Я добивался каких-нибудь сведений о жене. И одновременно – восстановления в партии. Чтобы мне вернули мой партбилет. Новый год… В доме нарядная елка. Ждем с сыном гостей. Звонок в дверь. Открываю. Стоит на пороге плохо одетая женщина: «Я пришла передать вам привет от вашей жены». – «Жива!» – «Год назад была жива. Одно время я работала с ней в свинарнике. Воровали у свиней мороженую картошку, благодаря этому не сдохли. Жива ли она сейчас, не знаю». Быстро ушла. Я ее не задерживал… должны были прийти гости… (Молчит.) Бой курантов. Открыли шампанское. Первый тост «За Сталина!». Да-а-а…
Сорок первый год…
Все плакали… А я орал от счастья – война! Я пойду на войну! Уж это-то мне позволят. Отправят. Стал проситься на фронт. Меня долго не брали. Военком был знакомый: «Не могу. У меня на руках инструкция – “врагов” не брать». – «Это кто враг? Я – враг!» – «Твоя жена отбывает наказание в лагере по 58-й статье – контрреволюционная деятельность». Пал Киев… бои под Сталинградом… Я завидовал любому человеку в военной форме – он защищает Родину! Девушки уходили на фронт… А я? Пишу письмо в райком партии: расстреляйте или пустите на фронт! Через два дня мне вручили повестку – в двадцать четыре часа явиться на сборный пункт. Война была спасением… единственный шанс вернуть себе честное имя. Я радовался.
…Революцию хорошо помню. А потом, извините, уже хуже. Даже войну уже меньше помню, хотя по времени она ближе. Помню, что ничего не поменялось. Только оружие к концу войны у нас было другое – не шашки и винтовки, а «катюши». А жизнь солдатская? Как и раньше, мы могли годами есть суп из перловки и пшенную кашу, месяцами носить грязное белье. Не мыться. Спать на голой земле. А будь мы другие, как бы мы победили?
…Поднялись в бой… Нас из пулеметов! Все легли на землю. Тут еще миномет подключился, разносит людей в клочья. Рядом со мной упал комиссар: «Что лежишь, контра! Вперед! Пристрелю!».
…Под Курском встретил своего следователя. Бывшего директора школы… У меня была мысль: «Ну, теперь, сволочь, ты у меня в руках. В бою пристрелю тихо». Было… Ну да… Хотел. Не успел. Мы с ним даже один раз разговаривали. «Родина у нас одна» – его слова. Смелый был человек. Геройский. Погиб под Кенигсбергом. Что сказать… Могу сказать… я подумал, что Бог сделал мое дело… Врать не буду…
Вернулся домой дважды раненый. С тремя орденами и медалями. Меня вызвали в райком партии: «К сожалению, жену мы вам вернуть не можем. Жена погибла. Но честь мы вам возвращаем…». Мне отдали мой партбилет. И я был счастлив! Я был счастлив…
Говорю ему, что мне этого не понять – никогда. Взрывается.
По законам логики нас судить нельзя. Бухгалтеры! Поймите же! Нас можно судить только по законам религии. Веры! Вы еще нам позавидуете! Что у вас великого? Ничего нет. Один комфорт. Все для желудка… для двенадцатиперстной кишки… Набить брюхо и обставиться цацками… А я… мое поколение… Все, что у вас есть, это мы построили. Заводы, плотины… электростанции… А где ваше? И Гитлера мы победили. После войны… Родился у кого-то ребенок – радость! Радость не такая, как до войны. Другая. Я мог и заплакать… (Закрыл глаза. Устал.) А-а-а… Верили… А теперь нам вынесли приговор: вы верили в утопию… Верили! Любимый мой роман «Что делать?» Чернышевского… Сейчас его уже не читают. Скучно. Читают только название – вечный русский вопрос: что делать? Для нас это был катехизис. Учебник революции. Целые страницы заучивали наизусть. Четвертый сон Веры Павловны… (Читает, как стихи.) «Дома из хрусталя и алюминия… Хрустальные дворцы! Лимонные и апельсиновые сады посреди городов. Стариков почти нет, люди очень поздно стареют, потому что жизнь прекрасна. Все делают машины, люди только ездят и управляют машинами… Машины жнут, вяжут… Нивы густые и изобильные. Цветы – как деревья. Все счастливые. Радостные. Ходят в красивых одеждах – мужчины и женщины. Ведут вольную жизнь труда и наслаждения. Всем много места, довольно работы. Неужели это мы? Неужели это наша Земля? И все так будут жить? Будущее светло и прекрасно…» Вон… (Кивает в сторону внука.) Посмеивается… Дурачок я для него. Так и живем.
– У Достоевского есть ответ Чернышевскому: «Стройте, стройте свой хрустальный дворец, а я вот возьму и швырну в него камень… И не потому, что голоден и живу в подвале, а просто так – от своеволия…»
– (Разозлился.) Вы думаете, что нам коммунизм, эту заразу, как пишут в сегодняшних газетах, в пломбированном вагоне из Германии привезли? Что за ерунда! Народ восстал. Не было того «золотого века» при царе, о котором сейчас вдруг вспомнили. Сказки! И о том, что Америку хлебом кормили, и что судьбы Европы решали. Умирал русский солдат за всех – это правда. А жили… У нас в семье на пятерых детей были одни боты. Ели картошку с хлебом, а зимой – без хлеба. Одну картошку… А вы спрашиваете: откуда взялись коммунисты?
Я столько помню… А зачем? Зачем, а? Что теперь мне с этим делать? Мы любили будущее. Будущих людей. Спорили, когда это будущее наступит. Через сто лет – точно. Но нам это казалось слишком далеко… (Передышка.)
Я выключаю диктофон.
Без диктофона… Хорошо… Мне надо кому-то вот это рассказать…
Мне было пятнадцать лет. Приехали к нам в деревню красноармейцы. На конях. Пьяные. Продотряд. Спали они до вечера, а вечером собрали всех комсомольцев. Выступил командир: «Красная армия голодает. Ленин голодает. А кулаки прячут хлеб. Жгут». Я знал, что мамкин родной брат… дядька Семен… завез в лес мешки с зерном и закопал. Я – комсомолец. Клятву давал. Ночью я пришел в отряд и повел их к тому месту. Нагрузили они целый воз. Командир руку мне пожал: «Расти, брат, скорей». Утром я проснулся от мамкиного крика: «Семенова хата горит!». Дядьку Семена нашли в лесу… порубили его красноармейцы шашками на куски… Мне было пятнадцать лет. Красная армия голодает… Ленин… Боялся выйти на улицу. Сидел в хате и плакал. Мамка обо всем догадалась. Ночью дала мне в руки торбочку: «Уходи, сынок! Пусть Бог тебя простит, несчастного». (Закрыл рукой глаза. Но я все равно вижу – плачет.)
Хочу умереть коммунистом. Последнее мое желание…
В 90-е годы я опубликовала только часть этой исповеди. Мой герой дал рассказ кому-то почитать, с кем-то посоветовался, и его убедили, что полная публикация «бросит тень на партию». А этого он боялся больше всего. После его смерти нашли завещание: свою большую трехкомнатную квартиру в центре города он завещал не внукам, а «для нужд любимой коммунистической партии, которой я обязан всем». Об этом даже написали в вечерней городской газете. Такой поступок был уже непонятен. Все посмеивались над сумасшедшим стариком. Памятник на его могиле так никто и не поставил.
Теперь решила напечатать рассказ полностью. Все это уже принадлежит больше времени, чем одному человеку.
О жестокости пламени и спасении высью
Тимерян Зинатов – фронтовик, 77 лет
Из коммунистических газет
«Зинатов Тимерян Хабулович – один из героических защитников Брестской крепости, которая первая приняла на себя удар гитлеровских войск утром 22 июня 1941-го года.
Национальность – татарин. Перед войной – курсант полковой школы (42-й стрелковый полк 44-й стрелковой дивизии). В первые дни обороны крепости был ранен. Попал в плен. Дважды бежал из немецкого концлагеря – второй раз удачно. Закончил войну в действующей армии, как и начинал – рядовым солдатом. За оборону Брестской крепости был награжден орденом Отечественной войны II степени. После войны исколесил всю страну, работал на стройках дальнего Севера, строил БАМ, а когда вышел на пенсию, остался жить в Сибири. В Усть-Куте.
Несмотря на то, что от Усть-Кута до Бреста много тысяч километров, Тимерян Зинатов каждый год приезжал в Брестскую крепость, дарил сотрудникам музея торты. Его все знали. Почему он так часто бывал в крепости? Он, как и его друзья-однополчане, с которыми он тут встречался, только в крепости чувствовали себя защищенными. Тут никто и никогда не сомневался, что они были героями настоящими, а не придуманными. В крепости никто не смел бросить им в лицо: “Если бы вы не победили, мы бы сейчас пиво баварское пили. Жили в Европе”. Горе-перестройщики! Знали бы они, что если бы их деды не победили, то мы стали бы страной горничных и свинопасов. Гитлер писал, что славянских детей надо учить только считать до ста…
В последний раз Зинатов приехал в Брест в сентябре 1992 года, все было как обычно: встретился с фронтовыми друзьями, бродил по крепости. Конечно заметил, что поток посетителей заметно уменьшился. Наступили времена, когда стало модно чернить наше советское прошлое и его героев…
Пришло время отъезда… В пятницу он со всеми попрощался, сказал, что в выходные уезжает домой. Никто не мог подумать, что на этот раз он приехал в крепость, чтобы остаться здесь навсегда.
Когда в понедельник сотрудники музея пришли на работу, раздался звонок из транспортной прокуратуры: защитник Брестской крепости, выживший здесь в кровавом котле 41-го года, бросился под поезд…
Кто-то потом припомнит долго стоявшего на перроне аккуратного старика с чемоданом. При нем нашли семь тысяч рублей, которые он привез из дома на собственные похороны, и предсмертную записку с проклятиями ельцинско-гайдаровскому правительству – за всю эту устроенную ими унизительную и нищую жизнь. И за измену Великой Победе. Похоронить просил в крепости.
Из предсмертной записки:
“…если бы тогда, в войну, умер от ран, я бы знал: погиб за Родину. А вот теперь – от собачьей жизни. Пусть так и напишут на могиле… Не считайте меня сумасшедшим…”
“…я хочу умереть стоя, чем на коленях просить нищенское пособие для продолжения своей старости и дотянуть до гроба с протянутой рукой! Так что, уважаемые, не судите крепко меня и войдите в мое положение. Средства оставляю, если не обворуют, надеюсь, на закопание хватит… гроба не надо… Я в чем есть, той одежды хватит, только не забудьте в карман положить удостоверение защитника Брестской крепости – для потомков наших. Мы были героями, а умираем в нищете! Будьте здоровы, не горюйте за одного татарина, который протестует один за всех: “Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!”.
После войны в подземельях Брестской крепости была найдена надпись, нацарапанная на стене штыком: “Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина! 22.VII-41 г”. По решению ЦК эта строчка стала символом мужества советского народа и преданности делу КПСС. Оставшиеся в живых защитники Брестской крепости утверждали, что автор этой надписи – курсант полковой школы, беспартийный татарин Тимерян Зинатов, но коммунистических идеологов больше устраивало, чтобы она принадлежала погибшему Неизвестному солдату.
Расходы на похороны Брестские городские власти взяли на себя. Похоронили героя за счет статьи “текущее содержание объектов благоустройства”…»
«…Отчего бросился под поезд старый солдат Тимерян Зинатов? Начну издалека… С письма в “Правду” от Виктора Яковлевича Яковлева из станицы Ленинградская Краснодарского края. Участника Великой Отечественной войны, защитника Москвы в 41-м и участника московского парада в честь 55-летия Победы. Написать в редакцию его заставила большая обида…
Недавно они с другом (бывший полковник и тоже ветеран войны) ездили в Москву. Надели по этому случаю праздничные пиджаки с орденскими колодками. За день устали от шумной столицы и, когда пришли на Ленинградский вокзал, захотелось где-нибудь присесть до прихода поезда. Свободных мест не оказалось, тогда они зашли в пустующий зал, где были буфет и мягкие кресла. К ним тут же подскочила девушка, разносившая по залу напитки, и грубо показала на выход: “Сюда вам нельзя. Здесь бизнес-зал!”. Дальше цитата из письма: “Я ей сгоряча ответил: “Значит, это для воров и спекулянтов, а нам нельзя? Как когда-то в Америке: вход неграм и собакам воспрещается”. О чем было еще говорить, когда все ясно. Мы повернулись и ушли. Но я успел заметить, как несколько этих так называемых бизнесменов, а попросту – жуликов, там гоготали, жрали, пили… Забыто уже, что мы тут кровь проливали… Все отобрали у нас эти сволочи чубайсы, вексельберги, грефы… Деньги, честь. И прошлое, и настоящее. Все! А теперь бреют в солдаты наших внуков, чтобы защищать их миллиарды. Вот я хочу спросить: за что мы воевали? Сидели в траншеях – осенью по колено в воде, зимой в лютые морозы – по колено в снегу, месяцами не снимали одежду и не спали по-людски. Так было под Калинином, Яхромой, под Москвой… Там мы не делились на богатых и бедных…”
Можно, конечно, сказать, что не прав ветеран – не все бизнесмены “воры и спекулянты”. Но посмотрим его глазами на нашу посткоммунистическую страну… На высокомерие новых хозяев жизни, на их брезгливость к “людям вчерашнего дня”, от которых, как пишут в гламурных журналах, исходит “запах бедности”. Так, по мнению авторов этих изданий, пахнут торжественные собрания в больших залах в день Победы, куда раз в год приглашают ветеранов и говорят в их честь лицемерные хвалебные речи. А на самом деле они сегодня никому не нужны. Наивны их мысли о справедливости. И их преданность советскому образу жизни…
В начале своего президентства Ельцин клялся, что ляжет на рельсы, если допустит снижение уровня жизни народа. Уровень этот не просто снизился, а упал, можно сказать, в пропасть. Однако Ельцин на рельсы не лег. А лег под поезд в знак протеста осенью 1992-го старый солдат Тимерян Зинатов…»
За поминальным столом
По нашему обычаю: мертвые в землю – живые за стол. Собралось много людей, некоторые приехали издалека: из Москвы, Киева, Смоленска… Все с орденами и медалями, как в День Победы. О смерти говорили – как о жизни.
– За погибшего нашего товарища! Горький глоток. (Все встают.)
– Земля ему пухом…
– Эх, Тимерян… Тимерян Хабулович… Обида у него была. Все мы крепко обижены. Привыкли к социализму. К советской Родине – СССР. А живем теперь в разных странах, при другом строе. Под другими флагами. Не под нашим победным красным флагом… Я убежал на фронт в семнадцать лет…
– Наши внуки Великую Отечественную проиграли бы. Нет у них идеи, нет у них большой мечты.
– Они другие книжки читают и смотрят другие фильмы.
– Рассказываешь… а им это уже как сказка… Задают вопросы: «Зачем бойцы погибали, спасая полковое знамя? Можно было сшить новое». Воевали, убивали – а за кого? За Сталина? Да за тебя, дурак!
– Надо было сдаться, вылизать сапоги немчуре…
– Принесли похоронку на отца, и я сразу попросился на фронт.
– Разворовывают советскую нашу Родину… продают… Если бы мы знали, что так получится, еще подумали бы…
– Мама умерла в войну, а папа еще раньше умер от туберкулеза. С пятнадцати лет я пошла работать. На заводе давали полбуханки хлеба в день и больше ничего, целлюлоза, клей в том хлебе. Один раз упала в голодный обморок… другой… Пошла в военкомат: «Не дайте умереть. Отправьте на фронт». Просьбу удовлетворили. У тех, кто уезжал, и у тех, кто провожал, глаза были сумасшедшие! Набилась полная теплушка девчат. Пели: «Девушки, война дошла аж до Урала, / Ах, девушки, что молодость пропала?». На станциях цвела сирень… одни девчонки смеялись, а другие плакали…
– Все мы были за перестройку. За Горбачева. Но не за то, что из этого получилось…
– Горбач – агент…
– Я не понимал, что Горбачев говорил… какие-то непонятные слова, я никогда раньше их не слышал… Что за конфетку он нам обещал? Но слушать мне нравилось… Только слабак он оказался, без боя сдал ядерный чемоданчик. Нашу коммунистическую партию…
– Русскому человеку нужна такая идея, от которой мороз по коже и мурашки по позвоночнику.
– Мы были великой страной…
– За нашу Родину! За Победу! До дна! (Чокаются.)
– Теперь звезды на памятниках… А я вспоминаю, как мы наших ребят хоронили… Сверху в яму чего попало набросаем, песком присыпем, и тут же команда: вперед – вперед! Побежали дальше. Новый бой. И опять полная яма. Отступали и наступали от ямы к яме. Привезут подкрепление, через два-три дня это уже трупы. Считанные люди оставались. Счастливчики! К концу сорок третьего года мы уже научились воевать. Уже правильно воевали. Стало меньше людей погибать… Тогда у меня появились друзья…
– Всю войну на передовой, и ни одной царапины, ничего! А я – атеист. До Берлина дошел… увидел логово зверя…
– Шли в бой с одной винтовкой на четверых. Первого убьют, второй винтовку подхватывает, второго – следующий… А у немцев новенькие автоматы.
– Вначале немцы были высокомерные. Они уже покорили Европу. Вошли в Париж. За два месяца планировали решить вопрос с СССР. Если они раненые попадали к нам в плен, то плевали в лицо нашим сестричкам. Срывали бинты. Кричали «Хайль Гитлер!». А в конце войны уже: «Русский, не стреляй! Гитлер капут!».
– Больше всего я боялся позорно умереть. Если кто струсил, побежал – командир на месте расстреливал… Это было обычным делом…
– Ну как сказать… Воспитывали нас по-сталински: воевать будем на чужой территории, и «…от тайги до британских морей / Красная армия всех сильней…». Пощады врагу не будет! Первые дни войны… Вспоминаю как сплошной кошмар… Попали в окружение… У всех один вопрос: в чем дело? Где Сталин? Ни одного нашего самолета в небе… Закопали свои партийные и комсомольские билеты и бродили по лесным дорогам… Ладно, хватит… Вам не стоит про это писать… (Отодвигает от себя диктофон.) Немцы агитировали, динамики у них работали круглосуточно: «Русский Иван, сдавайся! Немецкая армия гарантирует тебе жизнь и хлеб». Я готов был застрелиться. А если нечем! Нечем! Патронов нет… Солдатики… нам по восемнадцать-девятнадцать лет… Командиры вешались повально. Кто на ремне, кто… по-всякому… Висели на соснах… Конец света, твою мать!
– Родина или смерть!
– У Сталина был план – семьи сдавшихся в плен ссылать в Сибирь. Три с половиной миллиона пленных! Всех не сошлешь! Усатый людоед!
– Сорок первый проклятый год…
– Говори все… теперь можно…
– Привычки такой нет…
– Мы и на фронте боялись друг с другом откровенничать. Людей сажали до войны… и в войну сажали… Моя мать работала на хлебозаводе, там была проверка, и у нее в перчатках нашли крошки хлеба, а это уже было вредительство. Дали десять лет тюрьмы. Я на фронте, отец на фронте, малые брат и сестра остались с бабушкой, они просили ее: «Бабуля, ты не умирай раньше, чем папа и Сашка (это я) с войны вернутся». Отец пропал без вести.
– Какие мы герои? С нами никогда не обращались как с героями. Детей мы с женой растили в бараке, потом дали коммуналку. Сейчас получаем копейки… слезы, а не пенсию… По телевизору показывают, как немцы живут. Хорошо! Проигравшие живут в сто раз лучше, чем победители.
– Бог не знает, что такое быть маленьким человеком.
– Я был, есть и останусь коммунистом! Без Сталина и без партии Сталина мы бы не победили. Демократия, твою мать! Боюсь боевые ордена надеть. «Маразматик старый, где служил? На фронте или по тюрьмам и лагерям?» – вот что я слышу от молодых. Сосут пиво и насмехаются.
– Предлагаю вернуть памятники нашему вождю, великому Сталину, на прежние места. Прячут на задворках, как мусор.
– Поставь у себя на даче…
– Хотят переписать войну. Ждут, когда мы все передохнем.
– Теперь мы, короче, «советикус-дебилус»…
– Спасло Россию то, что она большая. Урал… Сибирь…
– Самое страшное – подняться в атаку. Первые десять минут… пять минут… У того, кто поднимался первым, шансов в живых остаться не было. Пуля дырочку найдет. Коммунисты, вперед!
– За военную мощь нашей Родины! (Чокаются.)
– Короче… убивать никому неохота. Неприятно. Но привыкаешь… учишься…
– Под Сталинградом я вступил в партию. Написал в заявлении: «Хочу быть в первых рядах защитников Родины… Не пожалею своей молодой жизни…». В пехоте награждали редко. Имею одну медаль «За отвагу».
– Военные контузии сказались… Я стал инвалидом, но пока держусь.
– Помню: взяли в плен двух власовцев… Один говорит: «Я мстил за отца…». Отца расстреляло энкавэдэ… Другой: «Я не хотел сдохнуть в немецком концлагере». Молодые пацаны, как мы, одного с нами возраста. Когда ты уже поговорил с человеком, в глаза посмотрел… трудно его убить… Назавтра всех нас допрашивали в особом отделе: «Почему вступили в разговоры с предателями? Почему не расстреляли сразу?». Я стал оправдываться… Особист наган на стол: «Ты, б…, еще права качаешь?! Еще одно слово вякнешь и…». Власовцев никто не щадил. Танкисты привязывали их к танкам, включали мотор – и в разные стороны… разрывали на куски… Предатели! А все ли они были предателями?
– Особистов боялись больше, чем немцев. Генералы их боялись…
– Страх… всю войну страх был…
– А если бы не Сталин… Без «железной руки» Россия бы не выжила…
– Я не за Сталина, я за Родину воевал. Клянусь своими детьми и внуками, я ни разу не слышал, чтобы кричали: «За Сталина!».
– Без солдата войну не выиграть.
– Твою мать…
– Бояться надо только Бога. Он есть суд.
– Если Боженька есть…
(Нестройный хор.) «И значит, нам нужна одна победа! / Одна на всех, мы за ценой не постоим…»
Мужская история
– Всю жизнь руки по швам! Не смел пикнуть. Теперь расскажу…
В детстве… как себя помню… я боялся потерять папу… Пап забирали ночью, и они исчезали в никуда. Так пропал мамин родной брат Феликс… Музыкант. Его взяли за глупость… за ерунду… В магазине он громко сказал жене: «Вот уже двадцать лет советской власти, а приличных штанов в продаже нет». Сейчас пишут, что все были против… А я скажу, что народ поддерживал посадки. Взять нашу маму… У нее сидел брат, а она говорила: «С нашим Феликсом произошла ошибка. Должны разобраться. Но сажать надо, вон сколько безобразий творится вокруг». Народ поддерживал… Война! После войны я боялся вспоминать войну… Свою войну… Хотел в партию вступить – не приняли: «Какой ты коммунист, если ты был в гетто?». Молчал… молчал… Была в нашем партизанском отряде Розочка, красивая еврейская девочка, книжки с собой возила. Шестнадцать лет. Командиры спали с ней по очереди… «У нее там еще детские волосики… Ха-ха…» Розочка забеременела… Отвели подальше в лес и пристрелили, как собачку. Дети рождались, понятное дело, полный лес здоровых мужиков. Практика была такая: ребенок родится – его сразу отдают в деревню. На хутор. А кто возьмет еврейское дитя? Евреи рожать не имели права. Я вернулся с задания: «Где Розочка?» – «А тебе что? Этой нет – другую найдут». Сотни евреев, убежавших из гетто, бродили по лесам. Крестьяне их ловили, выдавали немцам за пуд муки, за килограмм сахара. Напишите… я долго молчал… Еврей всю жизнь чего-то боится. Куда бы камень не упал, но еврея заденет.
Уйти из горящего Минска мы не успели из-за бабушки… Бабушка видела немцев в 18-м году и всех убеждала, что немцы – культурная нация и мирных людей они не тронут. У них в доме квартировал немецкий офицер, каждый вечер он играл на пианино. Мама начала сомневаться: уходить – не уходить? Из-за этого пианино, конечно… Так мы потеряли много времени. Немецкие мотоциклисты въехали в город. Какие-то люди в вышитых сорочках встречали их с хлебом-солью. С радостью. Нашлось много людей, которые думали: вот пришли немцы, и начнется нормальная жизнь. Многие ненавидели Сталина и перестали это скрывать. В первые дни войны было столько нового и непонятного…
Слово «жид» я услышал в первые дни войны… Наши соседи начали стучать нам в дверь и кричать: «Все, жиды, конец вам! За Христа ответите!». Я был советский мальчик. Окончил пять классов, мне двенадцать лет. Я не мог понять, что они говорят. Почему они так говорят? Я и сейчас этого не понимаю… У нас семья была смешанная: папа – еврей, мама – русская. Мы праздновали Пасху, но особенным образом: мама говорила, что сегодня день рождения хорошего человека. Пекла пирог. А на Пейсах (когда Господь помиловал евреев) отец приносил от бабушки мацу. Но время было такое, что это никак не афишировалось… надо было молчать…
Мама пришила нам всем желтые звезды… Несколько дней никто не мог выйти из дома. Было стыдно… Я уже старый, но я помню это чувство… Как было стыдно… Всюду в городе валялись листовки: «Ликвидируйте комиссаров и жидов», «Спасите Россию от власти жидобольшевиков». Одну листовку подсунули нам под дверь… Скоро… да… Поползли слухи: американские евреи собирают золото, чтобы выкупить всех евреев и перевезти в Америку. Немцы любят порядок и не любят евреев, поэтому евреям придется пережить войну в гетто… Люди искали смысл в том, что происходит… какую-то нить… Даже ад человек хочет понять. Помню… Я хорошо помню, как мы переселялись в гетто. Тысячи евреев шли по городу… с детьми, с подушками… Я взял с собой, это смешно, свою коллекцию бабочек. Это смешно сейчас… Минчане высыпали на тротуары: одни смотрели на нас с любопытством, другие со злорадством, но некоторые стояли заплаканные. Я мало оглядывался по сторонам, я боялся увидеть кого-нибудь из знакомых мальчиков. Было стыдно… постоянное чувство стыда помню…
Мама сняла с руки обручальное кольцо, завернула в носовой платок и сказала, куда идти. Я пролез ночью под проволокой… В условленном месте меня ждала женщина, я отдал ей кольцо, а она насыпала мне муки. Утром мы увидели, что вместо муки я принес мел. Побелку. Так ушло мамино кольцо. Других дорогих вещей у нас не было… Стали пухнуть от голода… Возле гетто дежурили крестьяне с большими мешками. День и ночь. Ждали очередного погрома. Когда евреев увозили на расстрел, их впускали грабить покинутые дома. Полицаи искали дорогие вещи, а крестьяне складывали в мешки все, что находили. «Вам уже ничего не надо будет», – говорили они нам.
Однажды гетто притихло, как перед погромом. Хотя не раздалось ни одного выстрела. В тот день не стреляли… Машины… много машин… Из машин выгружались дети в хороших костюмчиках и ботиночках, женщины в белых передниках, мужчины с дорогими чемоданами. Шикарные были чемоданы! Все говорили по-немецки. Конвоиры и охранники растерялись, особенно полицаи, они не кричали, никого не били дубинками, не спускали с поводков рычащих собак. Спектакль… театр… Это было похоже на спектакль… В этот же день мы узнали, что это привезли евреев из Европы. Их стали звать «гамбургские» евреи, потому что большинство из них прибыло из Гамбурга. Они были дисциплинированные, послушные. Не хитрили, не обманывали охрану, не прятались в тайниках… они были обречены… На нас они смотрели свысока. Мы бедные, плохо одетые. Мы другие… не говорили по-немецки…
Всех их расстреляли. Десятки тысяч «гамбургских» евреев…
Этот день… все как в тумане… Как нас выгнали из дома? Как везли? Помню большое поле возле леса… Выбрали сильных мужчин и приказали им рыть две ямы. Глубокие. А мы стояли и ждали. Первыми маленьких детей побросали в одну яму… и стали закапывать… Родители не плакали и не просили. Была тишина. Почему, спросите? Я думал… Если на человека напал волк, человек же не будет его просить, умолять оставить ему жизнь. Или дикий кабан напал… Немцы заглядывали в яму и смеялись, бросали туда конфеты. Полицаи пьяные в стельку… у них полные карманы часов… Закопали детей… И приказали всем прыгать в другую яму. Стоим мама, папа, я и сестренка. Подошла наша очередь… Немец, который командовал, он понял, что мама русская, и показал рукой: «А ты иди». Папа кричит маме: «Беги!». А мама цеплялась за папу, за меня: «Я с вами». Мы все ее отталкивали… просили уйти… Мама первая прыгнула в яму…
Это все, что я помню… Пришел в сознание от того, что кто-то сильно ударил меня по ноге чем-то острым. От боли я вскрикнул. Услышал шепот: «А тут один живой». Мужики с лопатами рылись в яме и снимали с убитых сапоги, ботинки… все, что можно было снять… Помогли мне вылезти на верх. Я сел на край ямы и ждал… ждал… Шел дождь. Земля была теплая-теплая. Мне отрезали кусок хлеба: «Беги, жиденок. Может, спасешься».
Деревня была пустая… Ни одного человека, а дома целые. Хотелось есть, но попросить было не у кого. Так и ходил один. На дороге то резиновый бот валяется, то галоши… косынка… За церковью увидел обгоревших людей. Черные трупы. Пахло бензином и жареным… Убежал назад в лес. Питался грибами и ягодами. Один раз встретил старика, который заготавливал дрова. Старик дал мне два яйца. «В деревню, – предупредил, – не заходи. Мужики скрутят и сдадут в комендатуру. Недавно двух жидовочек так поймали».
Однажды заснул и проснулся от выстрела над головой. Вскочил: «Немцы?». На конях сидели молодые хлопцы. Партизаны! Они посмеялись и стали спорить между собой: «А жиденыш нам зачем? Давай…» – «Пускай командир решает». Привели меня в отряд, посадили в отдельную землянку. Поставили часового… Вызвали на допрос: «Как ты оказался в расположении отряда? Кто послал?» – «Никто меня не посылал. Я из расстрельной ямы вылез». – «А может, ты шпион?» Дали два раза по морде и кинули назад в землянку. К вечеру впихнули ко мне еще двоих молодых мужчин, тоже евреев, были они в хороших кожаных куртках. От них я узнал, что евреев в отряд без оружия не берут. Если нет оружия, то надо принести золото. Золотую вещь. У них были с собой золотые часы и портсигар – даже показали мне, – они требовали встречи с командиром. Скоро их увели. Больше я их никогда не встречал… А золотой портсигар увидел потом у нашего командира… и кожаную куртку… Меня спас папин знакомый, дядя Яша. Он был сапожник, а сапожники ценились в отряде, как врачи. Я стал ему помогать…
Первый совет дяди Яши: «Поменяй фамилию». Моя фамилия Фридман… Я стал Ломейко… Второй совет: «Молчи. А то получишь пулю в спину. За еврея никто отвечать не будет». Так оно и было… Война – это болото, легко влезть и трудно вылезти. Другая еврейская поговорка: когда дует сильный ветер, выше всего поднимается мусор. Нацистская пропаганда заразила всех, партизаны были антисемитски настроены. Нас, евреев, было в отряде одиннадцать человек… потом пять… Специально при нас заводились разговоры: «Ну какие вы вояки? Вас, как овец, ведут на убой…», «Жиды трусливые…». Я молчал. Был у меня боевой друг, отчаянный парень… Давид Гринберг… он им отвечал. Спорил. Его убили выстрелом в спину. Я знаю, кто убил. Сегодня он герой – ходит с орденами. Геройствует! Двоих евреев убили якобы за сон на посту… Еще одного за новенький парабеллум… позавидовали… Куда бежать? В гетто? Я хотел защищать Родину… отомстить за родных… А Родина? У партизанских командиров были секретные инструкции из Москвы: евреям не доверять, в отряд не брать, уничтожать. Нас считали предателями. Теперь мы об этом узнали благодаря перестройке.
Человека жалко… А как лошади умирают? Лошадь не прячется, как другие животные: собака там, кошка, корова и та убегает, лошадь стоит и ждет, когда ее убьют. Тяжелая картина… В кино кавалеристы несутся с гиком и с шашкой над головой. Бред! Фантазия! В нашем отряде одно время были кавалеристы, их быстро расформировали. Лошади не могут идти по сугробам, тем более скакать, они застревают в сугробах, а у немцев мотоциклы – двухколесные, трехколесные, зимой они ставили их на лыжи. Ездили и с хохотом расстреливали и наших лошадей, и всадников. Красивых лошадей могли пожалеть, видно, среди них было немало деревенских парней…
Приказ: сжечь хату полицая… Вместе с семьей… Семья большая: жена, трое детей, дед, баба. Ночью окружили их… забили дверь гвоздями… Облили керосином и подожгли. Кричали они там, голосили. Мальчишка лезет через окно… Один партизан хотел его пристрелить, а другой не дал. Закинули назад в костер. Мне четырнадцать лет… Я ничего не понимаю… Все, что я смог – запомнил это. И вот рассказал… Не люблю слова «герой»… героев на войне нет… Если человек взял в руки оружие, он уже не будет хорошим. У него не получится.
Помню блокаду… Немцы решили очистить свои тылы и дивизии СС бросили против партизан. Навешали фонарей на парашютах и бомбили нас день и ночь. После бомбежки – минометный обстрел. Отряд уходил небольшими группами, раненых увозили с собой, но закрывали им рот, а лошадям надевали специальные намордники. Бросали все, бросали домашний скот, а он бежал за людьми. Коровы, овечки… Приходилось расстреливать… Немцы подошли близко, так близко, что уже слышны были их голоса: «о мутер, о мутер»… запах сигарет… У каждого из нас хранился последний патрон… Но умереть никогда не опоздаешь. Ночью мы… трое нас осталось из группы прикрытия… вспороли брюхо убитым лошадям, выкинули все оттуда, и сами туда залезли. Просидели так двое суток, слышали, как немцы ходили туда-сюда. Постреливали. Наконец наступила полная тишина. Тогда мы вылезли: все в крови, в кишках… в говне… Полоумные. Ночь… луна светит…
Птицы, я вам скажу, нам тоже помогали… Сорока услышит чужого человека – обязательно закричит. Подаст сигнал. К нам они привыкли, а немцы пахли по-другому: у них одеколон, душистое мыло, сигареты, шинели из отличного солдатского сукна… и хорошо смазанные сапоги… У нас самодельный табак, обмотки, лапти из воловьей шкуры, прикрученные к ногам ремешками. У них шерстяное нательное белье… Мертвых мы раздевали до трусов! Собаки грызли их лица, руки. Даже животных втянули в войну…
Много лет прошло… полвека… А ее не забыл… эту женщину… У нее было двое детей. Маленьких. Она спрятала в погребе раненого партизана. Кто-то донес… Семью повесили посредине деревни. Детей первыми… Как она кричала! Так люди не кричат… так звери кричат… Должен ли человек идти на такие жертвы? Я не знаю. (Молчит.) Пишут сейчас о войне те, кто там не был. Я не читаю… Вы не обижайтесь, но я не читаю…
Минск освободили… Для меня война кончилась, в армию по возрасту не взяли. Пятнадцать лет. Где жить? В нашей квартире поселились чужие люди. Гнали меня: «Жид пархатый…». Ничего не хотели отдавать: ни квартиры, ни вещей. Привыкли к мысли, что евреи не вернутся никогда…
(Нестройный хор.) «Бьется в тесной печурке огонь, / На поленьях смола, как слеза. / И поет мне в землянке гармонь. / Про улыбку твою и глаза…»
– После войны люди уже не те были. Я сам вернулся домой остервенелый.
– Сталин не любил наше поколение. Ненавидел. За то, что свободу почувствовали. Война – это была свобода для нас! Мы побывали в Европе, увидели, как там люди живут. Я шел на работу мимо памятника Сталину, и меня холодный пот пробивал: а вдруг он знает, о чем я думаю?
– «Назад! В стойло!» – сказали нам. И мы пошли.
– Дерьмократы! Разрушили все… валяемся в говне…
– Все забыла… и любовь забыла… А войну помню…
– Два года в партизанах. В лесу. После войны лет семь… восемь… вообще не могла на мужчин смотреть. Насмотрелась! Была такая апатия. Поехали с сестрой в санаторий… За ней ухаживают, она танцует, а я хотела покоя. Поздно замуж вышла. Муж был младше меня на пять лет. Как девочка был.
– Ушла на фронт, потому что верила всему, что писала газета «Правда». Стреляла. Страстное было желание – убивать! Убивать! Раньше хотела все забыть, но не могла, а теперь оно само забывается. Одно помню, что смерть на войне по-другому пахнет… запах убийства особенный… Когда не много, а один человек лежит, начинаешь думать: кто он? Откуда? Его же кто-то ждет…
– Под Варшавой… Старая полька принесла мне мужнину одежду: «Сними с себя все. Я постираю. Почему вы такие грязные и худые? Как вы победили?». Как мы победили?!
– Ты давай… без лирики…
– Победили – да. Но наша великая победа не сделала нашу страну великой.
– Я умру коммунистом… Перестройка – это операция ЦРУ по уничтожению СССР.
– Что осталось в памяти? Самое обидное было то, что немцы нас презирали. Как мы жили… наш быт… Гитлер называл славян кроликами…
– Немцы приехали в нашу деревню. Весна. На следующий день они стали делать клумбу и строить туалет. Старики до сих пор вспоминают, как немцы цветы садили…
– В Германии… Мы заходили в дома: в шкафах много добротной одежды, белье, безделушки. Горы посуды. А до войны нам говорили, что они страдают при капитализме. Смотрели и молчали. Попробуй похвалить немецкую зажигалку или велосипед. Загремишь по пятьдесят восьмой статье за «антисоветскую пропаганду». В один момент… Разрешили отправлять посылки домой: генералу – пятнадцать килограммов, офицеру – десять, солдату – пять. Почту завалили. Мать пишет: «Посылок не надо. Из-за твоих посылок нас убьют». Я им зажигалки послал, часы, шелковый отрез… Шоколадные большие конфеты… они подумали, что это мыло…
– Не трахнутых немок от десяти до восьмидесяти не было! Так что родившиеся там в сорок шестом – это «русский народ».
– Война все спишет… она и списала…
– Вот она – победа! Победа! Всю войну люди фантазировали, как хорошо они будут жить после войны. Два-три дня попраздновали. А потом захотелось что-то есть, надо что-то надеть. Жить захотелось. А ничего нет. Все ходили в немецкой форме. И взрослые, и дети. Шили-перешивали. Хлеб давали по карточкам, очереди километровые. Озлобление повисло в воздухе. Человека могли убить просто так.
– Помню… весь день грохот… Инвалиды ездили на самодельных платформах на шарикоподшипниках. А мостовые – булыжные. Жили они в подвалах и полуподвалах. Пили, валялись в канавах. Попрошайничали. Ордена меняли на водку. Подъедут к очереди и просят: «Дайте купить хлебушек». В очереди одни усталые женщины: «Ты – живой. А мой в могиле лежит». Гнали их. Стали немного лучше жить, вообще запрезирали инвалидов. Никто не хотел войну вспоминать. Уже все были заняты жизнью, а не войной. В один день их убрали из города. Милиционеры вылавливали их и забрасывали в машины, как поросят. Мат… визг… писк…
– А у нас в городе был Дом инвалидов. Молодежь без рук, без ног. Все с орденами. Их разрешили разобрать по домам… официальное было разрешение… Бабы соскучились по мужской ласке и кинулись их забирать: кто на тачке везет, кто в детской коляске. Хотелось, чтобы в доме мужиком запахло, чтобы повесить мужскую рубаху на веревке во дворе. Скоро повезли их назад… Это же не игрушка… и не кино. Попробуй этот кусок мужчины полюбить. Он злой, обиженный, он знает, что его предали.
– Этот день Победы…
Женская история
– А я про свою любовь расскажу… Немцы приехали в нашу деревню на больших машинах, только каски наверху блестели. Молодые, веселые. Щипали девок. Первое время за все платили: за курицу, за яйца. Рассказываю это, и никто мне не верит. Чистая правда! Расплачивались они дойчмарками… Что мне война? У меня – любовь! Одно на уме: когда я его увижу? Придет, сядет на лавке и смотрит на меня, смотрит. Улыбается. «Чего ты улыбаешься? – «А так…» До войны мы вместе в школе учились. Отец у него умер от туберкулеза, а деда раскулачили, сослали с семьей в Сибирь. Вспоминал, как мама переодевала его маленького «в девочку» и учила, что если за ними придут, чтобы он убежал на станцию, сел на поезд и уехал. Иван его звали… А он меня: «Любочка моя…» Только так… Не было нам звезды, не было нам счастья. Прикатили немцы, и скоро вернулся его дед, злой приехал, конечно. Один. Всю семью на чужбине похоронил. Рассказывал, как их везли по сибирским рекам. Выгрузили в темной тайге. На двадцать-тридцать человек дали одну пилу и топор. Листья ели… кору грызли… Коммунистов дед ненавидел! Ленина и Сталина! С первого дня начал мстить. Показывал немцам: этот коммунист… и этот… Куда-то этих мужчин забирали… Я долго войну не понимала…
Моем вместе коня на реке. Солнце! Сушим вместе сено, и оно мне так пахнет! Я ничего этого не знала, я так раньше не чувствовала. Без любви я была простая девочка, обыкновенная, пока не полюбила. Вижу вещий сон… Речка у нас небольшая, а я тону в этой речке, меня затягивает подводным течением, уже я под водой. Не поняла как, каким образом, но кто-то меня поднимает, выталкивает наверх, только я почему-то без одежды. Плыву к берегу. То была ночь, а то уже утро. На берегу стоят люди, вся наша деревня. Выхожу из воды голая… совсем голая…
В одном доме имелся патефон. Собиралась молодежь. Танцевали. Гадали на суженого-ряженого, гадали по Псалтырю, на смоле… по фасоли… За смолой девушка должна была сама пойти в лес и найти старую сосну, молодое дерево не годилось, в нем нет памяти. Силы нет. Все это правда… Я в это и сейчас верю… А фасоль раскладывали по кучкам и считали: чет-нечет. Мне восемнадцать лет… Опять же, конечно… В книжках про это не пишут… При немцах жить нам стало лучше, чем при Советах. Немцы открыли церкви. Распустили колхозы и раздали землю – на одного человека два гектара, один коник на два хозяина. Установили твердый налог: осенью мы сдавали зерно, горох, бульбочку и по одному кабанчику со двора. Сдавали, и нам оставалось. Все были довольны. При Советах бедовали. Бригадир ставил в тетрадке «палочки» – трудодни. Осенью за эти трудодни – получи фигу! А тут у нас и мясо, и масло. Другая жизнь! У людей радость, что волю получили. Стал немецкий порядок… Не накормил коня – отлупят нагайкой. Не подмел возле двора… Помню разговоры: к коммунистам привыкли, и к немцам привыкнем. Научимся по-немецки жить. Так было… все в памяти живое… Ночью все боялись «лесных» людей, навещали они без приглашения. Один раз и к нам зашли: у одного – топор, у другого – вилы: «Сало, мать, давай. Самогону. И не шуми сильно». Я вам рассказываю, как оно в жизни было, а не как в книжках пишут. Партизан первое время не любили…
Назначили день нашей свадьбы… После дожинок. Когда кончатся полевые работы и последний сноп бабы цветами обкрутят… (Молчит.) Память слабеет, а душа все помнит… Начался дождь после обеда. Все бегут с поля, и мама возвращается. С плачем: «Боже! Боже! Твой Иван записался в полицию. Будешь женой полицая». – «Не хочу-у-у!» Плачем с мамой вдвоем. Вечером приходит Иван, сел и глаз не поднимает. «Иван, мой миленький, что же ты о нас не подумал?» – «Любка… Любочка моя…» Это дед его заставил. Черт старый! Пригрозил: «Не запишешься в полицию, отправят в Германию. Не видать тебе твоей Любки! Забудь!». Дед мечтал… Хотел, чтобы невестка у него была немка… Немцы крутили фильмы про Германию, какая там прекрасная жизнь. Многие девчата и парни верили. Уезжали. Перед отправкой устраивали гулянья. Играл духовой оркестр. Грузились в поезда в туфельках… (Достает таблетки из сумки.) Плохи мои дела… Врачи говорят, что медицина бессильная… умру скоро… (Молчит.) Хочу, чтобы любовь моя осталась. Меня не будет, а люди пусть читают…
Вокруг война, а мы счастливые. Год прожили – муж и жена. Я беременная. От нас железнодорожная станция была совсем близко. То ехали на фронт немецкие составы, солдаты все молодые, веселые. Песни орали. Увидят: «Медхен! Кляйне медхен!». Смеются. А тут стало меньше молодых, больше пожилых. То были все веселые, а эти едут грустные. Веселья нет. Советская армия побеждает. «Иван, – спрашивала я, – что с нами будет?» – «На мне крови нет. Я ни разу в человека не выстрелил». (Молчит.) Мои дети ничего этого не знают, я им не призналась. Может, перед самым концом… перед смертью… Одно скажу: любовь – отрава…
Через два дома от нас жил парень, которому я тоже нравилась, он меня на танцах всегда приглашал. Только со мной танцевал. «Я пойду тебя провожать». – «У меня есть провожатый». Красивый парень… Ушел в лес. К партизанам. Говорили, кто видел, что носит кубанку с красной лентой. Ночью стук в дверь: «Кто?» – «Партизаны». Входит этот парень и еще один, постарше. Ухажер мой начинает так: «Как живешь, полицаечка? Давно хотел тебя навестить. А муженек где?» – «Откуда мне знать? Сегодня не приехал. В гарнизоне, видно, остался». Тут он хватает меня за руку и кидает к стенке: немецкая кукла… и подстилка… и на б… посылает и на х… Немецкого холуя, кулацкое отродье выбрала, а с ним целочку из себя строила. И вроде как пистолет из-за пазухи вынимает. Мама упала перед ними на колени: «Стреляйте, хлопчики, стреляйте. Я с вашими мамками в девках гуляла. Пусть и они потом поплачут». Как-то мамины слова на них подействовали. Переговорили между собой и ушли. (Молчит.) Любовь – это горько-горько…
Фронт все ближе и ближе. Уже по ночам канонада слышна. Ночью – гости. «Кто?» – «Партизаны». Входит мой ухажер… и с ним еще один… Мой ухажер показывает мне пистолет: «Вот этим пистолетом я убил твоего мужа». – «Неправда! Неправда!» – «Теперь у тебя мужа нет». Я думала, что я его убью… что я… глаза его выцарапаю… (Молчит.) А утром привезли моего Ивана… На санях… на шинели… Глаза закрыты, лицо детское. Он же никого не убил… Я ему верила! И сейчас верю! Каталась по полу, выла. Моя мама боялась, что я умом тронусь и ребеночек мертвым или ненормальным родится, побежала к знахарке. К бабке Стасе. «Я знаю твою беду, – сказала она маме, – но я тут бессильная. Пусть дочка Бога просит». И научила, как просить… Когда Ивана повезут хоронить, я должна была пойти не за гробом, как все люди идут, а впереди. До самого кладбища. А это через всю деревню… К концу войны уже много мужчин ушло в лес. Партизанили. В каждой хате кто-то погиб. (Плачет.) И я шла… перед гробом полицая… Я впереди, а мама сзади. Все люди повыходили из хат, стояли у калиток, но никто злого слова не бросил. Смотрели и плакали.
Вернулись Советы… Меня снова нашел этот парень… Приехал на коне: «Тобой уже интересуются». – «Кто?» – «Кто-кто? Органы». – «А мне все равно, где найду свою смерть. Пускай гонят в Сибирь». – «Что ты за мать? У тебя ребенок». – «Ты знаешь, чей…» – «Я тебя и такую возьму». И я вышла за него замуж. За убийцу своего мужа. Родила ему девочку… (Плачет.) Он одинаково детей любил: и моего сына, и свою дочку. Не буду наговаривать. А я… я… в синяках, в кровавых подтеках ходила. Ночью бьет, а утром на коленях стоит, прощения просит. Его сжигала какая-то страсть… Ревновал к мертвому… Утром люди все спят, а я уже встаю. Мне надо раньше, чтобы он не проснулся… не обнял… Ночью ни одно окно уже не светится, а я еще на кухне. Кастрюли мои блестели. Жду, когда он заснет. Прожили мы с ним пятнадцать лет, и он тяжело заболел. Умер за одну осень. (Плачет.) Я не виновата… я ему смерти не желала. Пришла та минута… последняя… То лицом к стенке лежал, а тут повернулся ко мне: «Ты меня любила?». Промолчала. Засмеялся, как тогда ночью, когда пистолет показал… «А я тебя одну всю жизнь любил. Так любил, что хотел убить, когда узнал, что умру. У Яшки (наш сосед, он звериные шкурки выделывает) яда просил. Не могу вынести: я умру, а у тебя еще кто-то будет. Ты – красивая».
Лежал в гробу… и как будто смеялся… Боялась к нему подойти. А надо было поцеловать.
(Хор.) «Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой… / Пусть ярость благородная вскипает, как волна. / Идет война народная, / Священная война…»
– С обидой уходим…
– Я дочкам сказала: когда умру, чтобы была только музыка, а люди пусть молчат.
– После войны пленные немцы камни таскали. Отстраивали город. Голодные. Просили хлеба. А я не могла дать им кусочек хлеба. Иногда именно этот момент вспоминаю… этот… Странно, что такие вещи в памяти остаются…
На столе стояли цветы и большой портрет Тимеряна Зинатова. Мне все время казалось, что в этом хоре я слышу и его голос, он с нами.
Из рассказа жены Зинатова
– Я мало чего могу вспомнить… Дом, семья… его никогда не интересовали. Все крепость да крепость. Войну не забывал… Детей учил, что Ленин хороший, строим коммунизм. Приходит один раз с работы, газетка в руке: «Поедем на великую стройку. Родина зовет». Дети у нас еще были маленькие. Поедем – и все. Родина приказывает… Так мы с ним на БАМ попали… на стройку коммунизма… Строили! Верили: все у нас впереди! Сильно верили советской власти. От души. Теперь состарились. Гласность, перестройка… Сидим и слушаем радио. Коммунизма уже нет… Где тот коммунизм? И коммунистов нет… не понять, кто там наверху… Гайдар совсем обобрал… бомжует народ… Кто украдет что-нибудь на заводе или в колхозе… Кто обманет… Так и выживают… А мой… В облаках жил… всегда где-то высоко… Дочка работает в аптеке, принесла она один раз дефицитные лекарства, чтобы продать и какую-нибудь копейку заработать. Как он узнал? Разнюхал? «Позор! Какой позор!» – кричал. Из дома ее выгонял. Не могла никак его успокоить. Другие ветераны пользуются привилегиями… им положено… «Сходи, – попросила. – Может, и тебе что-нибудь дадут». Раскричался: «Я за Родину воевал, а не за привилегии». Лежит ночью с открытыми глазами и молчит. Позову – не отвечает. Перестал разговаривать с нами. Сильно переживал. Не за нас переживал, не за семью, а за всех. За страну. Такой был человек. Намучилась я с ним… Признаюсь вам честно – как женщине, а не как писательнице… Я его не понимала…
Выкопал картошку, оделся получше и поехал в свою крепость. Хотя бы клочок бумаги нам оставил. Написал государству, чужим людям. А нам ничего… ни одного слова…
О сладости страдания и фокусе русского духа
Ольга Каримова, музыкант, 49 лет
– Нет… нет, это невозможно… невозможно для меня. Я думала, когда-нибудь… кому-нибудь расскажу… но не сейчас… Не сейчас. Все у меня под запретом, замуровала, заштукатурила. Вот… Под саркофагом… накрыла все саркофагом… там уже пожара нет, но какая-то реакция идет. Какие-то кристаллы образуются. Я боюсь тронуть. Боюсь…
Первая любовь… Можно ли это так назвать? Мой первый муж… Это прекрасная история. Два года он за мной ухаживал. Я очень хотела за него замуж, потому что мне нужно было его целиком, чтобы он никуда не делся. Весь мой! Даже не знаю, зачем он мне так вот весь был нужен. Вот никогда не разлучаться, все время видеть и устраивать какие-то скандалы, и трахаться, трахаться, без конца трахаться. Он был первым мужчиной в моей жизни. Первый раз это вообще был такой… м-м-м… интерес просто – что же такое происходит? Еще раз – тоже… и в общем… какая-то техника… Ну, тело… тело, тело… тело и все! И вот так продолжалось полгода. А ему вообще-то не обязательно было, чтобы я это была я, он мог найти и что-то другое. Но почему-то вот мы женимся… Мне двадцать два года. Вместе учимся в музыкальном училище, у нас всё вместе. А потом это случилось… открылось что-то во мне… Но я пропустила этот момент… когда я полюбила мужское тело… Вот оно все тебе принадлежит… Это была прекрасная история… Она могла продолжаться без конца, а могла в полчаса кончиться. Вот… Я ушла. Ушла сама. Он меня умолял остаться. Почему-то я решила, что уйду. Я так устала от него… Боже, как я от него устала! Уже беременная, у меня пузо… Зачем он? Трахались, потом ругались, потом я плакала. Я не умела еще терпеть. Прощать не умела.
Вышла из дому, закрыла дверь и вдруг почувствовала радость, что я сейчас уйду. Уйду насовсем. Уехала к маме, он примчался тут же, ночью, и был совершенно сбит с толку: беременная, почему-то все время недовольная, что-то ей еще нужно. Ну что тебе нужно еще? А я перевернула эту страницу… Была очень рада, что он у меня был, и очень рада, что его больше нету. Моя жизнь – всегда копилка. Было – и кончилось, было – и кончилось.
Ой, я так красиво родила Аньку… мне так это понравилось… Во-первых, воды у меня отошли… Я ходила по многу километров, и где-то, на каком-то километре в лесу у меня отошли воды. Вообще-то плохо понимала – ну что, мне сейчас уже собираться в больницу? Подождала до вечера. Зима была – сейчас уже не верится – мороз сорок градусов. Кора деревьев трещала. Все-таки я решила пойти. Врач посмотрела: «Будешь два дня рожать». Звоню домой: «Мама, принеси шоколад. Мне еще долго лежать». Перед утренним обходом забежала медсестра: «Слушай, уже головка торчит. Позову врача». И вот – я в кресле… Мне говорят: «Вот-вот. Сейчас-сейчас». Не помню, сколько времени прошло. Но скоро… очень скоро… Показывают мне какой-то комочек: «Девочка у тебя». Взвесили – четыре килограмма. «Слушайте, ни одного разрыва. Пожалела маму». Ой, когда ее назавтра принесли: глаза – одни зрачки, черные, плавают. И я уже больше ничего не вижу…
У меня началась новая, совсем другая жизнь. Мне понравилось, как я стала выглядеть. В общем-то… Вот я стала красивее сразу… Анька тут же заняла свое место, я обожала ее, но вот как-то она абсолютно не была у меня связана с мужчинами. С тем, что у нее есть папа. С неба упала! С неба. Научилась говорить, у нее спрашивают: «Анечка, у тебя папы нет?» – «У меня вместо папы бабуля». – «А собаки у тебя нет?» – «У меня вместо собаки хомячок». Мы с ней вдвоем вот такие… Я всю жизнь боялась, что я вдруг окажусь не я. Даже когда лечили зуб, просила: «Не делайте укол. Не обезболивайте». Мои чувства – это мои чувства, хорошие и больные, не отключайте меня от меня. Мы с Анькой нравились друг другу. И вот такие мы встретили его… Глеба…
Если бы он не был он, я бы никогда еще раз не вышла замуж. У меня все было: ребенок, работа, свобода. Вдруг он… Нелепый, почти слепой… с одышкой… Впустить в свой мир человека с таким тяжелым грузом прошлого – двенадцать лет сталинских лагерей… Забрали мальчишкой, в шестнадцать лет. Отца… крупного партийного работника… расстреляли, а мать насмерть заморозили в бочке с водой. Где-то далеко, где-то в снегах. До него я никогда ни о чем таком не думала… Пионерка… комсомолка… Жизнь прекрасна! Изумительна! Как я на это решилась? Как? Проходит время, и боль становится знанием. И знанием тоже. Уже пять лет, как его нет… Пять… И мне даже жалко, что он меня такую, как я сейчас, не знал. Теперь я больше понимаю его, я до него доросла, но уже без него. Долго не могла жить одна. Совсем не хотела жить. Я не одиночества боялась, причина другая – я не умею жить без любви. Мне нужна эта боль… эта жалость… Без этого… Мне страшно, мне так бывает страшно в море. Когда я заплываю далеко-далеко: я одна… там, внизу, темнота… Я не знаю, что там…
Сидим на террасе. Зашумели листья – начался дождь.
Ой, эти пляжные романы… Ненадолго. Коротенько. Такая маленькая модель жизни. Можно красиво начать и можно красиво уйти. Это то, что у нас не получается в жизни, то, чего бы мы хотели. Поэтому мы так любим куда-нибудь поехать… кого-нибудь встретить… Вот… У меня две косички, платье в синий горошек, купленное за день до отъезда в «Детском мире». Море… Заплываю далеко-далеко, больше всего на свете я люблю плавать. С утра делаю зарядку под белой акацией. Идет мужчина, мужчина и все, очень обычной внешности, немолодой, увидел меня, почему-то обрадовался. Стоит и смотрит: «Хотите, я вечером вам стихи почитаю?» – «Может быть, а сейчас я уплыву далеко-далеко!» – «А я буду вас ждать». И ждал, несколько часов ждал. Стихи читал плохо, все время поправлял очки. Но был трогателен. Я поняла… Я поняла, что он чувствует… Вот эти движения, эти очки, вот эта взволнованность. Но совершенно не помню, что он читал. И почему это должно быть таким значительным? Тогда тоже дождь пошел. Был дождь. Я это помню… ничего не забыто… Чувства… наши чувства – это какие-то отдельные существа – страдание, любовь, нежность. Живут они сами по себе, они не зависят от нас. Почему-то вдруг выбираешь этого человека, а не того, хотя тот, может, даже лучше. Или становишься частью чужой жизни, еще ничего об этом не подозревая. Но тебя уже нашли… послали сигнал… «Я так тебя ждал», – встречает он меня на следующее утро. И говорит это таким голосом, что я почему-то в этот момент ему верю, хотя совсем не была готова. Даже наоборот. Но что-то меняется вокруг… Это еще не любовь, но такое ощущение, что я вдруг получила чего-то много-много. Человек услышал человека. Достучался. Уплываю далеко-далеко. Возвращаюсь. Ждет. Опять говорит: «У нас с тобой все будет хорошо». И почему-то я опять в это верю. Пили вечером шампанское: «Это красное шампанское, но по цене нормального шампанского». Фраза мне нравится. Жарил яичницу: «У меня с этими яичницами интересное дело. Я покупаю яйца десятками, жарю парами, и всегда остается одно яйцо». Какие-то такие милые вещи.
Все смотрят на нас и спрашивают: «Это твой дедушка? Это твой папа?». Я в таком коротком платье… Мне двадцать восемь лет… Это потом он стал красивый. Со мной. Мне кажется, я знаю секрет… Эта дверь открывается только любовью… только любовью… «Я тебя вспоминал». – «А как ты меня вспоминал?» – «Мне хотелось, чтобы мы с тобою куда-то шли. Далеко-далеко. И ничего мне не нужно, а чтобы я чувствовал – ты рядом. Вот нежность такая у меня к тебе – просто смотреть и идти рядом». Мы провели с ним счастливые часы, абсолютно детские. «Может, уедем с тобой на какой-нибудь остров, там будем лежать на песке». Счастливые люди всегда дети. Их надо охранять, они хрупкие и смешные. Беззащитные. У нас с ним было так, а как вообще должно быть, я не знаю. С этим так, с другим иначе. Как сотворишь… «Несчастье – лучший учитель», – говорила моя мама. А хочется счастья. Ночью просыпалась с мыслью: что я делаю? Мне было не по себе, и я от этого напряжения… Я… у меня… «У тебя все время напряженный затылок», – замечал он. Что я делаю? Куда я падаю? Там пропасть.
…Вот хлебница… Как только он видел хлеб, он начинал его методично съедать. Любое количество. Хлеб нельзя оставлять. Это пайка. Вот ест и ест, сколько есть хлеба, столько и съест. Я не сразу поняла…
…Рассказывал про школу… На уроках истории они открывали учебник и на портретах маршалов Тухачевского, Блюхера рисовали тюремную решетку. Директор школы командовала. При этом что-то пели, смеялись. Как игра. После уроков его били и писали на спине мелом «сын врага народа».
…Шаг в сторону – застрелят, добежишь до леса – дикие звери разорвут. В бараке ночью свои могли зарезать. А просто так – взял и зарезал. Никаких слов… ничего… Это лагерь, каждый живет сам с собой. Это мне надо было понять…
…После прорыва ленинградской блокады прибыл к ним этап блокадников. Скелеты… кости… мало похожие на людей… Посадили их за то, что они утаили хлебные карточки на пятьдесят граммов хлеба (дневная норма) умершей матери… ребенка… Давали за это по шесть лет. Два дня в лагере – страшная тишина. Вохровцы… и они молчали…
…Работал одно время в котельной… кто-то же его, доходягу, спасал. Истопником был московский профессор-филолог, а он подвозил ему дрова на тачке. Они спорили: может ли человек, цитирующий Пушкина, стрелять по безоружным людям? Слушающий Баха…
Почему же все-таки он? Именно он? Русские женщины любят найти вот этих несчастных. Моя бабушка любила одного, родители выдали замуж за другого. Как он ей не нравился, как не хотела! Господи! И решила, когда в церкви батюшка обратится к ней: идешь ли по своей воле? – она откажется. А батюшка напился и, вместо того чтобы спросить, как положено, сказал: «Ты его не обижай, он ноги на войне отморозил». Вот уже, конечно, надо выходить замуж. Так бабушка на всю жизнь получила нашего дедушку, которого никогда не любила. Замечательная заставка ко всей нашей жизни… «Ты его не обижай, он ноги на войне отморозил». Была ли счастлива моя мама? Мама… Папа вернулся с войны в сорок пятом… Разрушенный, уставший. Больной от ран. Победители! Только их жены знают, что такое было жить с победителями. Мама часто плакала, когда папа вернулся. Победители входили в нормальную жизнь годами. Привыкали. Помню папины рассказы, как первое время он сходил с ума от слов «баньку растопим», «сходим на рыбалку». Наши мужчины – мученики, они все с травмой – или после войны, или после тюрьмы. После лагеря. Война и тюрьма – два главных русских слова. Русских! У русской женщины никогда не было нормального мужчины. Она врачует, врачует. Держит мужчину немножко за героя, немножко за ребенка. Спасает. До сегодняшнего дня. У нее все та же роль. Советский Союз пал… Теперь у нас – жертвы развала империи. Краха. Даже Глеб был смелее после ГУЛАГа. У него был гонор: а вот я выжил! Вот я перенес! Я такое видел! Но пишу книги, целую женщин… Он был гордый. А у этих в глазах страх. Только страх… Армия сокращается, заводы стоят… Инженеры и врачи на рынке торгуют. Кандидаты наук. Сколько их вокруг, сброшенных с паровоза. Сидят на обочине, чего-то ждут. У моей знакомой муж был летчик, командир эскадрильи. Уволили в запас. Когда она потеряла работу, тут же переучилась – была инженером, стала парикмахером. А он дома сидит и пьет от обиды, пьет потому, что ему, боевому летчику – Афганистан позади – надо детям кашу варить. Вот… Обида у него на всех. Злость. Ходил в военкомат, просился куда-нибудь на войну, со спецзаданием – ему отказали. Желающих полно. У нас же тысячи безработных военных, тех, кто знает только автомат и танк. Непригодных для другой жизни. Нашим женщинам приходится быть сильнее мужчин. Мотаются с клетчатыми сумками по всему свету. От Польши до Китая. Покупают-продают. Тянут на себе дом, детей и старых родителей. И мужей своих. И страну. Трудно кому-то другому это объяснить. Невозможно. Моя дочь вышла замуж за итальянца… Его зовут Серджо… Он – журналист. Когда они ко мне приезжают, мы с ним устраиваем на кухне дискуссии. По-русски… до утра… Серджо считает, что русские любят страдание, это фокус русского духа. Для нас страдание – «личная битва», «путь к спасению». А вот они, итальянцы, – не такие, они не хотят страдать, любят жизнь, которая для радости дана, а не для страдания. А у нас этого нет. О радости мы редко говорим… О том, что счастье – это целый мир. Потрясающий мир! Там столько уголков, окон, дверей, и столько надо к ним ключиков. А нас все время тянет в темные бунинские аллеи. Вот… Идут они с дочкой из супермаркета – он несет сумки. Вечером она может играть на пианино, а он будет готовить ужин. У меня все было иначе: он возьмет сумки, а я заберу: «Я сама. Тебе нельзя». Зайдет на кухню: «Твое место не здесь. Марш за письменный стол». Я всегда светила отраженным светом.
Год прошел, а может, больше… Должен был он уже приехать ко мне домой… ну, познакомиться со всеми. Я его предупредила, что мама у меня хорошая, а вот девочка не совсем… не такая, как все… Что она хорошо встретит – не ручаюсь. Ой, моя Анька… Все тащила к уху: игрушку, камень, ложку… Дети тащат в рот, а она к уху – как звучит! Я довольно рано начала заниматься с ней музыкой, но какой-то странный ребенок, как только ставлю пластинку, она поворачивается и уходит. Ей не нравилась ничья музыка, интересно было только то, что внутри нее самой звучит. Ну вот, Глеб приехал, очень смущенный, подстригся как-то неудачно, коротко, особенно красив не был. И привез пластинки. Что-то начал рассказывать, как он шел… как он эти пластинки купил… А у Аньки слух… она не слова слышит, а иначе… эти интонации… Сразу взяла пластинки: «Какие плекласные пластинки». Вот так… Через какое-то время она меня ставит в тупик: «Как бы мне его папой не назвать!». Он не старался ей нравиться, просто ему с ней было интересно. Любовь у них получилась сразу… Я даже ревновала, что они любят друг друга больше, чем меня. Потом убедила себя, что у меня другая роль… (Молчит.) Вот он ее спрашивает: «Ань, ты заикаешься?» – «Сейчас уже плохо, а вот раньше хорошо заикалась». Не соскучишься. За ней можно было записывать. Значит: «Как бы мне его папой не назвать!». Мы сидим в парке… Глеб отошел за сигаретами, возвращается: «О чем, девочки, речь?». Я моргаю ей – ни в коем случае, глупо же по крайней мере. А она: «Тогда ты скажи». Ну что? Что остается? Признаюсь ему: она боится, как бы тебя случайно папой не назвать. Он: «Дело, конечно, не простое, но если хочется очень, назови». – «Ты только смотри, – серьезно говорит моя Анька, – у меня есть еще один папа, но он мне не нравится. И мама его не любит». Так у нас с ней всегда. Мы сжигаем мосты. По дороге домой он уже был папа. Она бежала и кричала: «Папа! Папа!». Назавтра в детском саду всем объявила: «Меня учит читать папа». – «А кто твой папа?» – «Его зовут Глеб». Еще через день ее подружка принесла из дома новость: «Анька, ты врешь, у тебя нет папы. Этот твой папа не родной». – «Нет, это тот был неродной, а этот родной». С Анькой спорить бесполезно, он стал «папа», а я? Я – еще не жена… нет…
У меня отпуск… Опять уезжаю. Он бежит за вагоном и долго машет-машет. Но уже в поезде у меня начинается роман. Едут два молодых инженера из Харькова, и тоже в Сочи, как я. Боже мой! Я такая молодая! Море. Солнце. Купаемся, целуемся, танцуем. Мне легко и просто, потому что мир прост, ча-ча-ча-казачок и все – я в своей стихии. Меня любят… меня носят на руках… Два часа в горы меня поднимают на руках… Молодые мышцы, молодой смех. Костер до утра… Снится мне сон… Потолок открывается. Небо голубое… Я вижу Глеба… Мы куда-то идем с ним. Идем по морскому берегу, а там не отшлифованная волнами галька, а острые-острые камни, как гвозди. Я иду в обуви, а он босиком. «Босиком, – объясняет мне, – слышнее». Но я-то знаю – ему больно. И от боли он начинает подниматься… парить над землей… Я вижу его летящим. Только руки у него почему-то сложены, как у мертвого человека… (Остановилась.) Боже! Я – сумасшедшая… Никому не должна признаваться… чаще всего у меня ощущение, что я в этой жизни счастлива… Счастлива! Пришла к нему на кладбище… Вот помню, что иду. Чувствую, что он где-то здесь. И такая острота счастья, мне плакать хочется от этого счастья. Плакать. Говорят, что мертвые не приходят к нам. Не верьте.
Отпуск кончается, я возвращаюсь. Инженер провожает меня до самой Москвы. Я обещаю обо всем рассказать Глебу… Прихожу к нему… У него на столе лежит еженедельник, весь исчеркан, обои в кабинете исписаны, даже на газетах, которые он читал, всюду только три буквы: к… э… в… Большие, маленькие, печатные, прописью. Многоточия… многоточия… Я спрашиваю: «Что это?». Он расшифровывает: кажется, это все? Ну вот, мы расстаемся, и надо это как-то Аньке объяснить. Заехали за ней, а у нее – прежде чем выйти из дому – порисовать! Тут она не успела, сидит в машине и рыдает. А он уже привык к тому, что она такая сумасшедшая, находил, что это талант. Это была уже семейная сцена: Анька плачет, он ее утешает, а я между ними… Так смотрит, смотрит на меня… И я… это всего одна минута… секунда… Я понимаю: он безумно одинокий человек. Безумно! И… я выйду за него замуж… Я должна… (Заплакала.) Какое счастье, что мы не разминулись. Не прошла я мимо. Какое счастье! Он подарил мне целую жизнь! (Плачет.) Значит, я выхожу замуж… Ему страшно, он боится, потому что был уже дважды женат. Женщины предавали его, они уставали… и их нельзя винить… Любовь – это тяжкий труд. Прежде всего, для меня это – работа. Без свадьбы было у меня, без белого платья. Все прошло скромно. А я всегда мечтала, что будет свадьба и белое платье, и я брошу с моста в воду букет белых роз. Такие у меня были мечты.
Он не любил, когда его расспрашивали… Какая-то всегда бравада… чтобы это было смешно… зэковское такое, припрятывание за этим всего серьеза. Планочка другая. Например, никогда не говорил «свобода», а всегда «свободка». «И вот я на свободке». В редкие минуты… Тогда так вкусно, азартно рассказывал… Я просто чувствовала его радости, вынесенные оттуда: как достал куски шины, привязал их на валенки, и у них был этап, и он так радовался, что у него есть эти шины. Однажды принесли полмешка картошки, и где-то на «свободке», когда работали, кто-то дал большой кусок мяса. Ночью в котельной они сварили суп: «И ты знаешь, это было так вкусно! Так замечательно!». Когда освободили, он получил компенсацию за отца. Ему сказали: «Мы вам должны за дом, за мебель…». Насчитали большие деньги. Он купил новый костюм, новую рубашку, новые туфли, купил фотоаппарат и пошел в лучший московский ресторан «Националь», заказал все самое дорогое, пил коньяк, кофе с фирменным тортом. В конце, когда наелся, попросил, чтобы его кто-то в этот самый счастливый момент жизни сфотографировал. «Возвращаюсь уже на квартиру, где жил, – вспоминал, – и ловлю себя на мысли, что счастья не чувствую. В этом костюме, с этим фотоаппаратом… Почему нет счастья? Всплыли в памяти те шины, тот суп в котельной – вот там было счастье». И мы пытались понять… Вот… Где же живет это счастье? Лагерь он не отдал бы ни за что… не поменял бы… Это был его тайный клад, его богатство. С шестнадцати и почти до тридцати лет он был в лагере… Вот посчитайте… Я его спрашивала: «А если бы не посадили?». Отшучивался: «Я был бы дураком и ездил на красной гоночной машине. Самой модной». Только в самом конце… Уже в конце… когда лежал в больнице… Первый раз заговорил со мной серьезно: «Это как в театре. Из зала видишь красивую сказку – убранную сцену, блистательных актеров, таинственный свет, но когда ты попадаешь за кулисы… Сразу за занавесом – обломки каких-то досок, тряпки, недорисованные и брошенные холсты… бутылки из-под водки… остатки еды… Сказки нет. Темно… грязно… Меня провели за кулисы… ты понимаешь?».
…Его бросили к блатным. Мальчик… Что там было, не узнать никому и никогда…
…Неописуемая северная красота! Безмолвный снег… и свет от него даже ночью… А ты – рабочая скотина. Тебя втаптывают в природу, возвращают куда-то назад. «Пытка красотой» – называл он это. Его любимая поговорка: «Цветы и деревья у Него получились лучше, чем люди».
…О любви… Как было у него первый раз… Они работали в лесу. Мимо вели колонну женщин на работу. Женщины увидели мужчин, остановились – и ни с места. Начальник караула: «Давай вперед! Вперед!». Женщины стоят. «Вперед, вашу мать!» – «Гражданин начальник, пустите к мужикам, не можем больше. Выть будем!» – «Вы что? Осатанели! Осточертели!» Стоят: «Никуда не пойдем». Команда: «Полчаса вам. Разойтись!». Вмиг колонна рассыпалась. Но вернулись все вовремя. Точно. Вернулись счастливые. (Молчит.) Где живет это счастье?
…Он там писал стихи. Кто-то донес начальнику лагеря: «Пишет». Начальник позвал к себе: «Сочини мне любовное письмо в стихах». Вспоминал, что тот просил и стеснялся. У него где-то на Урале жила любовь.
…Домой возвращался на верхней полке. Поезд тянулся две недели. По всей России. Он лежал все время наверху, боялся спуститься вниз. Покурить выходил ночью. Страх: попутчики угостят чем-нибудь – расплачется. Разговорятся. И они узнают, что он из лагеря… Приняли его дальние родственники отца. У них была маленькая девочка. Он обнял ее, и она заплакала. Что-то в нем такое было… Он был безумно одинокий человек… И со мной. Я знаю: со мной тоже…
Заявлял теперь всем гордо: «У меня семья». Каждый день удивлялся нормальной семейной жизни, вообще как-то очень этим гордился. Но страх… все равно страх… не умел без него жить. Страх. Просыпался ночами мокрый от ужаса: не допишет книгу (писал книгу об отце), не получит новый заказ на перевод (технический переводчик с немецкого), не прокормит семью. Вдруг я уйду… Сначала страх, а затем стыд за этот страх. «Глеб, я тебя люблю. Если ты захочешь, чтобы я ради тебя танцевала в балете, я буду. Я на все способна ради тебя». В лагере он выжил, а в обычной жизни – рядовой милиционер, остановив машину, мог довести его до инфаркта… или звонок из домоуправления… «Как же ты остался там жив?» – «Меня в детстве очень любили». Нас спасает количество полученной любви, это наш запас прочности. Вот… Только любовь нас спасает. Любовь – это такой витамин, без которого человек не способен жить, у него сворачивается кровь, останавливается сердце. Я была медсестрой… нянькой… актрисой… Я была всем.
Нам повезло, я считаю… Время было важное… Перестройка! Ощущение праздника, конечно. Казалось, что вот-вот куда-то взлетим. Свобода была разлита в воздухе. «Глеб, это твое время! Можно все написать. Напечатать». Прежде всего, это было их время… время шестидесятников… Их торжества. Я видела его счастливым: «Я дожил до полной победы антикоммунизма». Самое главное случилось, о чем он мечтал: коммунизм рухнул. Сейчас уберут большевистские памятники и ленинский саркофаг на Красной площади, улицы не будут носить имена убийц и палачей… Время надежд! Шестидесятники – пускай сейчас что угодно о них говорят, а я их всех люблю. Наивные? Романтики? Да!!! Целыми днями читал газеты. Ходил утром в киоск «Союзпечать» возле нашего дома. С большой хозяйственной сумкой. Слушал радио и смотрел телевизор. Беспрерывно. Тогда все были такие сумасшедшие. Сво-бо-да! Пьянило само это слово. Все мы выросли на «самиздате» и «тамиздате». На слове мы выросли. На литературе. Как мы говорили! Как все тогда хорошо говорили! Я готовлю обед или ужин, он сидит рядом, с газетой, и мне зачитывает: «Сюзан Зонтаг: коммунизм – это фашизм с человеческим лицом… Еще… еще послушай…» Прочли с ним Бердяева… Хайека… Как же мы раньше жили без этих газет и книг? Если бы мы раньше это знали… Все было бы иначе… У Джека Лондона есть рассказ на эту тему: жить можно и в смирительной рубашке, надо лишь ужаться, вдавиться и привыкнуть. И даже можно видеть сны. Так мы жили. Ну а как теперь будем жить? Я не знала – как? – но представляла, что мы все будем жить хорошо. Никаких сомнений… А после смерти нашла в его дневнике запись: «Перечитываю Чехова… Рассказ “Сапожник и нечистая сила”. Человек продает душу дьяволу в обмен на счастье. Каково же счастье в представлении сапожника? Оно такое – ехать в пролетке, в новой поддевке и хромовых сапогах, чтобы рядом сидела толстая грудастая баба и чтобы в одной руке был окорок, а в другой – четверть хлебного вина. Больше ничего не надо…» (Задумалась.) У него, видно, были сомнения… Но так хотелось нового. Доброго и светлого, очень справедливого. Бегали счастливые на все демонстрации и митинги… До этого толпы я боялась. Толпизма. У меня было отторжение от толпы, от этих праздничных шествий. Знамен. А тут все мне нравилось… вокруг такие родные лица… Я эти лица никогда не забуду! Скучаю по тому времени, многие, я знаю, скучают. Первая наша турпоездка с ним за границу. В Берлин. Услышав русскую речь, к нашей группе подошли две молодые немки: «Русские?» – «Да». – «Перестройка! Горби!» – стали они обнимать нас. Я вот думаю: где те лица? Где те красивые люди, которых я видела в девяностые годы на улицах? Они что, все уехали?
…Когда я узнала, что у него рак, я всю ночь лежала в слезах, а утром помчалась к нему в больницу. Сидел на подоконнике, желтый и очень счастливый, он всегда был счастливый, когда что-то менялось в жизни. То был лагерь, то была ссылка, то потом началась воля, а вот теперь еще что-то такое… Смерть как еще одна перемена… «Боишься, что умру?» – «Боюсь». – «Ну во-первых, я тебе ничего не обещал. А во-вторых, это будет не скоро». – «Правда?» Я, как всегда, ему поверила. Тут же вытерла слезы и убедила себя, что мне опять надо ему помочь. Больше не плакала… до самого конца не плакала… Приходила утром в палату, и тут начиналась наша жизнь, то мы жили дома, а теперь живем в больнице. Полгода еще прожили в онкоцентре…
Мало читал. Больше рассказывал…
Он знал, кто на него донес. Мальчик один… занимался с ним в кружке Дома пионеров. То ли он сам, то ли его заставили написать письмо: ругал товарища Сталина, оправдывал отца, «врага народа». Следователь на допросе это письмо ему показал. Всю жизнь Глеб боялся… Боялся, что доносчик узнает, что он знает… Когда ему передали, что у того родился неполноценный ребенок, он испугался – а вдруг это возмездие? Так вышло, что мы даже одно время жили рядом, часто встречались на улице. В магазине. Здоровались. Глеб умер, и я рассказала об этом нашей общей подруге… Она не поверила: «Н.? Не может быть, он так хорошо всегда говорит о Глебе, как они дружили в детстве». Я поняла, что должна молчать. Вот… Для человека это знание опасно… Он это знал… Лагерники к нам в дом приходили редко, не искал он их. Когда они появлялись в доме, я чувствовала себя чужой, они приходили оттуда, где меня еще не было. Знали о нем больше, чем знала я. Я обнаружила, что у него есть еще какая-то жизнь… Я поняла, что женщина может рассказать о своих унижениях, а мужчина – нет, женщине легче признаться, потому что где-то глубоко она готова к насилию, даже вот сам половой акт… Каждый месяц женщина начинает жизнь заново… эти циклы… Сама природа ей помогает. Среди женщин, которые сидели в лагерях, много одиноких. Я мало видела таких пар, чтобы оба – он и она – оттуда. Их не объединяла, а разъединяла какая-то тайна. Меня они называли «деточка»…
«Тебе интересно с нами? – спрашивал Глеб, когда гости уходили. «Что за вопрос?» – обижалась я. «Знаешь, чего я боюсь? Когда это было интересно, у нас был кляп во рту, а теперь, когда мы можем все рассказать, уже поздно. Вроде никто уже не слушает. Не читает. Издателям приносят новые рукописи о лагерях, они возвращают их, не читая: “Опять Сталин и Берия? Не коммерческий проект. Читатель уже объелся”».
…Привык умирать… Не боялся этой маленькой смерти… Бригадиры-блатные продавали их пайки хлеба, проигрывали в карты, и они ели битум. Черный битум. Многие погибали – склеивался желудок. А он просто перестал есть, только пил.
…Один мальчишка побежал… специально побежал, чтобы его застрелили… По снегу… под солнцем… Отличная видимость. Застрелили в голову, приволокли на веревке и поставили возле барака – смотрите! Долго он там стоял… до весны…
…День выборов… Концерт на избирательном участке. Выступает лагерный хор. Стоят политические, власовцы, проститутки, карманники, – и поют песню о Сталине: «Сталин – наше знамя! Сталин – наше счастье».
…На пересылке встретил девочку. Она рассказывала, как следователь уговаривал ее подписать протокол: «Поедешь в ад… Но ты красивая, понравишься какому-нибудь начальнику. И так спасешься».
…Весной было особенно страшно. Все в природе меняется… все начинает жить… Ни у кого лучше не спрашивать, сколько ему осталось сидеть. Весной любой срок – вечность! Птицы летят – никто головы не поднимает. В небо весной не смотрят…
Оглянулась у двери – помахал рукой. Возвращаюсь через несколько часов – он уже без сознания. Кого-то просит: «Подожди. Подожди». Потом перестал, просто лежал. Еще три дня. Я и к этому привыкла. Ну вот, он тут лежит, а я тут живу. Мне поставили кровать с ним рядом. Вот… Третий день… Уже трудно колоть внутривенные… Тромбы… Я должна разрешить врачам все прекратить, ему не будет больно, он не услышит. И мы с ним остались совсем вдвоем. Ни приборов, ни врачей, к нему никто больше не заходит. Я прилегла рядом. Холодно. Забралась под одеяло к нему и уснула. Проснулась… на секунду мне показалось: мы спим у себя дома, распахнулся балкон… он еще не проснулся… Страшно открыть глаза… Открыла – все вспомнила… Тут я заметалась… Встала, положила руки ему на лицо: «А-а-ах…» – услышал меня. Началась агония… и я так сидела… руку его держала, последний удар сердца послушала. Еще долго так сидела… Позвала нянечку, она помогла мне надеть ему рубашку, голубую, его любимый цвет. Я спросила: «Можно посидеть?» – «Да, пожалуйста. Не боитесь?» Чего ж мне бояться? Я знала его… как мать знает своего ребенка… К утру он стал красивый… Исчез с лица страх, ушло напряжение, вся жизненная суета. И я увидела тонкие, изящные черты. Лицо восточного принца. Вот какой он! Вот какой он на самом деле! Таким я его не знала.
У него была единственная просьба: «Напиши на камне, который будет лежать надо мной, что я был счастливым человеком. Меня любили. Самая страшная мука, когда тебя не любят». (Молчит.) Такая короткая наша жизнь… Миг! Я вижу, как смотрит моя старенькая мама вечером в сад… какими глазами…
Долго сидим молча.
Не могу… не умею без него жить… А за мной опять ухаживают. Дарят цветы.
На следующий день – неожиданный звонок.
– Всю ночь плакала… мычала от боли… Я все время уходила… уходила… убегала в другую сторону. Я еле выжила… А вчера туда опять вернулась… меня вернули… Ходила вся забинтованная, стала раскручивать эти бинты, оказывается ничего не зажило. Я думала, что под этими бинтами у меня уже новая кожа, а ничего этого нет. Ничего не заросло. Никуда оно не ушло… все, что было… Я боюсь это кому-то отдать. Никто не удержит. Обыкновенными руками это не удержать…
Мария Войтешонок, писательница, 57 лет
– Я – осадница. Я родилась в семье ссыльного польского офицера-осадника (osadnik – по-польски «поселенец», получивший земли на Восточных Кресах после окончания советско-польской войны в 1921 году). А в 1939 году (секретный протокол пакта Молотова – Риббентропа) Западную Беларусь присоединили к СССР, и тысячи осадников-колонистов вместе со своими семьями были сосланы в Сибирь как «опасный политический элемент» (из записки Берии – Сталину). Но это большая история, а у меня своя… маленькая…
Не знаю дня своего рождения… и даже года… Все у меня приблизительное. Не нашла никаких документов. Я есть, и меня нет. Не помню ничего и помню все. Я думаю, что мама уезжала беременная мной. Почему? Меня всегда волнуют паровозные гудки… и запах шпал… и плач людей на станциях… Могу ехать хорошим, фирменным поездом, но прогрохочет рядом товарняк, и у меня слезы. Не в силах видеть вагоны для скота, слышать рев животных… Нас увозили в этих вагонах. Меня еще не было. И я была. У меня в снах нет лиц… сюжетов… все мои видения из звуков… запахов…
Алтайский край. Город Змеиногорск, река Змеевка… Ссыльных сгрузили за городом. У озера. Жить стали в земле. В землянках. Я родилась под землей, выросла там. Земля мне с детства пахнет домом. Течет с потолка, отрывается ком земли, упал и скачет ко мне. Это – лягушка. Но я маленькая, я еще не знаю, кого надо бояться. Сплю с двумя козочками, на теплой подстилке из козьего «горошка»… Первое слово «ме-е-е»… первые звуки… а не «ма»… «мама». Старшая сестра Владя вспоминала, как я удивлялась, что козочки не говорят, как мы. Мое недоумение. Они казались мне равными. Мир был целостный, неразделенный. Я и сейчас я не чувствую этой разницы между нами, между людьми и животными. Всегда разговариваю с ними… и они меня понимают… А жучки, паучки… они тоже были рядом… такие цветные, такие раскрашенные жучки. Мои игрушки. Весной мы вместе выбирались на солнце, ползали по земле, искали еду. Грелись. А зимой обмирали, как деревья, впадали в спячку от голода. У меня своя школа, меня учили не только люди. Я слышу и деревья, и траву. Больше всего в жизни мне интересны животные, действительно интересны. Как мне отделиться от того мира… от тех запахов… Не могу. Вот наконец солнце! Лето! Я – наверху… вокруг красота ослепительная, и никто никому не готовит никакой еды. И еще все звучит, все в красках. Я пробую на вкус каждую травинку, листок… цветок… все корешки… белены раз наелась, чуть не умерла. Целые картины в памяти… Помню гору «Синяя борода» и синий свет на этой горе… освещение… Свет шел именно с левой стороны, со склона. Шел он сверху вниз… Какие это были зрелища! Боюсь, что у меня не хватит таланта это передать. Воскресить. Слова – это только дополнение к состоянию. К нашим чувствам. Красные маки, лилии-саранки, марьин корень… Все это расстилалось перед глазами. Под ногами. Или другая картина… Я сижу возле какого-то дома. По стене ползет солнечное пятно… и оно разных цветов… все время меняется. Долго-долго сижу на том месте. Если бы не эти краски, я бы, наверное, умерла. Не выжила. Не помню, что мы ели… была ли у нас какая-нибудь человеческая еда…
Вечером я видела, как шли черные люди. Черные одежды, черные лица. Это ссыльные возвращались с рудников… они все были похожи на моего отца. Я не знаю, любил ли меня отец. Любил ли меня кто-нибудь?
У меня очень мало воспоминаний… Мне их не хватает. Ищу в темноте, стараюсь больше оттуда вытащить. Редко… очень редко вдруг что-то вспомнится, чего я не помнила. Мне горько, но я счастлива. Я тогда страшно счастлива.
Ничего не могу вспомнить про зиму… Зимой я сидела в землянке весь день. День был похож на вечер. Все в сумерках. Ни одного цветного пятна… Были ли у нас какие-то вещи, кроме мисок и ложек? Никаких одежд… чтобы что-то из одежды… обкручивались какими-то тряпками. Ни одного цветного пятна. Обувь… Что из обуви? Галоши… помню галоши… у меня тоже галоши, большие и старые, как у мамы. Наверное, мамины… Первое пальто мне выдали в детдоме, и первые рукавицы. Шапочку. Помню: в темноте едва-едва белеет лицо Влади… Целыми днями она лежит и кашляет, она заболела на рудниках, у нее туберкулез. Я уже знаю это слово… Мама не плачет… Не помню, чтобы мама плакала, она мало говорила, а потом, видимо, вообще перестала говорить. Когда кашель отступает, Владя зовет меня: «Повторяй за мной… Это – Пушкин». Я повторяю: «Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный!». И представляю себе зиму. Как у Пушкина.
Я раба слова… я слову верю абсолютно… Всегда жду слов от человека, и от незнакомого человека тоже, от незнакомого даже больше жду. На незнакомого человека еще можно надеяться. Как будто и самой хочется сказать… и я решаюсь… Готова. Когда я начинаю кому-то рассказывать, потом на том месте, о котором я говорила, я ничего уже не нахожу. Там пустота, я теряю эти воспоминания. Там мгновенно – дыра. И нужно долго ждать, чтобы они вернулись. Поэтому я молчу. Я все обрабатываю в себе. Ходы, лабиринты, норки…
Лоскутки… Откуда у меня взялись эти лоскутки и обрезки? Разноцветные, много малинового цвета. Кто-то мне их принес. Из этих лоскутков я шила маленьких человечков, стригла себе волосы, делала им прически. Это были мои подружки… Кукол я не видела, ничего не знала о куклах. Жили мы уже в городе, но не в доме, а в подвале. Одно слепое окошко. Но у нас уже появился адрес: улица Сталина, дом семнадцать. Как и у других… как и у всех… у нас уже был адрес. Там я играла с одной девочкой… девочка была не из подвала, а из дома. Ходила в платьях и в ботиночках. А я – в маминых галошах… Я принесла ей показать эти лоскутки, на улице они смотрелись еще красивее, чем в подвале. Девочка стала их у меня просить, на что-то хотела выменять эти лоскутки. Я – ни за что! Пришел ее папа: «Не дружи с этой нищенкой», – сказал он. Я поняла, что меня взяли и отодвинули. Мне надо тихо уйти, скорее уйти с этого места. Конечно, это уже взрослые слова, не детские. Но чувство… то чувство я помню… Тебе так больно, что уже нет обиды и нет жалости к себе, у тебя вдруг много-много свободы. А жалости к себе нет… Когда жалость есть, то человек еще не так глубоко заглянул, он еще не ушел от людей. А если он ушел, люди ему совсем не нужны, ему хватает того, что в нем самом. Я слишком глубоко заглянула… Меня трудно обидеть. Я редко плачу. Мне смешны все обычные беды, женские обиды… Для меня это шоу… шоу жизни… Но если я услышу, что плачет ребенок… никогда не пройду мимо нищего… Никогда не пройду мимо. Запах этот я помню, запах беды… Какие-то волны идут, я до сих пор к ним подключена. Это запах моего детства. Моих пеленок.
Я иду с Владей… мы несем пуховую шаль… Красивую вещь для какого-то другого мира. Готовый заказ. Владя умела вязать, на эти деньги мы жили. Женщина рассчиталась с нами, а потом говорит: «Давайте я вам нарежу цветов». Как – нам букет? Стоим две попрошайки, в какой-то мешковине… голодные, холодные… И нам – цветы! Мы всегда думали только о хлебе, а этот человек догадался, что мы способны думать еще о чем-то. Ты был заперт, замурован, а тебе открыли форточку… окно распахнули… Оказывается, кроме хлеба… кроме еды… нам можно дать и букет цветов! Значит, мы ничем от других не отличаемся. Мы… такие же… Это было нарушением правил: «Давайте я вам нарежу цветов». Не нарву, не соберу, а нарежу в своем саду. С этого момента… Возможно, это был мой ключ… мне дали ключ… Меня это перевернуло… Я помню тот букет… большой букет космей… Всегда их теперь сажаю у себя на даче. (Мы сидим как раз у нее на даче. Растут тут одни цветы и деревья.) Я недавно ездила в Сибирь… Город Змеиногорск… вернулась туда… Искала нашу улицу… наш дом… наш подвал… Но дома уже нет, дом снесли. У всех спрашивала: «А вы помните?». Один старик вспомнил, что да, в подвале жила красивая девушка, она болела. Люди больше запоминают красоту, чем страдание. И букет нам подарили, потому что Владя была красивая.
Я пошла на кладбище… У самых ворот стояла сторожка с заколоченными окнами. Долго стучала. Вышел сторож, он был слепой… Что за знак? «Не скажите, где хоронили ссыльных?» – «А… та-а-ам…» – и махнул рукой то ли вниз, то ли вверх. Какие-то люди повели меня в самый дальний угол… Одна трава там… одна трава… Ночью не спала, потому что задыхалась. Спазм… такое чувство, что кто-то меня душит… Убежала из гостиницы на станцию. Пешком через весь пустой город. Станция была закрыта. Села на рельсы и до утра ждала. На откосе сидели парень с девушкой. Целовались. Рассвело. Пришел поезд. Пустой вагон… Входим: я и четверо мужчин в кожаных куртках, бритые, похожи на уголовников. Стали угощать меня огурцами и хлебом. «Бум в карты играть?» Мне не было страшно.
Недавно вспомнила… Ехала и вспомнила… в троллейбусе ехала… Как Владя пела: «Я могилу милой искал, Но найти ее нелегко…». А оказывается, любимая песня Сталина… когда ее пели, он плакал… И я ее сразу разлюбила, эту песню. К Владе приходили подружки, звали на танцы. Я все это помню… Мне было уже шесть или семь лет… Я видела, как в трусы вместо резинки они зашивали проволоку. Чтобы нельзя было сорвать… Там же одни ссыльные… зэки… Убивали часто. Про любовь я тоже уже знала. К Владе приходил красивый парень, когда она болела – лежала в каких-то тряпках, кашляла. А он так на нее смотрел…
Мне больно, но это – мое. Я никуда от него не бегу… Не могу сказать, что я все приняла, благодарна за боль, тут нужно какое-то другое слово. Сейчас я его не найду. Знаю, что в этом состоянии я далеко от всех. Я одна. Взять страдание в свои руки, обладать им полностью и выйти из него, что-то оттуда вынести. Это такая победа, только в этом есть смысл. Ты не с пустыми руками… А иначе зачем было спускаться в ад?
Вот кто-то подводит меня к окну: «Посмотри, вон везут твоего отца…». Незнакомая женщина тянула что-то на санках. Кого-то или что-то… закутанное в одеяло и перевязанное веревкой… Потом мы с сестрой хоронили нашу маму. Остались одни. Владя уже плохо ходила, у нее отказывали ноги. Кожа отслаивалась, как бумага. Ей принесли бутылочку… Я думала, что это лекарство, а это была какая-то кислота. Яд. «Не бойся…» – позвала она меня и дает эту бутылочку. Она хотела, чтобы мы вместе отравились. Я беру эту бутылочку… Бегу и бросаю ее в печь. Стекло разбивается… Печь была холодная, там давно ничего не варилось. Владя заплакала: «Ты вся в отца». Кто-то нас нашел… Может, ее подружки? Владя лежала уже в беспамятстве… Ее – в больницу, меня – в детдом. Отец… Я хочу его вспомнить, но как ни стараюсь, не вижу его лица, нет в моей памяти его лица. Потом я увидела его, молодого, на фотографии у тети. Правда… я на него похожа… Это наша с ним связь. Отец женился на красивой крестьянской девушке. Из бедной семьи. Хотел сделать из нее барыню, а мама всегда носила платок, надвинув его низко-низко на брови. Не барыня. В Сибири отец недолго жил с нами… он ушел к другой женщине… А я уже родилась… Я была наказанием! Проклятием! Ни у кого не было сил любить меня. И у мамы тоже не было этих сил. Это запрограммировалось в моих клетках: ее отчаяние, ее обида… и нелюбовь… Мне всегда не хватает любви, даже когда меня любят, я не верю, мне постоянно требуются доказательства. Знаки. Они нужны мне каждый день. Каждую минуту. Меня трудно любить… я знаю… (Долго молчит.) Я люблю свои воспоминания… Люблю свои воспоминания за то, что там все живы. У меня там все есть: мама… папа… Владя… Мне обязательно надо сидеть за длинным столом. С белой скатертью. Я живу одна, но у меня на кухне стоит большой стол. Может, они все со мной… Я могу идти и вдруг повторю чей-то жест. Не мой… Владин жест… или мамин… Мне кажется, мы прикасаемся руками…
Я – в детдоме… В детдоме сирот-осадников воспитывали до четырнадцати лет, а потом отправляли на рудники. И в восемнадцать лет – туберкулез… как у Влади… Это судьба. Где-то далеко, говорила Владя, у нас есть дом. Но очень далеко. Там осталась тетя Марыля, мамина сестра… Безграмотная крестьянка. Она ходила, просила. Чужие люди писали письма. Не понимаю и сейчас… ну как? Как она добилась? В детдом пришло распоряжение: отправить меня вместе с сестрою по такому-то адресу. В Беларусь. В первый раз до Минска мы не доехали, в Москве нас ссадили с поезда. Все повторилось: Владю – у нее начался жар – в больницу, меня – в изолятор. Из изолятора – в приемник-распределитель. Подвальное помещение, пахло хлоркой. Чужие люди… Я все время живу среди чужих людей… Всю жизнь. А тетя писала… писала… Через полгода нашла меня в приемнике. Снова я слышу слова «дом», «тетя»… Меня ведут к поезду… Темный вагон, только освещен проход. Тени людей. Со мной – воспитательница. Доехали до Минска и взяли билет в Поставы… я все эти названия знаю… Владя просила: «Ты запоминай. Запомни: наше поместье Совчино». Из Постав идем пешком в Гридьки… в тетину деревню… Сели возле моста передохнуть. А в это время сосед ехал с ночной смены на велосипеде. Спросил, кто мы. Ответили, что приехали к тете Марыле. «Да, – сказал он, – правильно идете». И, видно, передал тете, что видел нас… она побежала навстречу… Я увидела ее и говорю: «А вот эта тетя похожа на мою маму». И все.
Стриженная «под нулевку» сижу на длинной лавке в хате дяди Стаха, маминого брата. Дверь открыта, и через проем видно, что люди идут и идут… останавливаются и молча смотрят на меня… Живопись полная! Никто друг с другом не разговаривает. Стоят и плачут. Абсолютная тишина. Вся деревня пришла… И они перекрыли мой поток слез, каждый плакал со мной. Все они знали отца, кто-то у него работал. Не раз я потом услышу: «В колхозе нам “палочки” начисляют, а Антэк (отец) всегда рассчитывался». Вот оно – мое наследство. Наш дом перевезли с хутора на центральную усадьбу колхоза, в нем до сих пор сельсовет. Я все знаю про людей, знаю больше, чем хотелось бы. В тот же день, когда красноармейцы погрузили нашу семью на телегу и повезли на станцию, эти же люди… тетя Ажбета… Юзэфа… дядя Матей… разнесли из нашего дома все по своим хатам. Мелкие постройки разобрали. Раскатали по бревнышку. И молодой сад выкопали. Яблоньки. Тетя прибежала… и унесла только вазон с окна на память… Не хочу я это помнить. Гоню из памяти. Я помню, как деревня меня нянчила, носила на руках. «Идем, Манечка, к нам, мы грибов наварили…», «Давай молочка тебе налью…». Сегодня я приехала, а назавтра у меня все лицо покрылось волдырями. Жгло глаза. Не могла поднять веки. Меня за руки водили умываться. Во мне выбаливало все, выжигалось, чтобы я посмотрела на мир другими глазами. Это был переход из той жизни к этой… Теперь я шла по улице, и меня каждый останавливал: «Какая девочка! Ай, какая девочка!». Без этих слов у меня глаза были бы как у собаки, которую вытащили из проруби. Я не знаю, как я смотрела бы на людей…
Жили тетя с дядей в кладовке. Хата в войну сгорела. Поставили кладовку, думали, на первое время, и там остались. Соломенная крыша, маленькое окошко. В одном углу бульбочка (тетины слова) – не «бульба», а «бульбочка», а в другом – поросенок визжит. Никаких досок на полу – земля накрыта аиром и соломой. Скоро сюда же привезли Владю. Пожила она немного и умерла. Радовалась, что умирает дома. Последние ее слова: «А что будет с Манечкой?».
Все, что я узнала о любви, я знаю из тетиной кладовки…
«Моя ты птушачка… – звала меня тетя. – Моя жужалка… пчелка…» Я все время лопотала, теребила ее. Я не могла поверить… Меня любили! Любили! Ты растешь, а тобой любуются – это такая роскошь. У тебя все косточки распрямляются, все мышцы. Я танцевала ей «русского» и «яблочко». Меня научили этим танцам в ссылке… Пела песни… «Есть по Чуйскому тракту дорога. / Много ездит по ней шоферов…», «Умру, в чужой земле зароют, / Заплачет мамочка моя, / Жена найдет себе другого, / А мать сыночка – никогда…». Набегаешься за день так, что ноги все синие-синие, ободранные – обуви же не было никакой. Ляжешь вечером спать, а тетя твои ножки закрутит в подол своей ночной сорочки, согреет. Она меня пеленала. Лежишь где-то возле живота… как в утробе… Поэтому я не помню зла… Я зло забыла… где-то далеко оно у меня спрятано… Утром просыпалась от тетиного голоса: «Я драники испекла. Поешь». – «Тетя, я спать хочу». – «А ты поешь и спи». Она понимала, что еда… блины… для меня как лекарство. Блины и любовь. А дядя наш Виталик был пастух, носил на плече кнут и длинную берестяную трубу. Ходил в военном кителе и галифе. Приносил нам с пастбища «торбу» – там и сыр, и кусочек сала – все то, чем его угощали хозяйки. Святая бедность! Она для них ничего не значила, не обижала, не оскорбляла. Как для меня важно все это… драгоценно… Одна подруга жалуется: «Нет денег на новую машину…», другая: «Всю жизнь мечтала, а так и не купила себе норковую шубу…». Как через стекло слышу… Единственное, о чем я жалею, что не могу уже носить короткую юбку… (Вместе смеемся.)
У тети был необычный голос… дрожащий, как у Эдит Пиаф… Ее звали петь на свадьбах. И если кто-то умирал. Я всегда с ней… рядом бегу… Помню… Вот она стоит-стоит возле гроба… долго стоит… В какой-то момент отлучается как-то от всех, подходит ближе. Медленно подходит… она видит, что никто не может сказать этому человеку последних слов. Люди хотят, но не все умеют. И вот она начинает: «И куда ты, Анечка, от нас пошла… светлый день и ночку оставила… кто теперь будет ходить по твоему двору… кто деток твоих поцелует… кто вечером коровку встретит…». Тихо-тихо подбирает слова… Все бытовое, простое, и оно же высокое. Печальное. Какая-то самая последняя правда в этом простом. Окончательная. Голос дрожит… И все за ней начинают плакать. Уже забыто, что корова не подоена, муж пьяный дома остался. Меняются лица, уходит суета, на лицах проступает свет. Все плачут. Я стесняюсь… и жалею тетю… Вернется она домой больная: «Ой, Манечка, головка шумит». Но такое было у тети сердце… Из школы прибегу… Маленькое окошко, иголка с палец… Тетя зашивает наши тряпочки и поет: «Огонь зальешь водою / Любовь ничем нельзя…». Я озарена этими воспоминаниями…
От нашего поместья… От нашего дома остались одни камни. Но я слышу их тепло, меня тянет к ним. Приезжаю туда, как на могилу. Я могу там заночевать в поле. Хожу осторожно, боюсь ступить. Человека нет, а жизнь есть. Гул жизни… разных живых существ… Хожу и боюсь разрушить чей-то дом. Я и сама могу обустроиться где угодно, как мурашка. У меня культ дома. Чтобы росли цветы… было красиво… Я помню, как в детдоме меня ведут в комнату, где я буду жить. Белые кровати… Ищу глазами: не занята ли кровать у окна? Будет ли у меня своя тумбочка? Я ищу, где будет мой дом.
Сейчас… Сколько это мы сидим и говорим? За это время отгремела гроза… соседка приходила… телефон звонил… Все это влияло на меня, на все это я откликалась. А на бумаге останутся только слова… Другого ничего не будет: соседки не будет, телефонных звонков… того, что я не сказала, но оно мелькало в памяти, присутствовало. Завтра вообще я обо всем, может быть, расскажу иначе. Слова остались, а я встану и пойду дальше. Я научилась с этим жить. Умею. Иду и иду.
Кто это мне дал? Все это… Бог дал или люди? Если Бог дал, то он знал, кому давать. Страдание меня вырастило… Это мое творчество… Моя молитва. Сколько раз я хотела кому-нибудь все рассказать. Проговаривалась. Но никто меня ни разу не попросил: «А дальше что… дальше?». А я все время ждала хороших или плохих людей, не знаю, но все время ждала людей. Всю жизнь жду, что меня кто-то найдет. И я все ему расскажу… и он спросит: «Ну а дальше что?». Сейчас стали говорить: социализм виноват… Сталин… Как будто у Сталина была власть, как у Бога. У каждого был свой Бог. Почему он молчал? Моя тетя… наша деревня… Я помню еще Марию Петровну Аристову, заслуженную учительницу, которая навещала нашу Владю в больнице в Москве. Чужая женщина… она и привезла ее к нам в деревню, внесла на руках… Владя уже совсем не ходила… Мария Петровна присылала мне карандаши, конфеты. Писала письма. А в детприемнике-распределителе, где меня мыли, дезинфицировали… Я на высокой лаве… вся в пене… могу соскользнуть, разбиться о цемент. Скольжу… сползаю… Чужая женщина… нянечка… подхватывает меня и прижимает к себе: «Мой ты птенчик».
Я видела Бога.
О времени, когда всякий, кто убивает, думает, что он служит Богу
Ольга В. – топограф, 24 года
– Утро. Я на коленях… Стояла и просила: «Господи! Я могу сейчас! Я хочу сейчас умереть!». Несмотря на то, что утро… и день начинается…
Такое сильное желание… Умереть! И я пошла к морю. Села на песок. Уговаривала себя, что не надо бояться смерти. Смерть – это свобода… Море билось, билось о берег… и наступила ночь, а потом снова утро. В первый раз я ничего не решила. Ходила и ходила. Слушала свой голос: «Господи, я люблю тебя! Господи…». Сара бара бзия бзой… Это по-абхазски… Вокруг столько красок, звуков… А я хочу умереть.
Я – русская. Родилась в Абхазии и там долго жила. В Сухуми. Жила там до двадцати двух лет. До девяносто второго года… Пока война не началась. Если загорится вода, как ее потушить? – говорят абхазы. Так они говорят о войне… Люди ездили в одних автобусах, учились в одних школах, читали одни книги, жили в одной стране и язык все учили – русский. И они теперь убивают друг друга: сосед – соседа, одноклассник – одноклассника. Брат убивает сестру! Воюют здесь же, возле дома… Ну сколько? Ну год назад… два… жили как братья, все были комсомольцами и коммунистами. Я писала в школьном сочинении: «братья навек…», «союз нерушимый…». Убить человека! Это не геройство и даже не преступление… Это такой ужас! Я это видела… Понять нельзя… не понимаю… Расскажу вам про Абхазию… Я ее очень любила… (Остановилась.) И сейчас люблю, все равно… Люблю… На стене в каждом абхазском доме висит кинжал. Когда рождается мальчик, родственники дарят ему кинжал и золото. И рядом с кинжалом на стене висит рог для вина. Абхазы пьют вино из рога, как из стакана, рог нельзя положить на стол, пока не выпьешь все до дна. По абхазским обычаям время, проведенное с гостями за столом, в срок жизни не засчитывается, потому что человек пил вино и радовался. А как считать время, когда он убивает? Стреляет в другого… Ну как? Я теперь много думаю о смерти. (Переходит на шепот.) Во второй раз… я уже не отступила… Закрылась в ванной… У меня все ногти были до крови сняты. Царапалась, впивалась в стенку, в глину, в мел, но в последнюю минуту снова захотела жить. И шнур оборвался… В конце концов, я живая, я могу себя потрогать. Одно только… я не могу перестать думать о ней… о смерти.
Когда мне было шестнадцать лет, умер мой папа. С тех пор я ненавижу похороны… эту музыку… Я не понимаю, почему люди играют этот спектакль? Я сидела у гроба, я уже тогда понимала, что это не мой папа, моего папы здесь нет. Было чье-то холодное тело. Оболочка. Все девять дней мне снился сон… Меня кто-то звал… все время звал к себе… А я не понимала: куда идти? К кому идти? Я стала думать о близких… многих из них я никогда не видела и не знала, они умерли раньше, чем я родилась. Но вдруг я увидела свою бабушку… Бабушка давно-давно умерла, у нас даже фотографии ее не осталось, а я ее узнала во сне. У них там все по-другому… Они вроде есть, и вроде их нет, они не прикрыты ничем, мы прикрыты телом, а они ничем не защищены. Потом я увидела папу… Папа еще был веселый, еще земной, мне весь знакомый. А все другие люди там какие-то такие… какие-то такие… как будто бы я их знала, но забыла. Смерть – это начало… начало чего-то… Мы только не знаем чего… Думаю и думаю. Я хотела бы вырваться из этого плена, хотела бы скрыться. А недавно… Как я танцевала утром у зеркала: я – красивая, я – молодая! Я буду радоваться! Я буду любить!
Первый… Красивый русский парень… Редкой красоты! Абхазы о таких говорят: «Мужчина – на семя». Он был чуть-чуть землей присыпан, в кроссовках и военной форме. Назавтра кто-то кроссовки снял. Вот он убит… А дальше, дальше что там? В земле – что? Под нашими ногами… подошвами… Там, внизу, или на небе… Что там – на небе? А вокруг лето, и море шумит. И цикады. И мама послала меня в магазин. А он убит. И разъезжают по улицам грузовики с оружием, и автоматы раздают, как хлеб. Я увидела беженцев, мне показали, что это беженцы, и я вспомнила это забытое слово. Из книг вспомнила. Беженцев было много: кто на машинах, кто на тракторе, кто пешком. (Молчит.) Давайте о чем-нибудь другом поговорим? Например, о кино… Я люблю кино, но мне нравятся западные фильмы. Почему? Там ничего не напоминает нашу жизнь. Там я могу все что угодно себе придумать… нафантазировать… Надеть себе другое лицо, потому что мне надоело мое лицо. Мое тело… даже руки… Меня не устраивает мое тело, я слишком ограничена во всем этом. У меня все то же тело, всегда одно и то же тело, а я разная, я меняюсь… Сама слушаю свои слова и думаю, что я этого сказать не могла, потому что не знаю этих слов и потому что глупая и люблю булки с маслом… Потому что еще не любила. Не рожала. А я это говорю… Не знаю: почему? Откуда оно все во мне? Другой… Молодой грузин… Он лежал в парке. Там был в одном месте песок, и он на песке лежал. Лежал и смотрел вверх… И никто его не увозил, никто не подбирал долго. Я увидела его… и понимаю, что надо куда-то мне бежать… Мне надо… А куда бежать? Я прибежала в церковь… Там никого не было. Я встала на колени и молилась за всех. Тогда я еще не умела молиться, еще не научилась с Ним разговаривать… (Роется в сумочке.) Где таблетки… Мне нельзя! Нельзя волноваться… Я после всего этого заболела, и меня показывали психиатру. Иду-иду по улице… и вдруг хочу кричать…
Где я хотела бы жить? Я хотела бы жить в детстве… Там я была с мамой, как в гнездышке. Спаси… Спаси Бог доверчивых и слепых! В школе я любила военные книги. И кино про войну. Представляла себе, что там красиво. Там ярко… яркая жизнь… Я даже жалела, что я девочка, а не мальчик: если будет война, то меня на войну не возьмут. Теперь я военные книги не читаю. Даже самые лучшие… Книги о войне… они все обманывают нас. На самом деле, война – это грязно и страшно. Я теперь не уверена – можно ли об этом писать? Не написать всю правду, а вообще – писать? Говорить об этом… Как потом быть счастливым? Я не знаю… я растеряна… Мама обнимет: «Доченька, что ты читаешь?» – «“Они сражались за Родину” Шолохова. Про войну…» – «Зачем ты читаешь эти книги? Они не о жизни, доченька. Жизнь – это что-то другое…» Мама любила книги про любовь… Моя мама! Я даже не знаю сейчас: жива она или нет? (Молчит.) Сначала я думала, что не могу там… в Сухуми не могу жить… А я вообще уже не могу жить. И книги о любви меня не спасают. А любовь есть, я знаю, что она есть. Я знаю… (Первый раз улыбнулась.)
Весна девяносто второго года… Наши соседи – Вахтанг и Гунала: он – грузин, она – абхазка, – они продали свой дом, мебель и собрались уезжать. Пришли – попрощаться: «Будет война. Уезжайте в Россию, если у вас там кто-то есть». Мы не поверили. Грузины всегда смеялись над абхазами, а абхазы не любили грузин. Да… О-о! (Смеется.) «Может ли грузин полететь в космос?» – «Нет». – «Почему?» – «Все грузины умрут от гордости, а все абхазы – от зависти». «Почему грузины такие маленькие?» – «Это не грузины такие маленькие, это горы у абхазов такие высокие». Смеялись, но жили вместе. За виноградниками ухаживали… вино делали… Виноделие у абхазцев – как религия. У каждого хозяина свой секрет… Прошел май… июнь… Начался пляжный сезон… Первые ягоды… Какая война! Мы с мамой о войне не думаем – закручиваем компоты, варим варенье. Каждую субботу ездили на базар. Абхазский базар! Эти запахи… звуки… Пахнет винными бочками и кукурузным хлебом, и овечьим сыром, и жареными каштанами. Тонкий запах алычи и табака, спрессованных табачных листьев. Висят сыры… мой любимый сыр мацони… Покупателей зазывают по-абхазски, по-грузински и по-русски. На всех языках: «Вай-вай, мой сладкий. Не хочешь – не бери, но ты попробуй!». Уже с июня в городе не продавали хлеб. Мама решила запастись мукой в субботу… Едем в автобусе, рядом села наша знакомая с ребенком. Ребенок играл, а потом стал плакать, и так громко, будто его кто-то напугал. И знакомая вдруг спрашивает: «Стреляют? Вы слышите: стреляют?». Сумасшедший вопрос! Подъехали к базару, а навстречу – толпа, в ужасе бегут люди. Летят куриные перья… Кролики под ногами… утки… О животных никогда не вспоминают… о том, как они страдают… А я помню раненую кошку. И как кричал петух, у него осколок из-под крыла торчал… Правда, я ненормальная? Я слишком много думаю о смерти… сейчас только этим занята… И вот – крик! Этот крик… Не один человек, а толпа кричит. И какие-то вооруженные люди без формы, но с автоматами догоняют женщин, забирают у них сумочки, вещи: «Отдай это… Сними с себя то…» «Это уголовники?» – шепчет мне моя мама. Вышли из автобуса и увидели русских солдат. «Что это?» – спросила у них мама. «Вы что, не понимаете? – ответил ей лейтенант. – Это – война». Моя мама – большая трусиха, она упала в обморок. Я затащила ее во внутренний дворик. Из какой-то квартиры нам вынесли графин воды… Где-то бомбят… звуки взрывов… «Женщины! Женщины! Мука нужна?» – Стоит молодой парень с мешком муки, на нем синий халат, в которых у нас грузчики ходят, но он весь белый, весь мукой обсыпан. Я стала смеяться, а мама говорит: «Давай возьмем. Может, это и вправду – война». Купили у него муки. Отдали деньги. Тут до нас дошло, что мы купили ворованное. Купили у мародера.
Я жила среди этих людей… знаю их привычки, язык… Я их люблю. А откуда появились эти? С такой скоростью! Нечеловеческой! Где это лежало? Где… кто ответит? Сняла с себя золотой крестик и спрятала его в муку и кошелек с деньгами тоже спрятала. Как старая бабушка… я все уже знала… Откуда? Муку… десять килограммов… я несла на себе до нашего дома – километров пять. Я шла спокойная… Если бы меня убили в тот момент, я не успела бы испугаться… А люди… многие с пляжа… приезжие… В панике и в слезах. А я спокойная… Наверное, я была в шоке? Лучше бы я кричала… кричала, как все… Я так сейчас думаю… Остановились отдохнуть возле железнодорожных путей. На рельсах сидели молодые парни: у одних – черная лента на голове, у других – белая. И у всех – оружие. Они еще меня подразнили, посмеялись. А недалеко от них дымилась грузовая машина… За рулем сидел убитый водитель… в белой рубашке… Увидели! Как побежали через чей-то мандариновый сад… Я вся в муке… «Брось! Оставь!» – просила мама. «Нет, мама, я не оставлю. Началась война, а у нас дома ничего нет». Вот эти картины… Движутся нам навстречу «Жигули»… Голосуем. Машина проходит мимо, и так медленно, как на похоронах. На первом сиденье – парень с девушкой, на втором – труп женщины. Страшно… Но почему-то не так страшно, как я раньше представляла… (Молчит.) Мне все время хочется об этом думать. Думать и думать. У самого моря – еще одни «Жигули»: лобовое стекло разбито… лужа крови… Женские туфли валяются… (Молчит.) Я, конечно, больна… больна… Почему я ничего не забываю? (Молчит.) Скорее! Скорее хотелось домой, куда-то в знакомое место. Куда-то бежать… Вдруг гул… И вверху – война! Зеленые… военные вертолеты… И на земле… Я увидела танки, шли они не колонной, а поодиночке, на танках сидели солдаты с автоматами. Развевались грузинские флаги. Колонна шла в беспорядке: одни танки быстро продвигались вперед, а другие останавливались у коммерческих ларьков. Солдаты соскакивали с брони и прикладами сбивали замки. Брали шампанское, конфеты, колу, сигареты. За танками шел автобус «Икарус», набитый матрацами и стульями. А стулья – зачем?
Дома сразу бросились к телевизору… Играл симфонический оркестр. А где война? По телевизору войну не показывали… Перед тем как идти на рынок, я подготовила помидоры, огурцы, чтобы законсервировать. Банки прокипятила. И вот мы вернулись, и я стала закручивать эти банки. Мне надо было что-то делать, чем-то занять себя. Вечером смотрели мексиканский сериал «Богатые тоже плачут». Про любовь.
Утром. Рано-рано проснулись от грохота. По нашей улице шла военная техника. Люди выходили на дорогу и смотрели. Одна машина затормозила возле нашего дома. Экипаж русский. Я поняла – наемники. Позвали маму: «Мать, дай воды». Мама принесла воды и яблок. Воду выпили, а яблоки не взяли. Сказали: «У нас вчера одного отравили яблоками». На улице встретила знакомую: «Как ты? Где твои?». Она прошла мимо меня с таким видом, как будто мы не знакомы. Я побежала за ней, схватила за плечи: «Что с тобой?» – «Ты еще ничего не поняла? Со мной опасно разговаривать – у меня муж… Мой муж – грузин». А я… я никогда не думала о том, кто ее муж – абхаз или грузин? Какая мне разница! Друг он отличный. Я обняла ее изо всех сил! Ночью к ней приходил родной брат. И хотел ее мужа убить. «Убивай и меня», – сказала ему сестра. А мы с ее братом в одной школе учились. Дружили. Я подумала: как мы теперь с ним встретимся? Что скажем друг другу?
Через несколько дней вся улица Ахрика хоронила… Ахрик… Знакомый абхазский мальчик. Ему было девятнадцать лет. Он пошел вечером к девушке – и его ножом в спину. Мать идет за гробом: то плачет, а то обернется – и смеется. Сошла с ума. Месяц назад все были советские, а тут: грузин – абхаз… абхаз – грузин… русский…
Жил на соседней улице еще один парень… Я его, конечно, знала, но не по имени, а в лицо. Здоровались. Нормальный с виду парень. Высокий, красивый. Он убил своего старого учителя – грузина, убил за то, что тот учил его в школе грузинскому языку. Ставил «двойки». Ну как это? Вы разве понимаете? Всех в советской школе учили: человек человеку – друг… друг, товарищ и брат… Моя мама, когда такое услышала… у нее глаза стали маленькие, а потом большие-большие… Спаси, Господи, доверчивых и слепых! Часами стою в церкви на коленях. Там тишина… хоть там всегда теперь много людей, и все об одном просят… (Молчит.) Думаете, у вас получится? Вы надеетесь, что можно об этом написать? Надеетесь? Да… ну так… вы надеетесь… А я – нет.
Проснусь ночью… позову маму… Мама тоже лежит с открытыми глазами: «Я никогда так не была счастлива, как в старости. И вдруг – война». Мужчины всегда говорят о войне, любят оружие – и молодые, и старые… А женщины вспоминают любовь… Старые женщины рассказывают, какие они были молодые и красивые. Никогда женщины о войне не говорят… они только молятся за своих мужчин… Мама пойдет к соседям и возвращается каждый раз испуганная: «В Гаграх сожгли целый стадион грузин». – «Мама!» – «А еще я слышала, что грузины кастрируют абхазов». – «Мама!» – «Разбомбили обезьянник… Ночью грузины за кем-то гонялись и думали, что это – абхаз. Они его ранили, он кричал. А абхазы на него наткнулись, думали – грузин. Догоняли, стреляли. А под утро все увидели, что это раненая обезьяна. И все – и грузины, и абхазцы – объявили перемирие и кинулись ее спасать. А человека бы убили…» Мне нечего было ответить моей маме. Я за всех молилась, просила: «Они идут, как зомби. Идут и верят, что творят добро. Но разве можно с автоматом и ножом творить добро? Заходят в дом и, если не находят никого, стреляют в скотину, в мебель. Выйдешь в город – лежит корова с простреленным выменем… расстрелянные банки с вареньем… Стреляют – одни по эту сторону, другие – по ту. Вразуми их!». (Молчит.) Телевизор уже не работал, один звук… без изображения… Москва была где-то далеко-далеко.
Я ходила в церковь… и там говорила… и говорила… На улице кого увижу, того и остановлю. Потом начала сама с собой разговаривать. Мама сядет возле меня, слушает и вижу – спит, она так уставала, что засыпала на ходу. Моет абрикосы – и спит. А я как заведенная… рассказываю и рассказываю… о том, что от других слышала и сама видела… Как грузин… молодой грузин… бросил автомат и кричал: «Куда мы приехали! Я приехал погибнуть за Родину, а не воровать чужой холодильник! Зачем вы заходите в чужой дом и берете чужой холодильник? Я приехал умереть за Грузию…». Его под руки куда-то увели, по голове гладили. Другой грузин поднялся во весь рост и пошел навстречу тем, кто в него стрелял: «Братья абхазы! Я не хочу вас убивать, и вы в меня не стреляйте». Его застрелили свои в спину. А еще… Кто он – русский или грузин – не знаю, он с гранатой бросился под военную машину. Что-то кричал. Никто не слышал, что он кричал. В машине горели абхазы… они тоже кричали… (Молчит.) Мама… мама… Мама все подоконники в доме заставила цветами. Спасала меня… Просила: «Смотри, доченька, на цветы! Смотри на море!». У меня редкая мама, у нее такое сердце… Она мне признавалась: «Я проснусь ранним-ранним утром – солнце пробивается сквозь листву… И я думаю: “Вот я сейчас посмотрю в зеркало – и сколько же мне лет?”». У нее бессонница, у нее болят ноги, она тридцать лет мастером на цементном заводе проработала, но она утром не знает, сколько ей лет. Потом она встает, чистит зубы, видит себя в зеркале – на нее смотрит старая женщина… Начинает готовить завтрак и забывает об этом. И я слышу, как она поет… (Улыбнулась.) Моя мама… моя подружка… Недавно мне приснился сон: я ухожу из своего тела… поднимаюсь высоко-высоко… Мне так хорошо.
Уже не помню, что было раньше, а что позже. Не помню… Первые дни грабители ходили в масках… черные чулки на лицо натягивали. Скоро они маски сняли. Идет: в одной руке хрустальная ваза, в другой автомат, и на спине еще ковер. Телевизоры тащили, стиральные машины… женские шубы… посуду… Ничем не брезговали, детские игрушки в разбитых домах подбирали… (Переходит на шепот.) Я теперь увижу обыкновенный нож в магазине… мне не по себе делается… Раньше я никогда не думала о смерти. Училась в школе, потом в медтехникуме. Училась и влюблялась. Проснусь ночью – и мечтаю. Когда это было? Так давно… Я уже ничего из той жизни не помню. Я другое помню… Отрезали мальчику уши, чтобы абхазские песни не слушал. А молодому парню отрезали… ну сами понимаете… это… чтобы от него жена не рожала… Где-то ядерные ракеты стоят, самолеты и танки, а человека все равно ножом резали. Вилами закалывали, топором рубили… Пусть бы я совсем сошла с ума… я ничего бы не помнила… Девочка на нашей улице… она сама повесилась… Девочка любила парня, а он женился на другой. Ее хоронили в белом платье. Никто не верил – как это: в такое время из-за любви умереть? Вот если бы ее изнасиловали… Я вспоминаю тетю Соню, мамину подругу… Ночью вырезали ее соседей… семью грузин, с которыми она дружила. И двоих детей маленьких. Целыми днями тетя Соня лежала на кровати с закрытыми глазами и не хотела выходить на улицу: «Девочка моя, зачем после этого жить?» – спрашивала она у меня. Я кормила ее супом из ложечки, она не могла глотать.
В школе нас учили любить человека с ружьем… Защитника родины! А эти… они не такие… И война не такая… Они все – мальчишки, мальчишки с автоматами. Живые – они страшные, а убитые лежат беспомощные – и их жалко. Как я выжила? Я… я… Я люблю думать о маме. Как она по вечерам долго расчесывала волосы… «Когда-нибудь, – обещала мне мама, – я расскажу тебе о любви. Но рассказывать буду так, как будто все это было не со мной, а с другой женщиной». У них с папой была любовь. Большая любовь. Сначала у моей мамы был другой муж, однажды она гладила ему рубашки, а он ужинал. И вдруг (это только с моей мамой могло такое приключиться) она сказала вслух: «Я рожать от тебя не буду». Забрала вещи и ушла. А потом появился мой папа… Он бродил за ней по пятам, ждал часами на улице, отморозил зимой уши. Ходил и смотрел. И вот он ее поцеловал…
Перед самой войной папа умер… Умер наш папа от разрыва сердца. Сел вечером у телевизора – и умер. Как будто куда-то ушел… «Вот, доча, когда ты вырастешь…» – у папы насчет меня были большие планы. И-и-и… (Заплакала.) Мы остались с мамой вдвоем. С мамой, которая боится мышей… не может спать одна в доме. От войны она закрывает голову подушкой… Продали все ценное, что было у нас: телевизор, папин золотой портсигар, который был священный, долго его берегли, мой золотой крестик. Мы решили уехать, а чтобы уехать из Сухуми, надо дать взятку. Берут военные и милиция, нужны большие деньги! Поезда уже не ходили. Последние корабли давно ушли, беженцев в трюмах и на палубах набилось как селедки в бочке. Денег у нас хватило только на один билет… на один билет и в одну сторону… До Москвы. Я не хотела без мамы уезжать. Месяц она меня упрашивала: «Уезжай, доченька! Уезжай!». А я хотела пойти в госпиталь… ухаживать за ранеными… (Молчит.) В самолет мне не разрешили ничего взять, только сумочку с документами. Ни вещи, ни мамины пирожки: «Поймите – военная обстановка». А рядом со мной проходил через таможню мужчина в штатском, но солдаты к нему обращались «товарищ майор», грузили его чемоданы, что-то в больших картонных коробках. Вносили ящики с вином, с мандаринами. Я плакала… я всю дорогу плакала… Меня утешала женщина, с ней летели два мальчика: один – свой, второй – соседский. Мальчики распухли от голода… Я не хотела… ни за что не хотела уезжать… Мама меня оторвала от себя, затолкала силой в самолет. «Мама, а куда я еду?» – «Ты едешь домой. В Россию».
Москва! Москва… Две недели я жила на вокзале. Таких, как я… нас – тысячи… На всех московских вокзалах – на Белорусском, Савеловском, Киевском… С семьями, с детьми и стариками. Из Армении, Таджикистана… Баку… Живут на скамейках, на полу. Еду там же варят. Стирают. В туалетах есть розетки… и возле эскалатора есть розетки… Воды в таз налил, туда – электрокипятильник. Лапши набросать, мяса… Суп готов! Детская манная каша! Мне кажется, что все вокзалы в Москве пропахли консервами и супом харчо. Пловом. Детской мочой и грязными пеленками. Их сушили на батареях, на окнах. «Мама, а куда я еду?» – «Ты едешь домой. В Россию». И вот я – дома. Дома нас никто не ждал. Не встречал. Никто на нас не обращал внимания, никто не расспрашивал. Вся Москва сегодня – вокзал, один большой вокзал. Караван-сарай. Быстро кончились деньги. Два раза меня хотели изнасиловать: первый раз – какой-то солдат, в другой раз – милиционер. Милиционер ночью поднял с пола: «Где твои документы?». Стал тащить в комнату «Милиция». Глаза были бешеные… Я – как закричала! И он, видно, испугался… Убежал: «Дур-ра ты!». Днем я ходила по городу… постояла на Красной площади… А вечером по магазинам продуктовым. Очень хотелось есть, одна женщина купила мне пирожок с мясом. Я не просила… Она ела, а я смотрела, как она ела… И она меня пожалела. Один раз… Но я этот «один раз» на всю жизнь запомнила. Это была старая-старая женщина. Бедная. Куда-то идти… только не сидеть на вокзале… Не думать о еде, не думать о маме. И так – две недели. (Плачет.) На вокзале в урне можно было найти кусочек хлеба… обгрызенную косточку куриную… Я так жила, пока не приехала папина сестра, о которой мы давно ничего не знали – жива она или нет? Ей восемьдесят лет. У меня был только номер ее телефона. Я каждый день звонила, никто не отвечал. Тетя лежала в больнице. А я уже решила, что она умерла.
Случилось – чудо! Я так ждала… и оно случилось… Тетя приехала за мной. «Ольга… вас ожидает в комнате милиции ваша тетя из Воронежа». Все зашевелились, задвигались… Весь вокзал: кто? Кого? Как фамилия? Мы прибежали вдвоем: там оказалась еще одна девочка с такой же фамилией, но с другим именем. Она приехала из Душанбе. Как она плакала, что это не ее тетя… не ее забирают…
Теперь я живу в Воронеже… Работа у меня всякая, куда возьмут – посудомойкой в ресторане, сторожем на стройке, фруктами у одного азербайджанца торговала, пока не стал приставать. Сейчас – топограф. Временно взяли, конечно, а жалко – работа интересная. Диплом об окончании медицинского техникума у меня украли на московском вокзале. И все мамины фотографии. Ходим с тетей в церковь. Я стою на коленях и прошу: «Господи! Я готова сейчас! Я хочу сейчас умереть!». Спрашиваю у Него каждый раз: жива моя мама или нет? Спасибо… Спасибо, что вы не боитесь меня. Не отводите глаз, как другие. Слушаете. У меня нет тут подруг, никто за мной не ухаживает. Я говорю… и говорю… Как они лежали… молодые, красивые… (Безумная улыбка на лице.) Глаза открыты… широко открытые глаза…
Через полгода я получила от нее письмо: «Ухожу в монастырь. Хочу жить. Молиться за всех буду».
О маленьком красном флажке и улыбке топора
Анна М-ая – архитектор, 59 лет
Мать
– A-а… я… Я так больше не могу… Последнее, что помню – крик. Чей? Не знаю. Мой? Или это соседка кричала, она услышала на лестничной площадке запах газа. Вызвала милицию. (Встает и идет к окну.) Осень. Недавно была желтая… сейчас уже черная от дождей. И свет даже днем где-то далеко-далеко. С утра уже темно. Включаю в доме все лампочки, и они горят весь день. Мне не хватает света… (Возвращается и садится напротив.)
Сначала мне приснился сон, что я умерла. В детстве я много раз видела, как умирают люди, а потом я об этом забыла… (Вытирает слезы.) Непонятно, почему плачу? Я же все знаю… Я все о своей жизни знаю… Во сне надо мной кружилось много-много птиц. Бились в окно. Я проснулась, и такое чувство, что у моей головы кто-то стоит. Кто-то там остался. Хочу повернуться, чтобы увидеть – кто это? Какой-то страх, какое-то предчувствие, что этого делать не надо. Нельзя! (Молчит.) Я о другом… о другом хотела… Не сразу об этом… Вы спросили о детстве… (Закрывает лицо руками.) Вот уже слышу… Слышу сладкий запах мать-и-мачехи… И горы вижу, и деревянную вышку, и солдата на ней – зимой в тулупе, весной в шинели. И железные кровати, очень много железных кроватей, они одна возле одной стоят. Одна возле одной… Мне раньше казалось: если я кому-нибудь это расскажу, мне захочется убежать от этого человека, чтобы больше никогда его не видеть. Все такое мое… и глубоко-глубоко запрятано… Я никогда не жила одна, я жила в лагере в Казахстане, он назывался Карлаг, после лагеря – в ссылке. Жила в детдоме, в общежитии… в коммуналке… Всегда много-много других тел, других глаз. Свой дом у меня появился, когда мне было уже сорок лет. Нам дали с мужем двухкомнатную квартиру, у нас уже дети выросли. Я бегала к соседям по привычке, как в общежитии, одалживала то хлеб, то соль, то спички, и меня за это не любили. А я никогда не жила одна… и не могла привыкнуть… Еще мне всегда хотелось писем. Ждала конвертов, конвертов! И сейчас жду… Мне пишет одна подруга, она уехала к дочке в Израиль. Спрашивает: что у вас там? Какая жизнь после социализма… А какая у нас жизнь? Идешь по знакомой улице: французский магазин, немецкий, польский – все названия на чужих языках. Чужие носки, кофточки, сапоги… печенье и колбаса… Нигде не найти нашего, советского. Я только и слышу со всех сторон: жизнь – борьба, сильный побеждает слабого, и это естественный закон. Надо нарастить себе рога и копыта, железный панцирь, слабые никому не нужны. Всюду локти, локти, локти. Это – фашизм, это – свастика! Я в шоке… и в отчаянии! Это не мое. Не мое это! (Молчит.) Если бы кто-то рядом… кто-то был… Мой муж? Он ушел от меня. А я его люблю… (Вдруг улыбнулась.) Поженились мы с ним весной, когда черемуха расцвела и сирень уже на подходе. Ушел тоже весной. Но он приходит… приходит ко мне во сне и все никак не может проститься… Что-то говорит-говорит. А днем… я глохну от тишины. Слепну. С прошлым у меня отношения как с человеком, как с кем-то живым… Помню, как в «Новом мире» напечатали, и все читали «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. У всех – потрясение! Столько разговоров! А я не понимала, почему такой интерес и такое удивление? Все знакомое, абсолютно для меня нормальное: зэки, лагерь, параша… И – зона.
В тридцать седьмом арестовали моего отца, он работал на железной дороге. Мама бегала, хлопотала, доказывала, что он не виноват и это ошибка. Обо мне она забыла. Забыла обо мне. Когда вспомнила, захотела избавиться, было уже поздно. Она пила всякую гадость… залезала в горячую ванну. И… родился недоношенный ребенок… Но я выжила. Я зачем-то выживала много раз. Много раз! Скоро маму тоже арестовали и меня вместе с ней, так как нельзя было оставить ребенка одного в квартире, мне было четыре месяца. Двух старших сестричек мама успела отправить к папиной сестре в деревню, но из энкавэдэ пришла бумага: привезти детей назад в Смоленск. Забрали прямо на вокзале: «Дети будут в детдоме. Может, комсомольцами вырастут». Даже адреса не дали. Девочек мы нашли, когда они уже были замужем, у них уже были свои дети. Через много, много лет… В лагере до трех лет я жила вместе с мамой. Мама вспоминала, что маленькие дети часто умирали. Зимой умерших складывали в большие бочки, и там они лежали до весны. Их обгрызали крысы. Весной хоронили… хоронили то, что оставалось… С трех лет детей у матерей забирали и помещали в детский барак. С четырех… нет, наверное, с пяти лет – я уже что-то помню… Эпизодами… Утром через проволоку мы видели наших мам: их считали и уводили на работу. Уводили за зону, куда нам ходить запрещалось. Когда меня спрашивали: «Откуда ты, девочка?» – я отвечала: «Из зоны». «Зазона» – это был другой мир, что-то непонятное, пугающее, для нас не существующее. Пустыня там, песок, сухой ковыль. Мне казалось, что пустыня там до самого края, и другой жизни, кроме нашей, нет. Нас охраняли наши солдаты, мы ими гордились. У них звездочки на фуражках… Был у меня дружок Рубик Циринский… Он водил меня к мамам через лаз под проволокой. Всех построят идти в столовую, а мы спрячемся за дверью. «Ты же не любишь кашу?» – спрашивал Рубик. А я всегда хотела есть и очень любила кашу, но ради того, чтобы увидеть маму, я согласна была на все. И мы ползли в барак к мамам, а барак был пустой, мамы все на работе. Мы знали, но все равно ползли, обнюхивала там все. Железные кровати, железный бачок для питьевой воды, кружка на цепочке – все это пахло мамами. Землей… и мамами… пахло… Иногда мы там находили чьих-то мам, они лежали на кровати и кашляли. Чья-то мама кашляла кровью… Рубик сказал, что это мама Томочки, которая у нас самая маленькая. Эта мама скоро умерла. А потом умерла сама Томочка, и я долго думала: кому сказать, что Томочка умерла? Ведь ее мама тоже умерла… (Замолкает.) Через много, много лет я об этом вспоминала… Мама мне не верила: «Тебе было всего четыре годика». Я ей тогда говорила, что она ходила в брезентовых ботинках на деревянной подошве и из каких-то маленьких кусочков шила большие фуфайки. И она снова удивлялась и начинала плакать. Помню… Помню аромат кусочка дыни, который мама мне принесла, размером с пуговицу, в какой-то тряпочке. И как однажды мальчики позвали меня играть с кошкой, а я не знала, что такое кошка. Кошку принесли из-за зоны, в зоне кошек не было, они не выживали, потому что не оставалось никаких остатков еды, мы все подбирали. Все время смотрели под ноги: что бы такое найти и съесть. Ели какую-то траву, корешки, облизывали камешки. Нам очень хотелось угостить чем-то кошку, но у нас ничего не было, и мы кормили ее своей слюной после обеда и! – она ела. Она ела! Помню, как мама однажды хотела дать мне конфету. «Анечка, возьми конфету!» – позвала она меня через проволоку. Охранники ее отгоняли… она упала… ее тянули по земле за длинные черные волосы… Мне было страшно, я представления не имела, что такое конфета. Никто из детей не знал, что такое конфета. Все испугались и поняли, что меня надо спрятать, и затолкали в серединку. Меня всегда дети ставили в серединку: «Потому что Анечка у нас падает». (Плачет.) Непонятно, почему… плачу? Я же все… Я все о своей жизни знаю… Ну вот… Забыла, о чем я? Мысль не закончена… Не так ли? Не закончена?
Страх был не один… Было много страхов, больших и маленьких. Мы боялись расти, боялись, что нам будет пять лет. В пять лет вывозили в детдом, мы понимали, что это куда-то далеко… далеко от мам… Меня, как сейчас помню, вывезли в детдом номер восемь поселка номер пять. Все было под номерами, а вместо улиц – линии: линия первая, линия вторая… Нас погрузили в грузовик и повезли. Мамы бежали, цеплялись за борта, кричали, плакали. Помню, что мамы плакали всегда, а дети плакали редко. Не были мы капризными, не баловались. Не смеялись. Плакать я научилась уже в детдоме. В детдоме нас очень сильно били. Нам говорили: «Вас можно бить и даже убить, потому что ваши мамы – враги». Пап мы не знали. «Твоя мама плохая». Не помню лица женщины, которая мне это повторяла и повторяла. «Моя мама – хорошая. Моя мама – красивая». – «Твоя мама – плохая. Она – наш враг». Я не помню, произносила ли она само это слово «убить», но что-то такое… какие-то слова были. Какие-то страшные слова… Какие-то… да… Я даже боялась их запомнить. У нас не было воспитателей, учителей, таких слов мы не слышали, у нас были командиры. Командиры! У них в руках всегда длинные линейки… Били за что-то и просто так… просто били… Мне хотелось, чтобы меня били так, чтобы остались дырки, и тогда перестанут бить. Дырок у меня не было, зато гнойные свищи покрыли все тело. Я обрадовалась… У моей подружки Олечки были металлические скобочки на позвоночнике, ее нельзя было бить. Все ей завидовали… (Долго смотрит в окно.) Я никому это не рассказывала. Я боялась… А чего я боялась? Не знаю… (Задумывается.) Мы любили ночь… Ждали, чтобы скорее наступила ночь. Темная-темная ночь. Ночью к нам приходила тетя Фрося, ночной сторож. Она была добрая, она нам рассказывала сказку про Аленушку и Красную Шапочку, приносила в кармане пшеничку и давала по несколько зернышек тому, кто плакал. Больше всех у нас плакала Лилечка, она плакала утром, вечером плакала. У нас у всех была чесотка, толстые красные чирьи на животе, а у Лилечки под мышками были еще волдыри, они лопались гноем. Помню, что дети доносили друг на друга, это поощрялось. Больше всех доносила Лилечка… Казахский климат суровый – зимой сорок градусов мороза, а летом сорок градусов жары. Лилечка умерла зимой. Если бы она дожила до травы… Весной бы она не умерла… Не… (Умолкает на полуслове.)
Нас учили… Больше всего нас учили любить товарища Сталина. Первое в своей жизни письмо мы писали ему – в Кремль. Это было так… Когда мы выучили буквы, нам раздали белые листы, и под диктовку мы писали письмо самому доброму, самому любимому нашему вождю. Мы его очень любили, верили, что получим ответ и что он нам пришлет подарки. Много подарков! Смотрели на его портрет, и он нам казался таким красивым. Самым красивым на свете! Мы даже спорили, кто сколько лет своей жизни отдаст за один день жизни товарища Сталина. На Первое Мая нам всем выдавали красные флажки, мы шли и радостно ими махали. По росту я была самая маленькая, стояла в конце и всегда переживала, что мне не достанется флажок. Вдруг не хватит! Нас все время учили, нам говорили: «Родина – это ваша мать! Родина – ваша мама!». А мы у всех взрослых, которых встречали, спрашивали: «Где моя мама? Какая моя мама?». Никто не знал наших мам… Первая мама приехала к Рите Мельниковой. У нее был изумительный голос. Она нам пела колыбельную: «Спи, моя радость, усни. / В доме погасли огни… / Дверь ни одна не скрипит, / Мышка за печкою спит…». Мы такой песни не знали, мы эту песню запомнили. Просили: еще, еще. Я не помню, когда она кончила петь, мы заснули. Она нам говорила, что наши мамы хорошие, что наши мамы красивые. Все мамы красивые. Что наши мамы все поют эту песню. Мы ждали… Потом пережили страшное разочарование – она нам сказала неправду. Приезжали другие мамы, они были некрасивые, больные, они не умели петь. И мы плакали… плакали навзрыд… Плакали не от радости встречи, а от огорчения. С тех пор я не люблю неправду… не люблю мечтать… Нас нельзя было утешать неправдой, нельзя было обманывать: твоя мама жива, а не умерла. Потом оказывалось… нет красивой мамы, или вообще мамы нет… Нет! Все мы были очень молчаливые. Не помню наших разговоров… помню прикосновения… Моя подружка Валя Кнорина до меня дотронется, и я знаю, о чем она думает, потому что все думали об одном и том же. Знали друг о друге интимные вещи: кто писается ночью, кто кричит во сне, кто картавит. Я все время ложкой зуб себе выпрямляла. В одной комнате – сорок железных кроватей… Вечером – команда: сложить ладошки – и под щеку, и всем – на правый бочок. Должны были делать это вместе. Все! Это была общность, пусть животная, пусть тараканья, но меня так воспитали. Я до сих пор такая… (Отворачивается к окну, чтобы я не видела ее лица в эти минуты.) Лежим-лежим ночью и начинаем плакать… Все вместе: «Хорошие мамы уже приехали…». Одна девочка сказала: «Не люблю маму! Почему она так долго ко мне не едет?». Я тоже обижалась на свою маму. А утром мы хором пели… (Тут же начинает напевать.) «Утро красит нежным светом / Стены древнего Кремля. / Просыпается с рассветом / Вся советская земля…» Красивая песня. Для меня она и сейчас красивая.
Первого мая! Больше всех праздников на свете мы любили Первое Мая. В этот день нам выдавали новые пальто и новые платья. Все пальто одинаковые и все платья одинаковые. Ты начинаешь их обживать, делаешь метку, ну хотя бы какой-то узелок или складочку, что это твое… часть тебя… Нам говорили, что Родина – это наша семья, она о нас думает. Перед первомайской линейкой выносили во двор большое красное знамя. Стучал барабан. Один раз – чудо! – приезжал к нам генерал и поздравлял. Всех мужчин мы делили на солдат и офицеров, а это был генерал. Штаны с лампасами. Лезли на высокий подоконник, чтобы увидеть, как он садился в машину и махал нам рукой. «Ты не знаешь, что такое – папа?» – спросила меня вечером Валя Кнорина. Я не знала. И она тоже. (Молчит.) Был у нас Степка… Руки сложит, как будто он с кем-то вдвоем, и кружится по коридору. Сам с собой танцует. Нам смешно, а он ни на кого не обращал внимания. А однажды утром он умер, не болел и умер. Сразу умер. Долго его не забывали… Говорили, что папа у него был большой военачальник, очень большой, тоже генерал. А потом и у меня появились волдыри под мышкой, они лопались. И было так больно, что я плакала. Игорь Королев поцеловал меня в шкафу. Мы учились в пятом классе. Я начала выздоравливать. Выжила… Опять! (Срывается на крик.) Разве это кому-нибудь сейчас интересно? Назовите мне – кому? Не интересно и не нужно давно. Страны нашей нет и никогда уже не будет, а мы есть… старые и противные… со страшными воспоминаниями и затравленными глазами… Мы есть! А что сегодня осталось от нашего прошлого? Только то, что Сталин залил эту землю кровью, Хрущев сажал на ней кукурузу, а над Брежневым все смеялись. А наши герои? О Зое Космодемьянской в газетах стали писать, что она болела шизофренией после перенесенного в детстве менингита и у нее была страсть поджигать дома. Душевнобольная. А Александр Матросов пьяный бросился на немецкий пулемет, а не спасал товарищей. И Павка Корчагин уже не герой… Советские зомби! (Немного успокоившись.) А мне до сих пор снятся лагерные сны… До сих пор не могу спокойно на овчарок смотреть… любого человека боюсь в военной форме… (Сквозь слезы.) Я так больше не могу… Открыла газ… включила все четыре конфорки… Захлопнула форточки и задернула наглухо шторы. У меня ничего не осталось такого… чтобы… когда страшно умирать… (Молчит.) Когда еще что-то держит… Ну… запах головки маленького ребенка… Даже дерева под окном у меня нет… Крыши… крыши… (Молчит.) Поставила букет цветов на стол… Включила радио… И последнее… Лежу… уже лежу на полу… а мысли все оттуда… Все равно… Вот я выхожу за ворота лагеря… ворота железные, и они с лязгом за моей спиной закрываются. Я – свободная, меня освободили. Иду и уговариваю себя: только не оглядываться! Умирала от страха, что кто-то сейчас меня догонит и вернет. Надо будет возвращаться. Прошла немного и вижу у дороги березку… простую березку… Подбегаю к ней, обнимаю, прижимаюсь всем телом, рядом какой-то куст, я и его обнимаю. В первый год было столько счастья… от всего! (Долго молчит.) Соседка услышала запах газа… Милиция взломала дверь… Пришла я в себя в больнице, и первая мысль: где я? Я опять – в лагере? Как будто у меня не было другой жизни, и ничего больше не было. Сначала вернулись звуки… потом боль… Все причиняло боль: любое движение, глотнуть воздух, пошевелить рукой, открыть глаза. Весь мир – это было мое тело. Потом мир раздвинулся и стал выше: я увидела медсестру в белом халате… белый потолок… Я очень долго возвращалась. Рядом со мной умирала девушка, она умирала несколько дней, лежала вся в этих трубках, и во рту трубка, даже кричать она не могла. Почему-то ее нельзя было спасти. И я смотрела на эти трубки и представляла в подробностях: вот это я лежу… я умерла… но я не знаю, что я умерла и меня больше нет. Я уже побывала там… (Остановилась.) Не надоело слушать? Нет? Скажите… я могу замолчать…
Мама… Мама за мной приехала, когда я пошла в шестой класс. Двенадцать лет она отсидела в лагере, три года мы были вместе, а девять раздельно. Теперь нас отправляли на поселение и разрешали ехать вдвоем. Это было утро… Я шла по двору… Кто-то меня окликнул: «Анечка! Анюточка!». Никто меня так не звал, никто не звал меня по имени. Я увидела женщину с черными волосами и закричала: «Мама!». Она обняла меня с таким же ужасным криком: «Папочка!» – в юности я была очень похожа на отца. Счастье! Сколько разных чувств, сколько радости! Несколько дней я себя не помнила от счастья, я никогда больше не переживала такого счастья. Столько разных чувств… Но скоро… очень скоро оказалось, что мы с мамой не понимаем друг друга. Мы – чужие люди. Я хотела вступить в комсомол, чтобы бороться с какими-то невидимыми врагами, которые хотят разрушить нашу самую лучшую жизнь. А мама смотрела на меня и плакала… и молчала… Все время чего-то боялась. В Караганде нам выдали документы и направили в ссылку в город Белово. Это далеко за Омском. В самую глубокую Сибирь… Месяц мы туда ехали. Ехали и ехали, ждали и пересаживались. По пути отмечались в энкавэдэ, и нам все время предписывали следовать дальше. Нельзя поселиться в приграничной полосе, нельзя в близости оборонных предприятий, больших городов – такой длинный-длинный список, куда нам нельзя. До сих пор я не могу видеть вечерние огни в домах. Нас выгоняли ночью с вокзалов, мы шли на улицу. Метель, мороз. Горели огни в домах, там были люди, они жили в тепле, они грели чай. Нам надо было постучать в дверь… это самое страшное… Никто не хотел пускать ночевать… «Мы пахнем зэками…» – говорила мама. (Плачет. И не замечает, что плачет.) В Белово стали жить «на квартире» – в землянке. Потом опять жили в землянке, и она уже была наша. Я заболела туберкулезом, не могла от слабости стоять на ногах, страшно кашляла. Сентябрь… Все дети собираются в школу, а я не могу ходить. Меня забрали в больницу. Помню, что в больнице все время кто-то умирал. Умерла Сонечка… Ванечка… умер Славик… Мертвых я не боялась, но я не хотела умирать. Я очень красиво вышивала, рисовала, все хвалили: «Какая талантливая девочка. Тебе надо учиться». И я думала: тогда почему я должна умереть? И каким-то чудом я выжила… Однажды открыла глаза: на тумбочке стоял букет черемухи. От кого? Но поняла, что буду жить… Буду жить! Вернулась домой – в землянку. Мама за это время пережила очередной инсульт. Я ее не узнала… Увидела старую женщину. В этот же день ее увезли в больницу. В доме я не нашла никакой еды, даже запаха. Сказать кому-нибудь об этом постеснялась… Нашли меня на полу, я еле дышала. Кто-то принес кружку теплого козьего молока… Все, все… все… Все, что я помню о себе… как умирала и выживала… умирала… (Опять отвернулась к окну.) Немного окрепла… Красный Крест купил билет, и меня посадили на поезд. Отправили в родной Смоленск – в детдом. Так я вернулась домой… (Плачет.) Я не знаю, почему… почему я плачу? Я же все… Все… о своей жизни знаю… И там мне исполнилось шестнадцать лет… У меня появились друзья, за мной начали ухаживать… (Улыбнулась.) Красивые ребята за мной ухаживали. Взрослые. Но была у меня такая особенность: если я кому-нибудь нравилась, я пугалась. Страшно, что кто-то обратил на тебя внимание. Тебя заметил. За мной невозможно было ухаживать, потому что на свидание я брала с собой подругу. Если меня приглашали в кино, я тоже шла не одна. На первое свидание к своему будущему мужу я пришла с двумя подругами. Он долго потом это вспоминал…
День смерти Сталина… Весь детдом вывели на линейку, вынесли красное знамя. Сколько длились похороны, столько мы стояли по стойке «смирно», часов шесть или восемь. Кто-то падал в обморок… Я плакала… Как жить без мамы, я уже знала. Но как жить без Сталина? Как жить… Почему-то я боялась, что начнется война. (Плачет.) Мама… Через четыре года… я уже училась в архитектурном техникуме… вернулась из ссылки мама. Вернулась насовсем. Приехала она с деревянным чемоданчиком, в нем – цинковая утятница (она и сейчас у меня хранится, не могу выбросить), две алюминиевые ложки и куча драных чулок. «Ты – плохая хозяйка, – ругала меня мама, – не умеешь штопать». Штопать я умела, но я понимала, что эти дыры на чулках, которые она привезла, никогда не заштопать. Никакой рукодельнице! У меня стипендия – восемнадцать рублей, у мамы пенсия – четырнадцать рублей. Это был для нас рай – хлеба ешь, сколько хочешь, еще хватало на чай. У меня был один спортивный костюм и одно ситцевое платье, которое я сама сшила. В техникум зимой и осенью я ходила в спортивном костюме. И мне казалось… такое у меня было представление… что у нас все есть. Если я заходила в нормальный дом, в нормальную семью, сидела волчком – зачем столько вещей? Столько ложек, вилок, чашек… Меня ставили в тупик самые простые вещи… наипростейшие… Зачем, например, две пары туфель? Я до сих пор к вещам равнодушна, к быту. Невестка вчера звонит: «Ищу коричневую газовую плиту». После ремонта она подбирает на кухню все коричневое – мебель, занавески, посуду, чтобы как в импортном журнале. Часами висит на телефоне. Квартира в рекламках и газетах, читает все, где «продам-куплю». «И это хочу! И это…» Раньше у всех была простая обстановка, тогда вообще жили просто. А теперь? Человек превратился в желудок… В брюхо… Хочу! Хочу! Хочу! (Махнула рукой.) Я у сына редко бываю… У них там все новое, дорогое. Как в офисе. (Молчит.) Чужие мы… чужие родные… (Молчит.) Хочу вспомнить молодую маму. Но молодую ее не помню… помню только больную. Ни разу мы не обняли друг друга, не поцеловали, не было между нами ласковых слов. Не помню… Наши матери теряли нас дважды: первый раз – когда нас забирали у них маленькими, и второй раз – когда они, старые, возвращались к нам, уже взрослым. Дети были чужие… детей им подменили… Их воспитала другая мать: «Родина – ваша мать… Ваша мама…». «Мальчик, где твой папа?» – «Еще в тюрьме». – «А где твоя мама?» – «Уже в тюрьме». Своих родителей мы представляли только в тюрьме. Где-то далеко-далеко… никогда рядом… Одно время я хотела убежать от мамы назад в детдом. Как же! Как же… Она не читала газет и не ходила на демонстрации, не слушала радио. Не любила песни, от которых у меня сердце из груди выскакивало… (Тихо напевает.) «И врагу никогда не добиться, / Чтоб склонилась твоя голова. / Дорогая моя столица, / Золотая моя Москва…» А меня тянуло на улицу. Я ходила на военные парады, любила спортивные праздники. До сих пор помню этот полет! Ты шагаешь вместе со всеми, ты уже часть чего-то большого… огромного… Там я была счастлива, а с мамой – нет. И я это никогда не поправлю. Мама скоро умерла. Я обнимала, гладила ее только мертвую. Она уже лежала в гробу, и во мне проснулась такая нежность! Такая любовь! Лежала она в старых валенках… Ни туфель, ни босоножек у нее не было, а мои не налезли на ее распухшие ноги. Я ей сказала столько ласковых слов, столько признаний – слышала она их или не слышала? Целовала и целовала ее. Говорила, как я ее люблю… (Плачет.) Я чувствовала, что она еще здесь… Я верила…
Уходит на кухню. Скоро зовет меня: «Обед на столе. Я всегда одна, а хочется хотя бы пообедать с кем-нибудь вдвоем».
Никогда не надо возвращаться… потому что… да… А как я бежала туда! Как хотела! Пятьдесят лет… пятьдесят лет я возвращалась на то место… мысленно днем и ночью я там была…
Зима… чаще зима снилась… На улице такой мороз, что собак не видно и птиц. Воздух стеклянный, и дым из труб – столбом к небу. Или конец лета – трава уже остановилась в росте, покрылась тяжелой пылью. И я… я надумала туда поехать. Уже – перестройка. Горбачев… митинги… Все ходили по улицам. Радовались. Пиши, что хочешь, кричи, что хочешь и где хочешь. Сво-бо-да! Сво-бо-да! Чтобы нас ни ждало впереди, но прошлое закончилось. Ожидание чего-то другого… и нетерпение… И опять страх. Долгое время я боялась включать утром радио: а вдруг все кончилось? Отменили. Долго не верила. Придут ночью и увезут на стадион. Как было в Чили… Одного стадиона для «умников» хватит, а остальные сами замолчат. Но не приходили… не увозили… В газетах начали печатать воспоминания гулаговцев. Их фотографии. Глаза! Какие там у людей глаза! Смотрят как будто с того света… (Молчит.) И я решила: хочу… я должна туда поехать! Зачем? Сама не знаю… но я должна… Взяла отпуск… Первая неделя… вторая… никак не решусь, нахожу всякие причины: то к зубному врачу мне надо, то на балконе дверь не докрасила. Ерунда какая-то. Утром… это было утром… Крашу балконную дверь и сама себе говорю: «Завтра еду в Караганду». Вот так, вслух, помню, сказала – и поняла, что поеду. Еду – все! Что такое – Караганда? Чистая, голая степь на сотни километров, горелая летом. При Сталине построили в этой степи десятки лагерей: Степлаг, Карлаг, Алжир… Песчанлаг… Привезли сотни тысяч зэков… Советских рабов. А умер Сталин, разрушили бараки, сняли проволоку – и получился город. Город Караганда… Я еду… Еду! Дорога длинная… Познакомилась в поезде с женщиной… учительницей с Украины. Она искала могилу своего отца и ехала в Караганду второй раз. «Не бойся, – учила меня. – Там уже привыкли, что какие-то странные люди приезжают со всего света и разговаривают с камнями». У нее было с собой письмо от отца, единственное его письмо из лагеря: «…лучше красного знамени все равно ничего нет…» Так оно заканчивалось… этими словами… (Задумывается.) Эта женщина… Она рассказывала, как отец подписал бумагу, что он польский шпион. Следователь переворачивал табуретку, в одну из ножек вбивал гвоздь, усаживал на него отца и вращал вокруг оси. И так добился своего: «Хорошо – шпион». Следователь: «А чей шпион?». Отец, в свою очередь, спросил: «А чьи бывают шпионы?». Дали на выбор – немецкий или польский. «Пишите – польский». Знал он по-польски два слова: «дзенькуе бардзо» и «вшистко едно». Два слова… А я… Я ничего про своего отца не знаю… Один раз мама проговорилась… что будто бы он сошел с ума от пыток в тюрьме. Все время там пел… В купе с нами ехал молодой парень. Мы всю ночь говорили. Плакали… А утром этот парень посмотрел на нас: «Жуть! Триллер какой-то!». Лет ему восемнадцать-двадцать. Господи! Столько всего пережили, а рассказать некому. Рассказываем друг другу…
Вот и Караганда… Кто-то стал шутить: «Вы-хо-ди-и! На выход с вещичками!». Кто смеется, кто плачет. На вокзале… первое, что услышала: «Шалава… курва… лягавые…». Знакомый язык зэков. Тут же я все эти слова вспомнила… Тут же! У меня – озноб. Никак не могла унять дрожь внутри, сколько я там была, столько внутри меня все дрожало. Сам город, конечно, не узнала, но сразу за ним, за последними домами, начинался знакомый пейзаж. Все узнала… Тот же сухой ковыль и белая пыль… и орел высоко-высоко в небе… И названия поселков знакомые – Вольный, Сангородок… Все бывшие лагерные точки. Думала, не помню, а помнила. В автобусе сел рядом старик, понял, что я не местная: «Кого ищете?» – «Да вот… – начала. – Тут лагерь был…» – «А, бараки? Последние два года назад разобрали. Из тех барачных кирпичей построили люди себе сараи, бани. Землю раздали под дачи. Огороды огородили лагерной проволокой. У сына моего там участок… Так, знаете, неприятно… На картофельных грядках по весне от снега и от дождей вылезают кости. Никто не брезгует, потому как привыкли, вся земля тут в костях, как в камнях. Сбрасывают в межу, топчут сапогами. Притаптывают. Привыкли уже. Тронь только чернозем… пошевели…» У меня перехватило дыхание. Как в обмороке. А старик повернулся к окну – показывает: «Вон там, за этим магазином, кладбище засыпали. И за баней». Сижу – не дышу. А чего я ждала? Что тут пирамиды будут стоять! Курганы Славы насыпят?! «Линия первая… теперь улица имени… Вторая линия…» Смотрю в окно – и не вижу, слепая от слез. На остановках казашки продавали огурцы, помидоры… смородину ведрами… «Только с грядки. Со своих огородов». Господи! Боже мой… надо сказать… что… Мне физически трудно было дышать, что-то со мной там происходило. За несколько дней высохла вся кожа, стали ломаться ногти. Что-то творилось со всем организмом. Упасть бы на землю и лежать. Не подниматься. Степь… она – как море… Шла-шла и наконец упала… Упала возле какого-то маленького железного крестика, до самой перекладины вросшего в землю. Я кричала, у меня была истерика. Вокруг никого… одни птицы… (После короткой передышки.) Жила в гостинице. Вечером в ресторане дым коромыслом… водка… Один раз я там ужинала… За моим столом заспорили двое мужчин, спорили до хрипоты… Первый: «Я до сих пор остаюсь коммунистом. Мы должны были построить социализм. Кто бы Гитлеру хребет сломал без Магнитки и Воркуты?». Второй: «А я со здешними стариками разговаривал… Они все в лагере служили или работали… не знаю, как это назвать… повара, вертухаи, особисты. Другой работы тут не было, а эта – сытая: жалование, паек и обмундирование. Так и говорят – “работа”. Лагерь – для них – работа! Служба! А вы о каких-то преступлениях. О душе и грехе. Не кто-нибудь сидел, а народ. И сажал, и охранял – тоже народ, не пришлый, не призванный откуда-то, а этот же. Свой. Родной. Это сейчас все надели полосатые рубашечки. Все – жертвы. Виноват один Сталин. А вы подумайте… простая арифметика… Миллионы зэков нужно было выслеживать, арестовывать, допрашивать, гонять по этапу, стрелять за шаг в сторону. Кто-то же это делал… нашлись миллионы исполнителей…». Официант принес им одну бутылку, скоро вторую… Я слушала… слушала я! А они пили и не пьянели. Я… как парализованная сидела и не могла уйти… Первый: «А мне рассказывали, что уже бараки стояли пустые. Закрытые. Но по ночам ветер приносил оттуда крики и стоны…». Второй: «Мистика. Начинается мифология. А вся наша беда в том, что у нас палачи и жертвы – это одни и те же люди». И опять: «Сталин принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой…». Я там не сомкнула глаз три дня и три ночи. Днем ходила и ходила по степи. Ползала. До темноты, до огней.
Один раз подвез в город мужчина, лет пятьдесят ему, а может, и больше, как и мне. Выпивши был. Разговорчивый. «Могилы ищите? Понимаю, живем на кладбище, можно сказать. А мы… Одним словом, у нас о прошлом не любят вспоминать. Табу! Старики умерли, это наши родители, а те, кто еще жив, молчат. У них воспитание, знаете, сталинское. Горбачев, Ельцин… это сегодня… А кто знает, что будет завтра? Куда повернет…» Слово за слово, и я узнала, что отец его был офицер, «при погонах». При Хрущеве хотел отсюда уехать, но ему не разрешили. Все давали подписку о неразглашении государственной тайны: и те, кто сидел, и те, кто сажал. Охранял. Никого нельзя было выпускать, слишком они все много знали. Не выпускали даже, слышал он, тех, кто сопровождал эшелоны с заключенными. Вроде бы тут они спаслись от войны, но с войны они могли вернуться, а отсюда уже никак. Зона… система… засовывала их в себя безвозвратно. Отбыв срок, уехать из этих проклятых мест могли только блатари и уголовники. Бандиты. Остальные жили потом вместе, бывало, что в одном доме, в одном дворе. «Эх, жизнь наша, жестяночка!» – повторял. Вспомнил случай из своего детства… Как «сидельцы» сговорились и задушили бывшего вертухая… за то, что зверь был… По пьянке драки устраивали, шли друг на друга стенкой. Отец пил по-черному. Напивался и плакал: «Мать вашу! Всю жизнь язык на прищепке. Мы – песочек маленький…». Ночь. Степь. Вдвоем едем – дочь жертвы и сын… как назвать… палача, что ли? Маленького палача… Большие палачи без маленьких никогда не обходятся. Их требуется много, тех, кто грязную работу будет делать… Ну, вот мы встретились… И о чем разговариваем? О том, что ничего о своих родителях не знаем, молчали они до самой смерти. Унесли свои тайны с собой. Но, видно, зацепила я мужика, расстроила чем-то сильно. Рассказал, что отец никогда не ел рыбу, потому как рыба, говорил, человеком может питаться. Брось голого человека в море, через несколько месяцев одни чистенькие кости останутся. Беленькие. Знал он это… откуда? Когда был трезвым, молчал, а пьяный клялся, что везде работал на бумажной должности. Руки у него чистые… Хотелось бы сыну в это верить. А чего рыбу тогда не ел? Тошнило его от рыбы… После смерти отца нашел он документы, что несколько лет служил тот возле Охотского моря. Там тоже были лагеря… (Молчит.) Пьяный… разболтался… И смотрит – смотрит так на меня, даже протрезвел. Протрезвел и испугался. Я поняла – испугался. Что-то вдруг злобное крикнул… в таком духе, что хватит, мол, выкапывать мертвецов! Хватит! Я поняла… У них… у детей… никто подписку не брал, но они сами понимали, что надо держать язык за зубами. На прощание протянул руку. А я руки не подала… (Заплакала.)
Я искала до последнего дня, искала… И в последний день мне подсказали: «Сходите к Катерине Демчук. Старухе девяносто скоро, а все помнит». Провели, показали. Я увидела кирпичный дом с высоким забором. Постучала в калитку… Вышла она… старая-старая… полуслепая. «Мне сказали, что вы в детдоме работали?» – «Я была учительница». – «У нас учителей не было, а были командиры». Ничего не ответила. Отошла и поливает из шланга грядки. А я стою… не ухожу… не ухожу я! Тогда она неохотно провела меня в дом: в горнице – крест с распятым Христом, в углу иконка. Я вспомнила голос… лицо не вспомнила, а голос… «Твоя мама – враг. Вас можно бить и даже убить». Я узнала ее! Или очень хотела узнать? Могла не спрашивать, но я спросила: «Может, помните меня? Может…» – «Не-не… никого не помню. Маленькие вы были, все плохо росли. А мы действовали по инструкции». Поставила чай, принесла коржики… Я сидела и слушала ее жалобы: сын алкоголик, и внуки пьют. Муж давно умер, пенсия маленькая. Спина болит. Жить в старости скучно. Ну вот! Я подумала: ну вот… вот… И вот! Через пятьдесят лет встретились… Я представила, что это она… вообразила себе… Встретились – и что? И у меня – мужа нет, пенсия маленькая. Спина болит. Старость и больше ничего. (Долго молчит.)
Назавтра я уехала… Что осталось? Недоумение… и обида… Только не знаю – на кого? А степь снится и снится, то она снится мне в снегу, то в красных маках. В одном месте, где стояли бараки – кафе, в другом – дачи. Коровы пасутся. Не надо было возвращаться. Нет! Так горько плачем, так страдаем – а зачем? Зачем все было? Ну еще двадцать… пятьдесят лет пройдет… и затопчут все во прах, как будто нас и не было. Останутся две строчки в учебнике истории. Абзац. Уже мода на Солженицына проходит и на историю по Солженицыну. Раньше за «Архипелаг ГУЛаг» сажали в тюрьму. Читали тайком, перепечатывали на машинке, переписывали от руки. Я верила… верила, что если тысячи людей прочтут, то все переменится. Придет покаяние, будут слезы. А что вышло? Все, что писали в стол, напечатали, все, что тайно думали, сказали. И?! Лежат эти книги на книжных развалах, пылятся. А люди бегут мимо… (Молчит.) Мы есть… и нас нет… Даже улицы, на которой я раньше жила, уже нет. Была улица Ленина. Уже все другое: вещи, люди, деньги. Новые слова. Были «товарищи», теперь «господа», но что-то «господа» у нас плохо приживаются. Все ищут у себя дворянские корни. Модно! Откуда-то опять взялись князья и графья. А раньше гордились, что из рабочих и крестьян. Крестятся все и постятся. Обсуждают всерьез – спасет Россию монархия или не спасет? Любят царя, над которым в семнадцатом году каждая курсистка смеялась. Чужая мне страна. Чужая! Раньше, когда гости собирались, мы обсуждали книги, спектакли… А теперь: кто что купил? Курс валюты? И анекдоты. Ничего не жалко, над всем можно посмеяться. Все смешно. «Папа, а кто такой Сталин?» – «Сталин был наш вождь». – «А я думал, что вожди бывают только у дикарей». У армянского радио спрашивают: «Что осталось от Сталина?». Армянское радио отвечает: «От Сталина осталось две смены нижнего белья, пара сапог, несколько кителей, один из них праздничный, четыре рубля и сорок копеек советских денег. И гигантская империя». Второй вопрос: «Как русский солдат до Берлина дошел?» – «А русский солдат не такой смелый, чтобы отступать». Я перестала ходить в гости. И на улицу редко выхожу. Что я там увижу? Праздник Маммоны! Не осталось никаких ценностей, кроме мошны. А я? Я – нищая, мы все – нищие. Все мое поколение… бывшие советские люди… Ни счетов, ни недвижимости. Вещи у нас тоже советские – копейки никто не даст. Где наш капитал? Все, что у нас есть, это – наши страдания, то, что мы пережили. У меня – две справки на обыкновенных листочках из ученической тетрадки: «…реабилитирован…» и «…реабилитирована… в связи с отсутствием состава преступления…». На папу и на маму. Когда-то… когда-то я гордилась сыном… Военный летчик, служил в Афганистане. Сейчас… он на рынке торгует… Майор. Два боевых ордена! Лавочник! Раньше это называлось спекуляцией, а сегодня бизнесом. В Польшу – водку и сигареты, лыжи, а назад – тряпки. Барахло! В Италию – янтарь, а оттуда – сантехнику: унитазы, краны, вантузы. Тьфу! В нашей семье сроду не было торгашей! Их презирали! Пусть я обломок «совка»… но это лучше, чем купи-продай…
Вот… я вам признаюсь… Раньше люди мне нравились больше… Те люди… они были свои… С той страной я прожила всю ее историю. А к этой, что сейчас, я равнодушна, она не моя. (Вижу – устала. Выключаю диктофон. Отдает мне листок с телефоном сына.) Вы просили… Сын расскажет… у него свое… своя история… Я знаю, между нами пропасть… Я знаю… (Сквозь слезы.) А теперь оставьте меня. Я хочу быть одна.
Сын
Он долго не разрешал включить диктофон. Потом неожиданно сам предложил: «А вот это запишите… Тут уже – история, а не семейные конфликты – отцы и дети. Фамилию не называйте. Я не боюсь, но мне неприятно».
…Вам все известно… Но… что мы можем сказать о смерти? Ничего вразумительного… И-и… а-а… о-о! Абсолютно незнакомое чувство…
…До сих пор мне нравятся советские фильмы, есть в них что-то такое, что не найдешь в современных фильмах. Я это «что-то» тоже любил. Любил с детства. А что – не сформулирую. Увлекался историей, много читал, все тогда много читали, я читал о челюскинцах и Чкалове… о Гагарине и Королеве… но я долго ничего не знал о 37-м годе. Однажды спросил мать: «Где умер наш дедушка?» – она упала в обморок. Отец сказал: «Никогда больше маму об этом не спрашивай». Я был октябренком, пионером, не важно, верил я в это или нет. Может, и верил? Скорее не задумывался… Комсомол. Песни у костра: «Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а так…». И далее… (Закуривает.) Мечта? Мечтал быть военным. Летать! Престижно, красиво. Все девушки мечтали выйти замуж за военного. Любимый писатель – Куприн. Офицер! Красивая форма… Геройская смерть! Мужские попойки. Дружба. Это было привлекательно, принималось с юношеским восторгом. И родители поддерживали. Меня воспитывали по советским книжкам: «человек выше», «человека невозможно», «человек – это звучит гордо». Рассказывали о человеке, которого нет… в природе его нет… Я до сих пор не пойму, почему в то время было столько идеалистов? А сейчас они пропали. Какой идеализм у поколения пепси? Прагматики. Окончил военное училище и служил на Камчатке. У границы. Там, где только снег и сопки. Единственное, что мне всегда нравилось в моей стране – это природа. Пейзаж. Это – да! Через два года послали в военную академию – окончил с отличием. Очередные звездочки! Карьера! Похоронили бы на лафете с салютом… (С вызовом.) А сейчас? Перемена декораций… Из советского майора получился бизнесмен. Торгую итальянской сантехникой… Напророчил бы мне это кто-нибудь десять лет назад, я бы этого нострадамуса даже бить не стал – посмеялся бы шутке. Я был абсолютно советский – любить деньги стыдно, любить надо мечту. (Закуривает и молчит.) Жалко… забывается многое… Забывается, потому что слишком быстро все происходит. Калейдоскоп. Сначала я влюбился в Горбачева, потом в нем разочаровался. Ходил на демонстрации и орал вместе со всеми: «Ельцин – да! Горбачев – нет!». Кричал: «Шестую статью – доло-о-ой!». И даже расклеивал какие-то листовки. Говорили и читали, читали и говорили. Чего мы хотели? Наши родители хотели всё говорить и всё читать. Они мечтали жить при гуманном социализме… с человеческим лицом… А молодые? Мы… Мы тоже мечтали о свободе. Но что это такое? Одни теории… Хотели жить, как на Западе. Слушать их музыку, так же одеваться, ездить по миру. «Перемен хотим… перемен…» – пел Виктор Цой. Куда неслись – не понимали. Все мечтали… А в продуктовых магазинах стояли одни трехлитровые банки с березовым соком и маринованной капустой. Пачки лаврового листа. Талоны на макароны, масло, крупу… на табак… В очереди за водкой могли убить! Но напечатали запрещенного Платонова… Гроссмана… Вывели войска из Афганистана. Я остался живой, я думал, что мы все, кто там был – герои. Вернулись на Родину, а Родины нет! Вместо Родины – новая страна, плевать ей на нас! Армия разваливалась, военных стали чернить, поносить. Убийцы! Из защитников превратились в убийц. На нас повесили все: и Афганистан, и Вильнюс, и Баку. Всю кровь. Вечером ходить по городу в военной форме было небезопасно, могли избить. Люди злые, потому что – ни еды, ни вещей. Никто ничего не понимает. В полку у нас самолеты не летали – не было горючего. Экипажи сидели на земле – и в карты резались, водку жрали. На офицерскую зарплату можно было купить десять буханок хлеба. Один друг застрелился… второй… Уходили из армии, разбегались кто куда. У всех – семьи… у меня – двое детей, собака и кот… Как жить? Собаку перевели с мяса на творог, сами неделями ели одну кашу. Все это из памяти стирается… Да, надо записывать, пока кто-то еще что-то помнит. Офицеры… Мы по ночам разгружали вагоны, работали сторожами. Асфальт заливали. Вместе со мной вкалывали кандидаты наук, врачи, хирурги. Даже пианиста из филармонии помню. Я научился класть керамическую плитку и устанавливать бронированные двери. И так далее… далее… Начался бизнес… кто вез компьютеры… кто джинсы «варил»… (Смеется.) Двое договариваются: один покупает цистерну вина, другой продает. По рукам! Один идет искать деньги, а второй думает, где раздобыть цистерну вина? И анекдот, и правда. Ко мне тоже такие приходили: кроссовки рваные, а продавали вертолет… (Пауза.)
Но мы выжили! Выжили… И страна выжила! А что мы знаем о душе? Только то, что она есть. Я… мои друзья… у нас все нормально… У одного – строительная фирма, у другого – продуктовый магазинчик – сыр, мясо, колбасы, третий мебелью торгует. У кого-то капитал за границей, у кого-то дом на Кипре. Один – бывший кандидат наук, второй – инженер. Умные, образованные люди. Это в газетах рисуют «нового русского» с золотой цепью килограммов на десять, в машине у него бампер золотой, а колеса серебряные. Фольклор! В успешном бизнесе есть все кто угодно, только не дураки. Ну вот, мы соберемся… Приносим дорогой коньяк, но пьем водку. Пьем водку и под утро пьяные обнимаемся и орем комсомольские песни: «Комсомольцы – добровольцы… / Мы сильны нашей верною дружбой…». Вспоминаем, как студентами ездили «на картошку» и смешные случаи из армейской жизни. Вспоминаем, короче, советское время. Понимаете? А кончаются разговоры всегда так: «Беспредел сегодня. Сталин нам нужен». Хотя у нас, говорю вам, все хорошо. Что это? Взять меня… Для меня седьмое ноября – праздник. Я праздную что-то великое. Мне его жалко, даже очень жалко. Если по правде… С одной стороны, ностальгия, а с другой стороны, страх. Все хотят уехать, свалить из страны. Заработать «бабки» – и свалить. А наши дети? Все мечтают выучиться на бухгалтеров. А спросите у них о Сталине… Напрочь отрубило! Приблизительное представление… Я дал сыну почитать Солженицына – он все время смеялся. Слышу! – смеется. Для него обвинение, что человек был агентом трех разведок, уже смешно. «Папа… Ни одного грамотного следователя, в каждом слове – орфографическая ошибка. Даже слово расстрелять они пишут неправильно…» Он никогда не поймет меня и мою мать, потому что он ни одного дня не жил в советской стране. Я… и мой сын… и моя мать… Мы все живем в разных странах, хотя все это – Россия. Но мы чудовищно друг с другом связаны. Чудовищно! Все чувствуют себя обманутыми…
…Социализм – это алхимия. Алхимическая идея. Летели вперед, а приехали неизвестно куда. «К кому обратиться, чтобы вступить в коммунистическую партию?» – «К психиатру». А им… нашим родителям… моей матери… хочется услышать, что они прожили большую и не бездарную жизнь и верили в то, во что стоит верить. А что они слышат? Они слышат со всех сторон, что их жизнь полное говно, и у них ничего не было, кроме их ужасных ракет и танков. Готовы были отразить любого врага. И отразили бы! Но без всякой войны все рухнуло. Никто не может понять – почему? Тут надо думать… А думать не учили. Все помнят только страх… и говорят о страхе… Я где-то читал, что страх – это тоже форма любви. Кажется, эти слова принадлежат Сталину… Сегодня в музеях пусто… А церкви полные, потому что всем нам нужны психотерапевты. Психотерапевтические сеансы. Вы думаете, Чумак и Кашпировский лечат тело? Они лечат душу. Сотни тысяч людей сидят у телевизора и слушают их, как загипнотизированные. Это – наркотик! Страшное чувство одиночества… брошенности… У всех – от таксиста и клерка в офисе до народного артиста и академика. Все безумно одиноки. И так далее… так… Жизнь полностью переменилась. Мир теперь разделился по-другому: не на «белых» и «красных», не на тех, кто сидел и кто сажал, кто читал Солженицына и кто его не читал, а на тех, кто может купить и кто не может. Вам это не нравится? Не нравится… ясное дело… И мне… не нравится… Вы и даже я… мы были романтиками… А наивные шестидесятники? Секта честных людей… Верили, что коммунизм падет, и русский человек сейчас же бросится учиться свободе, а он бросился учиться жить. Жить! Все попробовать, лизнуть, откусить. Вот вкусная еда, вот модная одежда… путешествия… Он захотел увидеть пальмы и пустыню. Верблюдов… А не гореть и сгорать, не бежать все время куда-то с факелом и топором. Нет, просто жить, как другие живут… Во Франции и Монако… Ведь можно и не успеть! Дали землю, но могут забрать, разрешили торговать, но могут посадить. И фабрику отберут, и магазинчик. Сверлит этот страх в мозжечке. Буравит. Какая история?! Надо скорее деньги зарабатывать. Никто не думает ни о чем таком великом… грандиозном… Объелись великим! Хочется человеческого. Нормального. Обыкновенного… ну обыкновенного, понимаете! А про великое можно вспомнить так… под водочку… Первыми в космос полетели… И танки клепали самые лучшие в мире, но не было стирального порошка и туалетной бумаги. Эти проклятые унитазы всегда текли! Полиэтиленовые пакеты мыли и сушили на балконе. А видеомагнитофон в доме был вроде личного вертолета. Парень в джинсах – не зависть к нему, а декоративный интерес… Экзотика! Вот она – плата! Это была плата за ракеты и космические корабли. За великую историю! (Пауза.) Я вам тут наговорил… Все сегодня хотят говорить, но никто друг друга не слышит…
…В больнице… рядом с матерью лежала женщина… Когда я заходил в палату, то сначала видел эту женщину. Один раз я наблюдал, как она хотела что-то сказать своей дочери – не смогла: м-ма… м-му… Пришел муж, она попробовала говорить с ним – не получилось. Повернулась ко мне: м-ма… И тогда она дотягивается до своего костыля и, понимаете, начинает бить им по капельнице. По кровати… Она не чувствовала, что она бьет… рвет… Она хотела говорить… Ну а с кем сегодня можно поговорить? Скажите мне – с кем? А человек в пустоте жить не может…
…Я всю жизнь любил своего отца… Он старше матери на пятнадцать лет, был на войне. Но война его не раздавила, как других, не привязала к себе, как к самому значительному событию жизни. До сих пор ходит на охоту, рыбалку. Танцор. Два раза был женат, и оба раза на красивых женщинах. Детское воспоминание… Идем в кино, отец меня останавливает: «Посмотри, какая у нас мама красивая!». У него никогда не было животного гонора войны, который есть у воевавших мужчин: «Выстрелил. Завалил. Мясо из него полезло, как из мясорубки». Вспоминает какие-то невинные вещи. Глупости. Как в День Победы они с другом пошли в деревню к девкам и взяли в плен двух немцев. Те в деревенский сортир залезли, в яму по горло. Расстрелять жалко! – война-то кончилась. Настрелялись. А подойти близко невозможно… Отцу повезло: на войне могли убить – не убили, до войны могли посадить – не посадили. У него был старший брат – дядя Ваня. У того иначе все сложилось – в ежовские… тридцатые… сослали на рудники под Воркуту. Десять лет без права переписки. Жена, затравленная сослуживцами, выбросилась с пятого этажа. Сын рос с бабушкой. Но дядя Ваня вернулся… Вернулся с усохшей рукой, без зубов и с раздутой печенью. Стал снова работать на своем заводе, на той же должности, и сидел он в том же кабинете, за тем самым столом… (Снова закуривает.) А напротив него сидел тот, кто на него донес. Все знали… и дядя Ваня знал, что тот донес… Как и раньше, они ходили на собрания и демонстрации. Читали газету «Правда», одобряли политику партии и правительства. По праздникам пили водку за одним столом. И так далее… Это – мы! Наша жизнь! Мы такие… Представьте себе палача и жертву Освенцима, сидящих в одном кабинете и в одном окошечке бухгалтерии получающих зарплату. С одинаковыми орденами после войны. А теперь и с одинаковыми пенсиями… (Молчит.) Я дружу с сыном дяди Вани. Он не читает Солженицына, и ни одной книги о лагере у него в доме нет. Сын ждал отца, но вернулся кто-то другой… вернулся человеческий обломок… Смятый, согнутый. Быстро угас. «Ты не знаешь, как можно бояться, – говорил он сыну. – Ты не знаешь…» У него на глазах следователь… здоровенный мужик… сунул в парашу голову человека и держал там, пока тот не захлебнулся. А дядю Ваню… его голого подвешивали к потолку, а в нос, в рот – во все дырки, которые у нас есть, заливали нашатырный спирт. Следователь мочился ему в ухо и кричал: «Ты умных… Умных вспоминай!». И дядя Ваня вспоминал… Все подписал. А не вспомнил бы и не подписал – и его бы головой в парашу. Потом он некоторых из тех, кого вспомнил, там, в бараках, встретил… «Кто донес?» – гадали они. Кто донес? Кто… Я – не судья. И вы не судья. Дядю Ваню приносили в камеру на носилках, мокрых от крови и мочи. В собственном говне. Я не знаю, где человек кончается… А вы знаете?
…Стариков наших жалко, конечно… Пустые бутылки на стадионах собирают, ночью в метро сигаретами торгуют. На помойках копаются. Но старики наши не безвинны… Страшная мысль! Крамольная. Самому страшно. (Молчит.) Но я об этом никогда не смогу поговорить со своей матерью… Я пробовал… Истерика!
Хочет закончить разговор, но почему-то передумывает.
…Если бы я где-то это прочитал или от кого-то услышал – не поверил бы. А в жизни бывает… бывает, как в плохом детективе… Встреча с Иваном Д… Нужна фамилия? Зачем? Его уже нет. А дети? Сын за отца не отвечает – старая пословица… Да, и сыновья, они тоже теперь старики. Внуки, правнуки? О внуках не скажу, а правнуки… они уже не знают, кто такой Ленин… Дедушка Ленин забыт. Он уже памятник. (Пауза.) Так вот, про встречу… Я только получил лейтенанта, собирался жениться… На его внучке. Уже мы обручальные кольца купили и платье для невесты. Анна… так ее звали… красивое имя, правда? (Очередная сигарета.) Она была внучкой… обожаемой внучкой… Все в доме ее шутливо звали «Абожаба». Его придумка… Ну это значит что обожаемая… И похожа она была на него, внешне – так даже очень. Я из нормальной советской семьи, где всю жизнь тянули от зарплаты до зарплаты, а у них – хрустальные люстры, китайский фарфор, ковры, новенькие «Жигули». Все – шик! Была и старая «Волга», которую старик не хотел продавать. И так далее… Я уже жил у них, по утрам в столовой пили чай в серебряных подстаканниках. Семья большая – зятья, невестки… Один зять – профессор. Когда старик на него злился, всегда произносил одну и ту же фразу: «Да я таких… Они свое говно у меня ели…». Ну да… штрих… Но я тогда не понимал… Не понимал! Потом вспомнил… после… К нему приходили пионеры, записывали воспоминания, взяли его фотографии для музея. При мне он уже болел, сидел дома, а раньше выступал в школах, красные галстуки отличникам завязывал. Почетный ветеран. Каждый праздник в почтовом ящике – большая поздравительная открытка, каждый месяц – продуктовый спецпаек. Один раз я поехал с ним за этим пайком… В каком-то подвале нам выдали: палку сервелата, банку маринованных болгарских огурцов и томатов, импортные рыбные консервы, венгерскую ветчину в банке, зеленый горошек, печень трески… По тем временам все – дефицит! Привилегия! Меня он принял сразу: «Люблю военных и презираю “пиджаки”». Показал свое дорогое охотничье ружье: «Тебе оставлю». На стенах по всей огромной квартире висели оленьи рога, на книжных полках стояли чучела. Охотничьи трофеи. Был страстный охотник, лет десять возглавлял городское общество охотников и рыболовов. Что еще? Рассказывал много о войне… «В бою по далекой цели стрелять – это одно… Все стреляют… А вот так… вывести человека на расстрел. Человек стоит в трех метрах…» Всегда что-нибудь такое выдаст… Скучно с ним не было, старик мне нравился.
Я приехал в отпуск… Свадьба вот-вот. Середина лета. Жили все на большой даче. Дача из старых… Не казенные четыре сотки земли, я уже точно не помню, сколько, но там и кусок леса был. Старые сосны. Большим чинам такие дачи давали. За особые заслуги. Академикам и писателям. И вот ему… Проснусь – старик уже на огороде: «Душа у меня крестьянская. Я в Москву из Твери в лаптях пришел». Вечером часто сидел один на террасе и курил. Секрета от меня не было: его выписали из больницы умирать – неоперабельный рак легких. Курить не бросил. Из больницы вернулся с Библией: «Всю жизнь был материалистом, а перед смертью вот к Богу пришел». Библию подарили монашки, которые ухаживали в больнице за тяжелобольными. Читал с лупой. До обеда читал газеты, после обеденного сна военные мемуары. Собрал целую библиотеку мемуаров: Жуков, Рокоссовский… Сам любил вспоминать… Как видел живого Горького и Маяковского… челюскинцев… Часто повторял: «Народ хочет любить Сталина и праздновать Девятое мая». Я спорил с ним: началась перестройка… весна русской демократии… Птенец я был! Остались раз с ним вдвоем – все уехали в город. Двое мужчин на пустой даче. Графин водки. «Плевать мне на докторов! Я уже пожил». – «Налить?» – «Наливай». И поехало… До меня не сразу дошло… Не сразу я сообразил, что тут требуется священник. Человек думает о смерти… Не сразу… Сначала шел обычный для тех лет разговор: социализм, Сталин, Бухарин… политическое завещание Ленина, которое Сталин скрыл от партии… Обо всем, что было на слуху, в газетах. Выпили. Хор-рошо выпили! Чего-то он завелся: «Сопляк! Молодо-зелено… Ты меня послушай! Нельзя нашему человеку давать свободу. Все просрет! Понял!» – и мат. Русский человек не может убедить другого русского человека без мата. Мат я убираю. «Ты внимай…» Я… конечно… я… У меня шок! Шок! А он разошелся: «В наручники и на лесоповал этих горлопанов. Кайло – в руки. Страх нужен. Без страха у нас все в момент развалится». (Длинная пауза.) Мы думаем, что чудовище должно быть с рогами и копытами. А тут вроде как человек перед тобой сидит… нормальный человек… Сморкается… болеет… водку пьет… Я вот думаю… Я тогда первый раз об этом подумал… Всегда остаются и дают показания жертвы, а палачи молчат. Куда-то проваливаются, в какую-то невидимую дыру. У них нет фамилий, нет голосов. Они бесследно исчезают, мы ничего про них не знаем.
В девяностые… То было время, когда палачи еще были живы… они испугались… В газетах промелькнула фамилия следователя, который пытал академика Вавилова. Я запомнил – Александр Хват. Напечатали еще несколько имен. И они запаниковали, что откроют архивы, снимут гриф «секретно». Заметались. Никто это не отслеживал, специальной статистики нет, но были десятки самоубийств. По всей стране. Списали все на крушение империи… на обнищание… но мне рассказывали о самоубийствах вполне обеспеченных и заслуженных стариков. Без видимой причины. Одно у них было общее – все работники органов. У кого-то совесть заговорила, кто-то от страха, что семья узнает. Струхнули. Был у них момент паники. Не могли понять, что вокруг творится… и почему вакуум вокруг них образовался… Верные псы! Служаки! Не все, конечно, дрогнули… В «Правде» или в «Огоньке», тут меня память может подвести, напечатали письмо одного вохровца. Этот не побоялся! Описал букет своих болезней, приобретенных на службе в Сибири, где пятнадцать лет охранял «врагов народа». Здоровья не щадил… Служба, жаловался, была тяжелая: летом комары заедали и мучила жара, а зимой – морозы. Шинельки, я помню, так и писал «шинельки», выдавали солдатам слабые, а большое начальство ходило в тулупах и валенках. А теперь, мол, враги, которых не добили, головы поднимают… Контрреволюция! Письмо злобное… (Пауза.) Тут же бывшие зеки ему ответили… Они уже не боялись. Не молчали. Написали, как в лагере могли заключенного раздеть донага и привязать к дереву, мошка его за сутки так объедала, что один скелет оставался. Зимой в сорокаградусный мороз доходягу, не выполнившего дневную норму, обливали водой. Десятки ледяных статуй стояли для устрашения до весны… (Пауза.) Никого не судили! Никого! Палачи дожили свои дни почетными пенсионерами… Что скажу? Не взывайте к покаянию. Не придумывайте себе народ: какой он, наш народ, хороший. Покаяться никто не готов. Это великий труд – покаяться. Я вот сам захожу в церковь, а на исповедь – не решаюсь. Мне трудно… А по правде, так человеку только себя жалко. Больше никого. Так-то… Старик бегал по террасе… кричал… У меня волосы дыбом… Дыбом! От его слов. Я уже многое к тому времени знал… Прочел Шаламова… А тут – на столе ваза с конфетами, букет цветов… Абсолютно мирная обстановка. Вот этот контраст, он все усиливал. Страшно было и любопытно. Любопытства, честно скажу, было больше, чем страха. Хочется… Всегда хочется заглянуть в яму. Почему? Так мы устроены.
«…Когда меня взяли на работу в энкавэдэ, я страшно гордился. С первой зарплаты купил себе хороший костюм…
…Работа такая… С чем сравнить? Сравнить можно с войной. Но на войне я отдыхал. Расстреливаешь немца – он кричит по-немецки. А эти… эти кричали по-русски… Вроде свои… В литовцев и поляков было легче стрелять. А эти – на русском: “Истуканы! Идиоты! Кончайте скорее!” Ё..! Мы все в крови… вытирали ладони о собственные волосы… Иногда нам выдавали кожаные фартуки… Работа была такая. Служба. Молодой ты… Перестройка! Перестройка! Веришь болтунам… Пусть покричат: свобода! свобода! Побегают по площадям… Топор лежит… топор хозяина переживет… Запомнил! Ё..! Я – солдат! Мне сказали – я пошел. Стрелял. Тебе скажут – ты пойдешь. Пой-де-о-шь! Я убивал врагов. Вредителей! Был документ: приговорен “к высшей мере социальной защиты”… Государственный приговор… Работа – не дай бог! Недобитый, он упадет и визжит, как свинья… харкает кровью… Особенно неприятно стрелять в смеющегося человека. Он или сошел с ума, или тебя презирает. Рев и мат стояли с обеих сторон. Есть перед такой работой нельзя… Я не мог… Все время хочется пить. Воды! Воды! Как после перепоя… Ё..! К концу смены нам приносили два ведра: ведро водки и ведро одеколона. Водку приносили после работы, а не перед работой. Читал где-нибудь? То-то… Пишут сейчас всякое… много сочиняют… Одеколоном мылись до пояса. Запах крови едкий, особенный запах… на запах спермы немного похожий… У меня была овчарка, так после работы она ко мне не подходила. Ё..! Что молчишь? Зеленый еще… необстрелянный… Слушай! Редко… но попадался боец, которому нравилось убивать…. его из расстрельной команды переводили в другое место. Таких недолюбливали. Много было деревенских, как я, деревенские посильнее городских. Выносливее. К смерти привычнее: кто колол дома кабана, кто теленка резал, а курицу – так каждый. К смерти… к ней приучать надо… Первые дни водили посмотреть… Бойцы только присутствовали при казни или конвоировали приговоренных. Были случаи, что сразу сходили с ума. Не выдерживали. Дело тонкое… Зайца убить, и то привычка нужна, не каждый может. Ё..! Ставишь человека на колени – выстрел из нагана почти в упор в левую затылочную часть головы… в область левого уха… Рука к концу смены висела, как плеть. Особенно страдал указательный палец. У нас тоже был план, как и в любом другом месте. Как на заводе. С планом первое время не справлялись. Физически – не могли выполнить. Тогда созвали врачей. Консилиум. Решение было такое: два раза в неделю всем бойцам делать массаж. Массаж правой руки и указательного пальца. Указательный палец массировать обязательно, на него самая большая нагрузка при стрельбе. У меня осталась только глухота на правое ухо, потому что стреляешь с правой руки…
…Вручали нам грамоты “за выполнение специального задания партии и правительства”, “делу партии Ленина – Сталина преданы”. Этих грамот на отличной бумаге у меня – полный шкаф. Один раз в год – отправляли с семьей в хороший санаторий. Отличное питание… много мяса… лечение… Жена ничего не знала о моей работе. Секретная, ответственная работа – и все. Женился я по любви.
…В войну экономили патроны. Если море рядом… Набивали баржу, как бочку селедкой. Из трюма не крик, а звериный рык: “Врагу не сдается наш гордый ‘Варяг’/ Пощады никто не желает…” Руки каждому связывали проволокой, ну а к ногам – камень. Если погода тихая… гладь… долго видно было, как они шли ко дну… Что смотришь? Молокосос! Что смотришь?! Ё..! Наливай! Работа такая… служба… Я тебе рассказываю, чтобы ты понял: дорого нам стоила советская власть. Беречь ее надо. Хранить! Вечером возвращаемся – баржи пустые. Тишина мертвая. У всех одна мысль: выйдем на берег – и нас там… Ё..! Под кроватью у меня годами стоял наготове деревянный чемоданчик: сменное белье, зубная щетка, бритва. Пистолет под подушкой… Готов был пустить себе пулю в лоб. Все в то время так жили! И солдат, и маршал. Тут было равенство.
…Началась война… Я сразу попросился на фронт. В бою умереть не так страшно. Ты знаешь, что умираешь за Родину. Все просто и понятно. Освобождал Польшу, Чехословакию… Ё..! Закончил свой боевой путь под Берлином. Имею два ордена и медали. Победа! А… дальше было так… После Победы меня арестовали. Списки у особистов были наготове… У чекиста только два пути – погибнуть от руки врага или от руки НКВД. Дали семь лет. Все семь лет я отсидел. До сих пор… понимаешь… просыпаюсь по-лагерному – в шесть утра. За что сидел? За что сидел – не сказали. За что?! Ё..!»
Нервно смял пустую пачку из-под сигарет.
Может, врал. Нет… не врал… не похоже… Думаю, не врал… Утром я нашел причину, ерунду какую-то. Я уехал. Сбежал! Свадьба расстроилась. Ну да… да-а-а… Какая свадьба? Я уже не мог вернуться в этот дом. Не мог! Уехал в часть. Невеста… она не могла понять, писала письма… страдала… Да и я… Но я не об этом сейчас… не о любви… Это отдельная история. Я хочу понять… и вы хотите понять, что это были за люди? Правильно? Все-таки… Убийца – это интересно, что бы там ни говорили, убийца не может быть обыкновенным. К нему тянет… любопытно… Зло гипнотизирует… Сотни книг о Гитлере и Сталине. Какими они были в детстве, в семье, их любимые женщины… вино и сигареты… Нам интересна каждая мелочь. Хочется понять… Тамерлан, Чингисхан – кто они? Кто? И миллионы их копий… маленьких копий… они тоже творили ужасные вещи, и только единицы сходили с ума. А все остальные нормально жили: целовались с женщинами и в шахматы играли… игрушки своим детям покупали… Каждый думал: это не я. Это не я его подвешивал «на дыбы» и бил «мозги в потолок», и не я – отточенным карандашом в женские соски. Это не я, а система. Сам Сталин… даже он говорил: не я решаю, а партия… Учил сына: ты думаешь, что это я – Сталин. Нет! Сталин – это он! И показывал на свой портрет на стене. Не на себя, а на свой портрет! Машина смерти… Машина работала безостановочно… десятки лет… Логика была гениальная: жертва – палач, и в конце палач – тоже жертва. Как будто не человек это придумал… Так совершенно все бывает только в природе. Маховик вращается, а виноватых нет. Нет! Все хотят, чтобы их пожалели. Все – жертвы. В конце цепочки – все! Во-о-от! Я тогда по молодости испугался, онемел, сегодня я больше бы расспросил… Мне это надо знать… Зачем? Я боюсь… После всего, что я о людях знаю, я боюсь себя. Боюсь. Я – человек обыкновенный… слабый… Я – и черный, и белый, и желтый… всякий… В советской школе нас учили, что сам по себе человек хорош, он прекрасен, и моя мать до сих пор верит, что это ужасные обстоятельства делают его ужасным. А человек хорош! А это… не так… не так! Да-а-а… Всю жизнь человек болтается между добром и злом. Или ты острым карандашом в соски… или тебе… Выбирай! Выбирай! Сколько лет прошло… не могу забыть… Как он кричал: «Я смотрю телевизор, слушаю радио. Опять – богатые и бедные. Одни икру жрут, покупают острова и самолеты, а другим на белый батон не хватает. Долго у нас так не будет! Сталина еще назовут великим… Топор лежит… топор хозяина переживет… Вспомнишь мои слова… Ты спросил… (а я спрашивал) быстро ли кончается человек, насколько его хватает? Я тебе отвечу: ножку венского стула в задний проход или шилом в мошонку – и нет человека. Ха-ха… нет человека… Одна фигня! Ха-ха…» (Уже прощаясь.) Ну перетряхнули всю историю… Тысячи разоблачений, тонны правды. Прошлое для одних – сундук мяса и бочка крови, для других – великая эпоха. На кухнях каждый день воюем. Но скоро подрастут молодые… волчата, как называл их Сталин… Скоро они подрастут…
Еще раз прощается, но тут же снова начинает говорить.
Недавно в интернете увидел любительские фотографии… Обычные военные фотографии, если бы не знать – кто на них. Команда СС из Освенцима… Офицеры и рядовые. Много девушек. Фотографировались на вечеринках, на прогулках. Молодые, веселые. (Пауза.) А фотографии наших чекистов в музеях? Когда-нибудь внимательно присмотритесь: попадаются красивые… и вдохновенные лица… Нас долго учили, что это святые…
Я хотел бы уехать из этой страны или хотя бы детей отсюда вытолкнуть. Мы уедем. Топор хозяина переживет… Я запомнил…
Через несколько дней он позвонит и не разрешит печатать свой текст. Почему? Объяснять откажется. Потом я узнаю, что он эмигрировал с семьей в Канаду. Второй раз найду его через десять лет, и он согласится на публикацию. Скажет: «Я рад, что вовремя уехал. Одно время русских везде любили, а теперь снова боятся. А вам не страшно?»
Обаяние пустоты
Из уличного шума и разговоров на кухне (2002–2012)
– Ельцинские девяностые… Как мы их вспоминаем? Это: счастливое время… сумасшедшее десятилетие… страшные годы… время мечтательной демократии… гибельные девяностые… время просто золотое… время саморазоблачения… злые и подлые времена… яркое время… агрессивное… бурное… мое это было время… не мое!!!
– Профукали мы девяностые! Такой шанс, какой у нас был тогда, не скоро повторится. И ведь как все хорошо начиналось в девяносто первом! Никогда не забуду лица людей, с которыми я стоял у Белого дома. Мы победили, мы были сильными. Нам хотелось жить. Мы наслаждались свободой. Но сейчас… сейчас я иначе об этом думаю… Какие мы были до отвращения наивные! Храбрые, честные и наивные. Мы думали, что колбаса вырастает из свободы. Во всем, что случилось потом, и мы виноваты… Ельцин, конечно, несет ответственность, но мы тоже…
Я думаю, что все началось с октября. С октября девяносто третьего… «Кровавый октябрь», «черный октябрь», «ГКЧП – 2»… Так его называют… Пол-России рвалось вперед, а пол-России тянуло назад. В серый социализм. В проклятый совок. Советская власть не сдавалась. «Красный» парламент отказался подчиняться президенту. Я так это тогда понимал… Наша дворничиха, приехавшая откуда-то из-под Твери, которой мы с женой не раз помогали деньгами, отдали всю мебель, когда делали в квартире ремонт – в то утро, когда все началось, увидела у меня значок с Ельциным и вместо «Доброе утро!» злорадно сказала: «Скоро вам, буржуям, конец будет», – и отвернулась. Я не ожидал. Откуда у нее ко мне такая ненависть? За что? Обстановка – как в девяносто первом… По телевизору увидел: горит Белый дом, стреляют танки… Трассирующие пули в небе… Штурм телевизионного центра «Останкино»… Генерал Макашов в черном берете кричал: «Больше не будет ни мэров, ни сэров, ни херов». И ненависть… ненависть… Запахло гражданской войной. Кровью. Из Белого дома генерал Руцкой откровенно призывал к войне: «Летчики! Братья! Поднимайте самолеты! Бомбите Кремль! Там банда!». Как-то мгновенно город наполнился военной техникой. Непонятными людьми в камуфляжной форме. И тогда Егор Гайдар обратился к «москвичам, всем россиянам, которым дороги демократия и свобода»… Все как в девяносто первом… Мы пришли… я пришел… Там были тысячи людей… Помню, что я куда-то бежал вместе со всеми. Споткнулся. Упал на плакат «За Россию – без буржуев!». Сразу представил себе, что нас ждет, если генерал Макашов победит… Увидел раненого молодого парня, он не мог идти, потащил его на себе. «Ты за кого, – спросил он, – за Ельцина или за Макашова?» Он был за Макашова… Значит, враги. «Да пошел ты!» – послал его матом. А что еще? Быстро мы разделились опять на «белых» и «красных». Возле «скорой» лежали десятки раненых… У всех у них, это почему-то мне четко запомнилось, были стоптанные ботинки, все это были простые люди. Бедные люди. У меня там кто-то еще раз спросил: «Кого ты притащил – он наш или не наш?» «Не наших» брали в последнюю очередь, они лежали на асфальте и истекали кровью… «Вы что? Сумасшедшие!» – «Так это же наши враги?» Что-то произошло за эти два дня с людьми… вообще, что-то в воздухе поменялось. Рядом со мной были совсем другие люди, мало похожие на тех, с кем я стоял у Белого дома два года назад. В руках заточки из арматуры… настоящие автоматы, их раздавали с грузовика… Война! Все серьезно. Возле телефонной будки складывали убитых… И тут стоптанные ботинки… А недалеко от Белого дома – работали кафе, там, как обычно, пили пиво. Зеваки висели на балконах и наблюдали за происходящим, как в театре. И тут же… На моих глазах из Белого дома двое мужчин выносили на руках телевизор, из карманов курток торчали телефонные трубки… Мародеров кто-то весело отстреливал сверху. Наверное, снайперы. Или в человека попадут, или в телевизор… На улицах все время слышались выстрелы… (Замолкает.) Когда все кончилось и я вернулся домой, узнал: убили сына нашей соседки. Парню двадцать лет. Он был по другую сторону баррикад… Одно дело, когда мы спорили с ними на кухне, а другое – стрелять… Как это получилось? Я этого не хотел… Потому что в толпе… Толпа – это чудовище, человек в толпе это совсем не тот человек, с которым ты сидел на кухне и разговаривал. Пил водку, пил чай. Я уже больше никуда не пойду и сыновей не пущу… (Молчит.) Я не знаю, что это было: мы защищали свободу или участвовали в военном перевороте? Сейчас у меня сомнения… Сотни людей погибли… Их никто не вспоминает, кроме родных. «Горе строящему на крови…» (Молчит.) А если бы победил генерал Макашов? Крови было бы еще больше. Россия обрушилась бы. Ответов у меня нет… Я верил Ельцину до девяносто третьего года…
Тогда мои сыновья были маленькие, но они уже давно выросли. Один даже женат. Я несколько раз… да… делал попытки… Хотел им рассказать о девяносто первом… о девяносто третьем… Им это уже неинтересно. Пустые глаза. У них только один вопрос: «Папа, почему ты не разбогател в девяностые, когда это было легко?». Мол, только безрукие и глупые не разбогатели. Дебильные предки… кухонные импотенты… Бегали по митингам. Нюхали воздух свободы, когда умные люди нефть и газ делили…
– Русский человек – он увлекающийся. Когда-то он был увлечен идеями коммунизма, яростно, с религиозным фанатизмом воплощал их в жизнь, потом устал, разочаровался. И решил отречься от старого мира, отряхнув его прах со своих ног. Так это по-русски – начинать с разбитого корыта. И снова нас дурманят новые, как нам кажется, идеи. Вперед – к победе капитализма! Скоро будем жить как на Западе! Розовые мечтания…
– Жить стало лучше.
– Но некоторым в тысячу раз стало лучше.
– Мне пятьдесят лет… Я стараюсь быть не совком. Это у меня плохо получается. Работаю у частного предпринимателя и ненавижу его. Не согласна с дележкой жирного пирога – СССР, с «прихватизацией». Не люблю богатых. Кичатся по телевизору своими дворцами, винными погребами… Пусть хоть в золотых ваннах, наполненных грудным молоком, купаются. Мне это зачем показывать? Я не умею рядом с ними жить. Обидно. Стыдно. И я уже не изменюсь. Я слишком долго жила при социализме. Сегодня жить стало лучше, но противнее.
– Удивляюсь, как много еще страдальцев по советской власти.
– А чего дискутировать с совками? Надо подождать, пока они перемрут, и сделать все по-своему. Первым делом выбросить мумию Ленина из мавзолея. Что за азиатчина! Мумия лежит, как проклятие над нами… Порча…
– Спокойно, товарищ. Вы знаете, сейчас намного лучше говорят об СССР, чем двадцать лет назад. Я недавно была на могиле Сталина, там горы цветов. Красных гвоздик.
– Убили черт знает сколько людей, но у нас была великая эпоха.
– Мне не нравится то, что сейчас, я не в восторге. Но и в «совок» не хочу. Не рвусь в прошлое. К сожалению, хорошего ничего не могу вспомнить.
– А я хочу назад. Мне не нужна советская колбаса, мне нужна страна, в которой человек был человеком. Раньше говорили «простые люди», а сейчас «простонародье». Чувствуете разницу?
– Я вырос в диссидентской семье… На диссидентской кухне… Мои родители были знакомы с Сахаровым, распространяли самиздат. Вместе с ними я прочитал Василия Гроссмана, Евгению Гинзбург, Довлатова… Слушал «Свободу». И в девяносто первом я, конечно, стоял в цепи вокруг Белого дома, готов был пожертвовать жизнью, чтобы не вернулся коммунизм. Среди моих друзей не было коммунистов. Коммунизм у нас был связан с террором, с ГУЛАГом. С клеткой. Мы думали, что он мертв. Навсегда мертв. Прошло двадцать лет… Захожу в комнату сына – и вижу: у него на столе лежит «Капитал» Маркса, на книжной полке – «Моя жизнь» Троцкого… Не верю своим глазам! Маркс возвращается? Это что – кошмар? Сон или явь? Сын учится в университете, у него много друзей, я стал прислушиваться к их разговорам. Пьют чай на кухне и спорят о «Манифесте коммунистической партии»… Марксизм снова в законе, в тренде, в бренде. Они носят футболки с портретами Че Гевары и Ленина. (В отчаянии.) Ничего не проросло. Все было напрасно.
– Для разрядки вот вам анекдот… Революция. В одном углу церкви пьют, гуляют красноармейцы, а в другом – их кони жуют овес и мочатся. Дьячок бежит к настоятелю: «Батюшка, что они творят в святом храме?» – «Это не страшно. Постоят и уйдут. Страшно будет, когда их внуки вырастут». Вот они выросли…
– У нас один выход – вернуться к социализму, но только к православному социализму. Россия не может жить без Христа. У русского человека счастье никогда не было связано с большими деньгами. Этим и отличается «русская идея» от «американской мечты».
– России нужна не демократия, а монархия. Сильный и справедливый царь. И первым законным претендентом на престол является Глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна, а затем – ее потомки.
– Березовский принца Гарри предлагал…
– Монархия – бред! Дряхлая старина!
– Неверующее сердце слабо и неосновательно перед грехом. Русский народ обновится исканием правды Божией.
– Перестройка мне нравилась только тогда, когда она начиналась. Если бы кто-нибудь нам сказал тогда, что президентом страны станет подполковник КГБ…
– Мы были не готовы к свободе…
– Свобода, равенство, братство… Кровищи эти слова пролили – океан.
– Демократия! – смешное слово в России. Путин-демократ – самый короткий анекдот.
– За эти двадцать лет мы много чего про себя узнали. Открыли. Узнали о том, что Сталин – наш тайный герой. Вышли десятки книг и фильмов о Сталине. Люди читают, смотрят. Спорят. Полстраны мечтает о Сталине… Если полстраны мечтает о Сталине, то он обязательно появится, можете не сомневаться. Вытащили из ада всех зловещих мертвецов: Берию, Ежова… О Берии стали писать, что он был талантливый администратор, хотят реабилитировать, потому что под его руководством создали русскую атомную бомбу…
– Долой чекистов!
– Кто следующий – новый Горбачев или новый Сталин? Или свастика начнется? «Зиг Хайль!» Россия поднялась с колен. Опасный момент, потому что Россию нельзя было так долго унижать.
– Путинские нулевые… Какие они? Тучные… серые… брутальные… чекистские… гламурные… стабильные… державные… православные…
– Россия всегда была, есть и будет империей. Мы не просто большая страна, мы отдельная русская цивилизация. У нас свой путь.
– Запад и сейчас боится России…
– Вот наши природные богатства нужны всем, и особенно – Европе. Откройте энциклопедию: по запасам нефти седьмое, а газа – у нас первое место в Европе. Одно из первых мест по запасам железной руды, уранового сырья, олова, меди, никеля, кобальта… И алмаза, и золота, и серебра, и платины… Владеем всей таблицей Менделеева. Мне один француз так и заявил: а почему это все вам принадлежит, земля же общая?
– Все-таки я империалист, да. Я хочу жить в империи. Путин – мой президент! Либералом теперь стыдно называться, как недавно стыдно было называться коммунистом. Мужики возле пивного ларька могут и морду набить.
– Ненавижу Ельцина! Мы ему верили, а он повел нас совсем в неизвестном направлении. Ни в какой демократический рай мы не попали. А попали туда, где еще страшнее, чем было.
– Дело не в Ельцине и не в Путине, а в том, что мы – рабы. Рабская душонка! Рабская кровь! Посмотришь на «нового русского»… Он из «бентли» вылезает, у него деньги из карманов сыплются, а он раб. Наверху сидит пахан: «Пошли все в стойло!». И все пойдут.
– Я слышал по телевизору… «У тебя есть миллиард? – спросил господин Полонский. – Нет?! Тогда пошел ты в жопу!» Я из тех, кого господин олигарх послал в жопу. Обычная семья: отец спился, мать в детском садике за копейки вкалывает. Мы для них говно, навоз. Я хожу на разные тусовки. К патриотам, националистам… Слушаю. Придет время, и кто-нибудь обязательно даст мне в руки винтовку. И я возьму.
– Капитализм у нас не приживается. Чужд нам дух капитализма. Дальше Москвы он не распространился. Климат не тот. И человек не тот. Русский человек не рациональный, не меркантильный, может рубашку последнюю отдать, но иногда украдет. Он стихийный и больше созерцатель, чем деятель, способен довольствоваться малым. Накопительство не его идеал, ему скучно копить. В нем очень обострено чувство справедливости. Народ – большевик. А еще русский человек не хочет просто жить, он хочет жить для чего-то. Он хочет участвовать в великом деле. У нас скорее найдешь святого, чем честного и успешного. Читайте русскую классику…
– Почему, когда наши люди уезжают за границу, они там нормально вписываются в капиталистическую жизнь? А дома все любят поговорить о «суверенной демократии», об отдельной русской цивилизации и о том, что «в русской жизни нет основы для капитализма».
– У нас капитализм неправильный…
– Оставьте надежды на другой капитализм…
– В России капитализм как бы есть, а капиталистов нет. Нет новых Демидовых, Морозовых… Русские олигархи – это не капиталисты, а просто воры. Ну какие могут быть капиталисты из бывших коммунистов и комсомольцев? Мне Ходорковского не жалко. Пусть сидит на нарах. Жалко только, что он один там сидит. Должен же кто-то ответить за то, что я пережил в девяностые. Обобрали до нитки. Сделали безработным. Капиталистические революционеры: Гайдар, железный Винни-Пух… рыжий Чубайс… Ставили эксперименты на живых людях, как естествоиспытатели…
– Ездил в деревню к матери. Соседи рассказали, как кто-то поджег ночью усадьбу фермера. Люди спаслись, сгорели животные. Деревня пила на радостях два дня. А вы говорите: капитализм… У нас при капитализме живут социалистические люди…
– При социализме мне обещали, что места под солнцем хватит всем. Теперь говорят другое: жить надо по законам Дарвина, тогда у нас будет изобилие. Изобилие для сильных. А я – из слабых. Я – не борец… У меня была схема, я привыкла жить по схеме: школа, институт, семья. Копим с мужем на кооперативную квартиру, после квартиры – на машину… Схему сломали. Нас бросили в капитализм… По образованию я инженер, работала в проектном институте, его еще называли «женский институт», потому что там были одни женщины. Сидишь и складываешь целый день бумажки, я любила, чтобы аккуратно, стопочкой. Так бы и просидела всю жизнь. А тут начались сокращения… Не трогали мужчин, их было мало, и матерей-одиночек, и тех, кому до пенсии остался год или два. Вывесили списки, я увидела свою фамилию… Как жить дальше? Растерялась. Меня жить по Дарвину не учили.
Долгое время надеялась, что найду работу по специальности. Я была идеалистка в том смысле, что не знала своего места в жизни, свою цену. Мне до сих пор не хватает девочек из моего отдела, именно девчонок, нашего трепа. Работа у нас была на втором плане, а на первом – общение, этот задушевный треп. Раза три за день мы пили чай, ну и каждая рассказывала о своем. Отмечали все праздники, все дни рождения… А сейчас… Хожу на биржу труда. Безрезультатно. Требуются маляры, штукатуры… Моя подруга, мы вместе в институте учились, она убирает дом у одной бизнесвумен, собаку выводит… Прислуга. Первое время плакала от унижения, а сейчас привыкла. А я не могу.
– Голосуй за коммунистов – это круто.
– Все-таки нормальному человеку сталинистов не понять. Сто лет России коту под хвост, а они: слава советским людоедам!
– Русские коммунисты уже давно не коммунисты. Частная собственность, которую они признали, и коммунистическая идея несовместимы. Я могу сказать о них, как Маркс говорил о своих последователях: «Я знаю только одно, что я не марксист». А еще лучше выразился Гейне: «Я сеял драконов, а пожал блох».
– Коммунизм – будущее человечества. Альтернативы нет.
– На воротах Соловецкого лагеря висел большевистский лозунг: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Один из рецептов спасения человечества.
– Никакого желания идти на улицу и делать что-то. Лучше ничего не делать. Ни добра, ни зла. То, что сегодня – добро, завтра окажется – злом.
– Самые страшные люди – это идеалисты…
– Я люблю Родину, но жить тут не буду. Я не смогу тут быть такой счастливой, как я хочу.
– Может, я дура… Но я не хочу уезжать, хотя могу.
– И я не уеду. В России веселее жить. Этого драйва нет в Европе.
– Лучше любить нашу Родину издали…
– Сегодня стыдно быть русским…
– Наши родители жили в стране победителей, а мы в стране, проигравшей холодную войну. Гордиться нечем!
– Валить не собираюсь… У меня тут бизнес. Я могу точно сказать, что нормально жить в России можно, не надо только лезть в политику. Все эти митинги за свободу слова, против гомофобов – мне по барабану…
– Все говорят о революции… Вон Рублевка опустела… Богатые бегут, капиталы уводят за границу. Закрывают свои дворцы на ключ, полно объявлений: «Продаю…». Чувствуют, что народ решительно настроен. А никто ничего добровольно не отдаст. Тогда заговорят «калашниковы»…
– Одни орут «Россия – за Путина!», а другие – «Россия без Путина!».
– А что будет, когда нефть подешевеет или станет совсем не нужной?
– 7 мая 2012 года. По телевизору показывают: торжественный кортеж Путина едет в Кремль на инаугурацию по совершенно пустому городу. Ни людей, ни машин. Образцовая зачистка. Тысячи полицейских, военных и бойцов ОМОНа дежурят у выходов из метро и возле подъездов. Очищенная от москвичей и вечных московских пробок столица. Мертвый город.
Царь-то ненастоящий!
Сто двадцать лет назад Достоевский закончил «Братьев Карамазовых». Там он писал о вечных «русских мальчиках», которые всегда толкуют «о мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца».
Призрак революции опять гуляет по России. 10 декабря 2011 года – стотысячный митинг на Болотной площади. С тех пор протестные выступления не прекращаются. О чем же толкуют «русские мальчики» сегодня? Что выберут на этот раз?
– Я хожу на митинги, потому что хватит держать нас за лохов. Верните выборы, гады! Первый раз на Болотной площади собралось сто тысяч, никто не ожидал, что придет столько людей. Терпели, терпели, и в какой-то момент ложь и беспредел зашкалили: все – хватит! Все смотрят выпуски новостей или читают новости в интернете. Говорят о политике. Быть в оппозиции стало модно. Но я боюсь… Я боюсь, что мы все трепачи… Постоим на площади, покричим и вернемся к своим компам и будем сидеть в интернете. Останется только одно: «Как мы славно потусили!». Уже я с этим столкнулся: надо было к очередному митингу нарисовать плакаты, разнести листовки – все быстро рассосались…
– Я раньше была далека от политики. Мне хватало работы и семьи, я считала, что по улицам ходить бесполезно. Меня больше привлекала теория малых дел: я работала в хосписе, летом, когда горели леса под Москвой, возила продукты и вещи погорельцам. Разный опыт был… А мама все время сидела у телевизора. И ее, видно, достало это вранье и ворье с чекистским прошлым, она все мне пересказывала. Мы пошли на первый митинг вместе, а маме моей семьдесят пять лет. Она – актриса. Купили на всякий случай цветы. Не будут же стрелять в людей с цветами!
– Я родился уже не в СССР. Если мне что-то не нравится, я выхожу на улицу и протестую. А не болтаю об этом на кухне перед сном.
– Я боюсь революции… Знаю: будет русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но отсиживаться дома уже стыдно. Мне не нужен «новый СССР», «обновленный СССР», «истинный СССР». Со мной нельзя так, что мы, мол, тут сели вдвоем и решили: сегодня – он президент, а завтра – я. Пипл схавает. Мы – не быдло, мы – народ. На митингах я вижу тех, кого никогда раньше там не видел: закаленные в борьбе шестидесятники-семидесятники и много студентов, а недавно им было наплевать на то, что там, в зомбоящике, нам втюхивают… И дамы в норковых шубках, и молодые ребята, которые приехали на митинг на «мерседесах». Недавно их увлекали деньги, вещи, комфорт, но оказалось, что этого мало. Им этого уже не хватает. Как и мне. Идут не голодные, а сытые. Плакаты… народное творчество… «Путин, уйди сам!», «Я не голосовал за этих сволочей, я голосовал за других сволочей!». Мне понравился плакат «Вы нас даже не представляете». Мы не собирались штурмом брать Кремль, мы хотели сказать, кто мы. Уходили и скандировали: «Мы еще вернемся».
– Я – человек советский, я всего боюсь. Еще десять лет назад я ни за что бы не вышла на площадь. А сейчас ни одного митинга не пропускаю. Была на проспекте Сахарова и на Новом Арбате. И на Белом кольце. Учусь быть свободной. Я не хочу умереть такой, какая я сейчас – советской. Вычерпываю из себя свою советскость ведрами…
– Я хожу на митинги, потому что туда ходит мой муж…
– Я – человек немолодой. Хочу еще пожить в России без Путина.
– Достали евреи, чекисты, гомосексуалисты…
– Я – левый. Я убежден: мирным путем ничего нельзя добиться. Я жажду крови! Без крови у нас большие дела не делаются. Зачем мы выходим? Я стою и жду, когда мы пойдем на Кремль. Это уже не игры. Кремль давно надо было брать, а не ходить и орать. Дайте команду взять вилы и ломик! Я жду.
– Я вместе с друзьями… Мне семнадцать лет. Что я знаю о Путине? Я знаю, что он дзюдоист, получил восьмой дан по дзюдо. И, кажется, это все, что я о нем знаю…
– Я не Че Гевара, я трусиха, но я ни одного митинга не пропустила. Хочу жить в стране, за которую мне не стыдно.
– У меня характер такой, что я должна быть на баррикадах. Меня так воспитали. Мой отец добровольцем поехал на ликвидацию последствий землетрясения в Спитаке. Из-за этого рано умер. Инфаркт. С детства я живу не с папой, а с фотографией папы. Идти или не идти – каждый сам должен решить. Мой отец сам поехал… а мог не ехать… Подруга тоже хотела пойти со мной на Болотную площадь, потом позвонила: «Понимаешь, у меня маленький ребенок». А у меня старенькая мама. Я ухожу, она сосет валидол. Но я все равно иду…
– Хочу, чтобы дети мною гордились…
– Мне это нужно для самоуважения…
– Надо попытаться что-то сделать…
– Я верю в революцию… Революция – это долгая и упорная работа. В 1905 году первая русская революция закончилась провалом и разгромом. А через двенадцать лет – в 1917 году рвануло так, что разнесло царский режим вдребезги. Будет и у нас своя революция!
– Я иду на митинг, а ты?
– Я лично устал от девяносто первого… от девяносто третьего… Не хочу больше революций! Во-первых, революции редко бывают бархатными, а во-вторых, у меня есть опыт: даже если мы победим, будет как в девяносто первом. Эйфория быстро кончится. Поле боя достанется мародерам. Придут гусинские, березовские, абрамовичи…
– Я против антипутинских митингов. Движуха в основном в столице. Москва и Петербург за оппозицию, а провинция за Путина. Мы что, плохо живем? Разве мы живем не лучше, чем раньше? Страшно это потерять. Все помнят, как настрадались в девяностые. Никому неохота опять сломать все нахер и кровью залить.
– Я не фанат путинского режима. Надоел «царек», хотим сменяемых руководителей. Перемены, конечно, нужны, но не революция. И когда швыряют асфальтом в полицию, мне тоже не нравится…
– Все проплатил Госдеп. Западные кукловоды. Один раз по их рецептам мы сделали перестройку, и что из этого вышло? Нас погрузили в такую яму! Я хожу не на эти митинги, а на митинги за Путина! За сильную Россию!
– За последние двадцать лет картинка несколько раз полностью менялась. А результат? «Путин, уходи! Путин, уходи!» – очередная мантра. Я не хожу на эти спектакли. Ну уйдет Путин. И сядет на трон новый самодержец. Как воровали, так и будут воровать. Останутся заплеванные подъезды, брошенные старики, циничные чиновники и наглые гаишники… и дать взятку будет считаться нормальным… Какой смысл менять правительство, если мы сами не меняемся? Ни в какую демократию у нас я не верю. Восточная страна… Феодализм… Попы вместо интеллектуалов…
– Не люблю толпу… Стадо… Толпа никогда ничего не решает, решают личности. Власть постаралась, чтобы наверху не было ярких личностей. У оппозиции нет ни Сахарова, ни Ельцина. Не родила «снежная» революция своих героев. Где программа? Что делать собираются? Походят, покричат… И тот же Немцов… Навальный… пишут в твиттере, что поехали на каникулы на Мальдивы или в Таиланд. Любуются Парижем. Представьте себе, что Ленин в семнадцатом году поехал после очередной демонстрации в Италию или покататься на лыжах в Альпах…
– Я не хожу на митинги и не хожу голосовать. Я не питаю иллюзий…
– А вы в курсе, что кроме вас есть еще Россия? До Сахалина… Так вот, она не желает никаких революций – ни «оранжевой», ни «розовой», ни «снежной». Хватит революций! Оставьте Родину в покое!
– Мне плевать на то, что будет завтра…
– Я не хочу идти в одной колонне с коммунистами и националистами… с нациками… Вы бы пошли на марш с Ку-клукс-кланом в балахонах и с крестами? Какую бы замечательную цель этот марш не имел. Мы о разной России мечтаем.
– Не хожу… Боюсь, что дадут дубинкой по голове…
– Надо молиться, а не на митинги ходить. Господь послал нам Путина…
– Мне не нравятся революционные флаги за окном. Я за эволюцию… за строительство…
– Не хожу… И не буду оправдываться, что не хожу на политические шоу. Дешевые понты – эти митинги. Надо самому жить, как учил Солженицын, не по лжи. Без этого мы ни на миллиметр не продвинемся. Будем ходить по кругу.
– Люблю Родину и так…
– Я выключил государство из зоны своих интересов. Мои приоритеты – семья, друзья и мой бизнес. Понятно объяснил?
– А ты не враг народа, гражданин?
– Что-то обязательно произойдет. И скоро. Пока еще не революция, но запах озона ощущается. Все ждут: кто, где, когда?
– Я только жить нормально начал. Дайте пожить!
– Спит Россия. Не мечтайте.
О Ромео и Джульетте… только звали их Маргарита и Абульфаз
Маргарита К. – армянская беженка, 41 год
– Ой! Я не об этом… Не об этом хочу… Я знаю другое…
Я до сих пор сплю, закинув руки за голову, привычка тех лет, когда было счастье. Я так любила жить! Я – армянка, но родилась и выросла в Баку. На берегу моря. Море… мое море! Я уехала, но я люблю море, люди и все остальное меня разочаровали, я люблю только море. Мне оно часто снится – серое, черное, фиолетовое. И молнии! Молнии пляшут вместе с волнами. Любила смотреть вдаль, смотреть, как вечером садится солнце, оно к вечеру такое красное, что, кажется, шипит, опускаясь в воду. Камни, нагретые за день, теплые камни, будто живые. Я любила смотреть на море утром и днем, вечером и ночью. Ночью появлялись летучие мыши, и я их очень пугалась. Пели цикады. Полное небо звезд… нигде нет столько звезд… Баку – мой самый любимый город… Самый любимый, несмотря ни на что! Во сне я часто гуляю по Губернаторскому саду и Нагорному парку… поднимаюсь на крепостную стену… И отовсюду видно море – корабли и нефтяные вышки… С мамой мы любили заходить в чайхану и пить красный чай. (На глазах слезы.) Мама – в Америке. Плачет и скучает. Я – в Москве…
В Баку мы жили в большом доме… Был большой двор, во дворе шелковица росла, желтая шелковица. Вкусная! Жили все вместе, одной семьей – азербайджанцы, русские, армяне, украинцы, татары… Тетя Клара, тетя Сара… Абдулла, Рубен… Самая красивая – Сильва, она работала стюардессой на международных линиях, летала в Стамбул, ее муж Эльмир был таксистом. Она – армянка, он – азербайджанец, но никто над этим не задумывался, таких разговоров я не помню. Мир делился по-другому: хороший человек или плохой, жадный или добрый. Сосед и гость. Из одной деревни… города… У всех одна национальность – все советские, все знали русский язык.
Самый красивый, самый любимый праздник у всех – Навруз. Навруз Байрам – день прихода весны. Ждали праздник весь год, праздновали семь дней. Семь дней не запирались ворота и двери… днем и ночью никаких замков и ключей… Жгли костры… Костры горели на крышах и во дворах. Весь город в кострах! В огонь бросали душистую руту и просили о счастье, приговаривали: «Сарылыгин сене, гырмызылыгин мене» – «Все мои невзгоды – тебе, а мою радость мне». «Гырмызылыгин мене…» Любой зайдет к любому – везде примут как гостя, угостят молочным пловом и красным чаем с корицей или кардамоном. А на седьмой день, главный день праздника, все собирались вместе… за одним столом… Каждый выносил во двор свой стол, и составляли один длинный-длинный стол. На этом столе: грузинские хинкали, армянские бораки и бастурма, русские блины, татарский эчпочмак, украинские вареники, мясо с каштанами по-азербайджански… Тетя Клава приносила свою фирменную селедку под шубой, а тетя Сара фаршированную рыбу. Пили вино, армянский коньяк. Азербайджанский. Пели армянские и азербайджанские песни. И русскую «Катюшу»: «Расцветали яблони и груши… Поплыли туманы над рекой…». Наконец время сладостей: пахлава, шекер-чурек… Для меня до сих пор вкуснее их ничего нет! Лучше всех сладости получались у моей мамы. «Что у тебя за руки, Кнарик! Какое легкое тесто!» – Всегда ее похвалят соседки.
Мама дружила с Зейнаб, а у Зейнаб было две девочки и сын Анар, с которым мы учились в одном классе. «Отдашь дочь за моего Анара, – смеялась Зейнаб, – станем родственниками». (Уговаривает себя.) Плакать не буду… Плакать не надо… Начнутся армянские погромы… И тетя Зейнаб, добрая наша тетя Зейнаб, вместе со своим Анаром… мы убежали, прятались у добрых людей… они вытащат ночью из нашего дома холодильник и телевизор… газовую плиту и новенькую югославскую стенку… А один раз Анар встретит со своими друзьями моего мужа, и они будут бить его железными прутьями: «Какой ты азербайджанец? Ты – предатель! Ты живешь с армянкой – нашим врагом!». Меня увела к себе подруга, я жила у них на чердаке… Каждую ночь чердак открывали, кормили меня – и я снова уходила наверх, вход забивали гвоздями. Намертво забивали гвоздями. Найдут – убьют! Я вышла оттуда с седой челкой… (Совсем тихо.) Другим говорю: не надо обо мне плакать… А у самой слезы… Анар мне в школе нравился, он был красивый мальчик. Один раз мы с ним даже целовались… «Привет, королева!» – поджидал он меня у ворот школы. Привет, королева!
Я помню ту весну… конечно, она вспоминается, но теперь уже редко… не часто… Весна-а-а-а! Я окончила училище и устроилась связисткой на телеграфе. На Центральном телеграфе. Люди стоят у окошка: одна плачет – мать умерла, другая смеется – у нее свадьба. С днем рождения! С золотым юбилеем! Телеграммы, телеграммы. Вызываю Владивосток, Усть-Кут, Ашхабад… Работа веселая. Не скучная. А любовь ждешь… в восемнадцать лет всегда ждешь любовь… Я думала, что любовь приходит только раз, и то, что это любовь, ты понимаешь сразу. А было смешно, получилось очень смешно. Мне не понравилось, как мы с ним познакомились. Утром я иду мимо охраны, все меня уже знали, никто пропуска не требовал: привет-привет – без вопросов. «Предъявите пропуск». Я остолбенела. Стоит передо мной высокий красивый парень и не пропускает. «Вы каждый день меня видите…» – «Предъявите пропуск». А я в этот день забыла пропуск, роюсь в сумке – у меня никаких документов. Вызвали моего начальника… я получила выговор… И так разозлилась на этого парня! А он… У меня была ночная смена, и он приходит с другом пить чай. Надо же! Приносят пирожки с повидлом, теперь уже нет таких пирожков, вкусные, но откусывать страшно – никогда не знаешь, с какой стороны вылезет повидло. Хохотали! Но я с ним не разговаривала, обижалась. Еще через несколько дней нашел меня после работы: «Я купил билеты в кино – пойдешь?». Билеты на мою любимую кинокомедию «Мимино» с Вахтангом Кикабидзе в главной роли, я смотрела ее десять раз, знала весь текст наизусть. Как оказалось, он тоже. Идем и перекликаемся, проверяем друг друга: «Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся». – «Как я эту корову продам, если ее тут все знают?» И… началась любовь… У его двоюродного брата были большие парники, он торговал цветами. На встречу Абульфаз всегда приходил с розами – красные и белые… Розы бывают даже сиреневые, как будто подкрашенные, а они – настоящие. Я мечтала… Я часто мечтала о любви, но я не знала, как может биться мое сердце, из груди рваться. На мокром пляже оставались наши письма… на песке… большими буквами: «Я тебя люблю!!!». Через десять метров еще раз: «Я тебя люблю!!!». Тогда по городу везде стояли железные автоматы с газированной водой, и в автомате один стакан на всех. Помоешь – и пьешь. Подходим – нет стакана, и второй автомат без стакана. Я хочу пить! Мы столько пели, орали, смеялись у моря – я хочу пить! С нами долго происходили волшебные вещи, невероятные, а потом перестали. Ой, я знаю это… Правда! «Абульфаз, я хочу пить! Придумай что-нибудь!» Он смотрит на меня и поднимает руки к небу, что-то долго-долго говорит-говорит. И откуда-то… из-за заросших травой заборов и закрытых лотков появляется пьяный человек и отдает стакан: «Кра-а-сы-вой дэвушке – не жалко».
А этот рассвет… Нигде ни души, только мы. И туман с моря. Я иду босиком, из-под асфальта туман ползет, как пар. Опять – чудо! Появляется вдруг – солнце! Свет… освещение… как в середине летнего дня… На мне мгновенно высыхает мое летнее платье, влажное от росы. «Ты такая красивая сейчас!» А ты… ты… (На глазах слезы.) Другим говорю: не надо плакать… А сама… Все вспоминается… вспоминается… Но каждый раз все меньше голосов, и снов все меньше. Я мечтала тогда… я летала! Только… Не было! Не было у нас хеппи-энда: белого платья, марша Мендельсона, свадебного путешествия… Скоро, очень скоро… (Останавливается.) Что-то хотела сказать… Что-то… Забываю самые обыкновенные слова… стала забывать… Я хотела сказать, что скоро, очень скоро… Меня прятали в подвалах, я жила на чердаках, я превратилась в кошку… в летучую мышь… Если бы вы могли понять… если бы могли… если бы вы знали, как страшно, когда ночью кто-то кричит. Одинокий крик. Закричит ночью одинокая птица, и всем жутко. А если это человек? Я жила с одной мыслью: я люблю… люблю и еще раз люблю. По-другому бы не смогла, не вынесла. Как же – такой ужас! С чердака спускалась только ночью… шторы толстые, как одеяло… Однажды чердак открыли утром: «Вылезай! Ты спасена!». В город вошли русские войска…
Думаю об этом… Я думаю об этом даже во сне – когда все началось? Восемьдесят восьмой год… На площади собираются какие-то люди, они все в черном, танцуют и поют. Танцуют с ножами и кинжалами. Здание телеграфа рядом с площадью, все на наших глазах. Облепим балкон – и смотрим. «Что они кричат?» – спрашиваю. «Смерть неверным! Смерть!» Это продолжалось долго, очень долго… много месяцев… Нас стали отгонять от окон: «Девочки, это опасно. Сидите на своих местах и не отвлекайтесь. Работайте». Во время обеда обычно пили чай вместе, и вдруг в один день: азербайджанки сели за один столик, армянки – за другой. Одномоментно, понимаете? А я никак не могла понять, никак. До меня еще ничего не доходило. У меня любовь… я занята своими чувствами… «Девочки! Что случилось?» – «Ты не слышала? Начальник сказал, что скоро у него будут работать только чистокровные мусульманки». Моя бабушка пережила армянский погром в пятнадцатом году. Я помню… Она мне в детстве рассказывала: «Когда я была такая маленькая, как ты, моего папу зарезали. И маму, и тетю. Всех наших овец… – Глаза у бабушки всегда были печальные. – Резали соседи… До этого нормальные люди, можно даже сказать, хорошие. За столом в праздники вместе сидели…». Я думала, что это было давно… разве это может быть сейчас? Спрашиваю у мамы: «Мама, ты видела – мальчики во дворе играют не в войну, а в резню армян? Кто их научил?» – «Молчи, дочь. Соседи услышат». Мама все время плакала. Сидела и плакала. Дети тягали по двору какое-то чучело и тыкали в него палками, детскими кинжальчиками. «Кто это?» – я позвала маленького Орхана, внука маминой подруги Зейнаб. «Это армянская старуха. Мы ее убиваем. Тетя Рита, а кто ты? Почему у тебя русское имя?» Имя мне мама придумала… Мама любила русские имена и всю жизнь мечтала увидеть Москву… Папа бросил нас, папа жил с другой женщиной, но все равно это был папа. Я отправилась к нему с новостью: «Папа, я выхожу замуж!» – «А хороший парень?» – «Очень. Но зовут его Абульфаз…» Папа молчит, он хочет мне счастья. А я полюбила мусульманина… у него другой Бог… Папа молчит. И вот… Абульфаз пришел к нам в дом: «Хочу просить твоей руки». – «А почему ты один, без сватов? Без родственников?» – «Они все против, а мне никто кроме тебя, не нужен». И мне… Мне тоже не нужен. Что делать нам с нашей любовью?
Вокруг творилось не то, что внутри… Не то… совсем не то… Ночью страшно и тихо в городе… Ну как же так, я не могу так. Ну что же такое – ужас! Днем люди не смеются, не шутят, перестали покупать цветы. Раньше обязательно кто-то идет по улице с цветами. Там целуются и тут целуются. А теперь… Те же люди идут… и не смотрят друг на друга… Что-то повисло над всем и над всеми… какое-то ожидание…
Сейчас уже не могу все точно вспомнить… Менялось изо дня в день… Теперь все знают про Сумгаит… от Баку до Сумгаита тридцать километров… Там был первый погром… У нас работала девочка из Сумгаита, и вот – все после смены домой, а она остается на телеграфе. Ночует в подсобке. Ходит заплаканная, на улицу даже не выглядывает, ни с кем не разговаривает. Спрашиваем – молчит. Но когда она заговорила… стала она говорить… Я хотела ее не слышать… Не слышать! Ничего не слышать! Ну что же такое! Ну что же такое – как же так! «Что с твоим домом?» – «Дом разграбили». – «А с твоими родителями?» – «Маму вывели во двор, раздели догола и – на костер! А сестру беременную заставили танцевать вокруг костра… А когда убили, железными прутьями выковыривали из нее ребенка…» – «Замолчи! Замолчи!» – «Папу порубили… топором… Родственники узнали его только по ботинкам…» – «Замолчи! Прошу тебя!» – «Собирались мужчины, молодые и старые, по двадцать-тридцать человек и врывались в дома, где жили армянские семьи. Убивали и насиловали – дочь при отце, жену при муже…» – «Замолчи! Лучше заплачь». А она не плакала… так ей было страшно… «Жгли автомобили. На кладбище валили плиты с армянскими фамилиями… мертвых ненавидели…» – «Замолчи! Разве такое может быть с людьми?!» Начали мы все ее бояться… А телевидение, радио и газеты… ни одного слова про Сумгаит… Только слухи… У меня потом спрашивали: «Как вы жили? Как вы жили после всего?». Пришла весна. Женщины надели легкие платья… Такой ужас – и так вокруг красиво! Понимаете? И море.
Я собираюсь замуж… Мама просит: «Доченька, подумай». Папа молчит. Идем с Абульфазом по улице, встречаем его сестер: «Почему ты сказала, что она уродина? Посмотри, какая хорошенькая девочка». – Это они так между собой перешептываются. Абульфаз! Абульфаз! Прошу: «Давай распишемся без свадьбы, свадьбу делать не будем». – «Ты – что? У нас считается, что жизнь человека состоит из трех дней: дня, когда ты родился, дня, когда ты женился, и дня, когда ты умрешь». Он не мог без свадьбы, без свадьбы счастья не будет. Его родители категорически против… категорически! не дали ему денег на свадьбу и даже не вернули тех денег, что он сам заработал. А все должно быть по обряду… по старым обычаям… Азербайджанские обычаи красивые, я их люблю… Первый раз в дом невесты приходят сваты, их только выслушивают, а на второй день они уже получают согласие или отказ. Тогда пьют вино. Купить белое платье и колечко – дело жениха, он приносит их в дом невесты обязательно утром… и чтобы был солнечный день… потому что счастье надо уговорить, а темные силы отвадить. Невеста принимает дар и благодарит жениха, при всех целует. На плечах у нее белый платок, знак чистоты. День Свадьбы… С обеих сторон на свадьбу приносят много подарков, гору подарков, их кладут на большие подносы, обвязанные красными лентами. Еще надувают сотни разноцветных шаров, они несколько дней летают над домом невесты, чем дольше они летают, тем лучше, значит, любовь сильная и взаимная.
Моя свадьба… наша… Все подарки от дома жениха и от дома невесты… покупала моя мама… И белое платье, и золотое колечко… За столом родные невесты должны перед первым тостом встать и расхваливать девушку, а родные жениха хвалят парня. За меня держал слово мой дедушка, он закончил и спрашивает Абульфаза: «А кто за тебя нам слово замолвит?» – «Я сам за себя скажу. Я люблю вашу дочь. Люблю больше жизни». Так он это сказал, что всем понравился. Сыпали нам на порог мелкие монеты, рис – для счастья и богатства. И там… Есть один момент… Есть во время свадьбы такой момент, когда родные с одной стороны должны встать и поклониться родным с другой стороны, а те – тоже. Абульфаз встал один… как безродный… «Я рожу тебе ребеночка, ты не будешь один», – подумала я. Клятвенно. А он знал, я давно ему призналась, что в юности тяжело болела и врачи вынесли приговор: рожать мне нельзя. Он и на это был согласен, только бы нам быть вместе. Но я… Я решила – рожу. Пусть даже сама умру, но ребеночек-то останется.
Мой Баку…
…море… море… море…
…солнце… солнце… солнце… Не мой Баку…
…Дверей в подъезде нет, большие дыры от дверей завешены кусками целлофана…
…Мужчины или подростки… от ужаса не запомнила… бьют – убивают кольями (где они их нашли в городе?) женщину… она лежит на земле без звука. Люди увидят – сворачивают на другую улицу. Где милиция? Милиция исчезла… днями я не видела ни одного милиционера… Абульфаза дома тошнит. Он добрый, очень добрый. Но откуда взялись те… там, на улице? Навстречу нам бежал человек весь в крови… пальто, руки в крови… в руках длинный кухонный нож, которым зелень режут… У него было торжественное… может, даже счастливое лицо… «Я его знаю», – сказала знакомая девочка, с которой мы стояли на остановке и ждали автобуса.
…Что-то во мне тогда исчезло… чего-то во мне больше нет…
…Мама уволилась с работы… Уже опасно было ходить по улицам, ее узнавали сразу. А меня нет. При одном условии – никаких документов с собой не брать. Никаких! Абульфаз встречал меня после работы, мы шли вместе, никто не подозревал, что я – армянка. Но любой мог подойти и потребовать: «Покажи паспорт!». «Прячьтесь. Уходите», – предупредили соседи, русские бабушки. Молодые русские уехали, бросили квартиры, хорошую мебель. Остались бабушки… добрые русские бабушки…
…А я уже беременная… Я ношу под сердцем ребенка…
Резня в Баку продолжалась несколько недель… одни говорят так, а другие говорят, что больше… Убивали не только армян, убивали и тех, кто прятал армян. Меня прятала моя азербайджанская подруга, у нее семья – муж и двое детей. Когда-нибудь… Клянусь! Я приеду в Баку, приеду со своей дочкой и приду в этот дом: «Это – твоя вторая мать, доченька». Шторы толстые… как пальто… такие шторы… это специально пошили, из-за меня. Ночью я спускалась с чердака… на час-два… Говорили шепотом, со мной надо было разговаривать. Все понимали: со мной надо говорить, чтобы я не онемела, не сошла с ума. Не потеряла ребенка и не завыла ночью. Как зверь.
Я помню наши разговоры, хорошо помню. Весь день сидела на чердаке и перебирала их в памяти. Я – одна… Полоска неба узенькая… через щель…
«…Остановили на улице старого Лазаря и стали бить… “Я – еврей”, – доказывал он. Пока нашли паспорт, искалечили…»
«…Убивают за деньги и просто так… Особенно ищут дома, где живут богатые армяне…»
«…В одном доме убили всех… А самая маленькая девочка залезла на дерево… Они ее, как птичку… Ночью плохо видно, долго не попадали. Злились… целились. Упала им под ноги…»
Муж подруги был художник. Я любила его картины, он рисовал женские портреты и натюрморты. И я помню, как он подходил к книжным полкам и стучал по корешкам: «Надо все сжечь! Сжечь! Я больше книгам не верю! Мы думали, что добро победит – ничего подобного! Спорили о Достоевском… Да, эти герои всегда тут! Среди нас. Рядом!». Я не понимала, о чем он говорит, я – девочка простая, обыкновенная. В университете не училась. Умела только плакать… вытирать слезы… Я долго верила, что живу в самой лучшей стране, среди самых лучших людей. Так нас в школе учили. А он переживал страшно, переживал это очень тяжело. И у него случился инсульт, его парализовало… (Остановилась.) Помолчу… Что-то дрожу вся… (Через несколько минут продолжает.) Вошли в город русские войска. Я могла уже вернуться домой… Он лежал, только одной рукой мог немного шевелить. И он меня обнял этой рукой. «Всю ночь я думал о тебе, Рита, и о своей жизни. Много лет… Всю жизнь я боролся с коммунистами. А теперь у меня сомнения: пусть бы нами правили эти старые мумии, цепляли друг другу очередные Звезды Героев, а мы не ездили бы за границу, не читали запрещенные книги и не ели пиццу – пищу богов. Но та маленькая девочка… она осталась бы жива, никто бы ее не подстрелил… Как птичку… И ты не сидела бы на чердаке, как мышь…» Скоро он умер… через короткое время… Тогда многие умирали, умирали хорошие люди. Не могли все это перенести.
На улицах везде русские солдаты. Военная техника. Русские солдаты… они же были мальчики… в обморок падали от того, что увидели…
У меня восьмой месяц беременности… Скоро рожать. Ночью мне плохо, звоним в «скорую помощь» – там услышат армянскую фамилию и кладут трубку. В роддом тоже не взяли, ни по месту жительства… нигде… Открывают паспорт и сразу – мест нет. Мест нет! Никуда и никак, никак. Мама нашла старую акушерку, русскую женщину, которая когда-то у нее роды принимала… давным-давно… Нашла она ее где-то в поселке на окраине города. Звали ее Анна… отчество не помню. Раз в неделю она приходила к нам домой, наблюдала за мной и говорила, что роды будут тяжелые. Схватки начались ночью… Абульфаз побежал ловить такси, дозвониться не смог. Таксист приехал и увидел меня: «Что – армянка?» – «Она – моя жена». – «Нет, я не поеду». Муж заплакал. Достал кошелек и показывает деньги, всю свою зарплату: «На… Я тебе все отдам… Спаси мне жену и ребенка». Мы поехали… поехали все… И мама с нами тоже. Поехали в поселок, где жила Анна, в больницу, где она работала на полставки. Подрабатывала к пенсии. Она уже ждала нас, и меня сразу положили на стол. Рожала я долго… семь часов… Рожали мы вдвоем: я и азербайджанка, там была одна подушка, и эту подушку отдали ей, я очень низко головой лежала. Неудобно, больно… Мама стояла у дверей. Ее гнали, она не уходила. А вдруг украдут ребенка… а вдруг? Все могло быть… все тогда могло быть… Родила я девочку… Принесли мне ее один раз, показали и больше не несут. Другим матерям (азербайджанкам) дают детей кормить, а мне – нет. Ждала я два дня. А потом… по стеночке… держась за стеночку… доползла до комнаты, где лежали дети. Ни одного ребенка нет, только моя девочка лежит, а двери и окна – настежь. Потрогала я ее, она горит, вся горячая. Как раз пришла моя мама… «Мама, забираем ребенка и уходим. Ребенок уже больной».
Дочка долго болела. Лечил ее старый врач, он был давно на пенсии. Еврей. Но он ходил и помогал армянским семьям. «Армян убивают за то, что они армяне, как когда-то убивали евреев за то, что они евреи», – говорил он. Был очень-очень старый. Дочке дали имя Ира… Иринка… Решили: пусть будет русское имя, оно защищает. Абульфаз первый раз взял ребенка на руки и заплакал. Рыдал… От счастья… оно тоже тогда было – счастье… Наше счастье! В это время заболела его мама… Он стал часто уходить к своим родственникам. Возвращался от них… я не найду слов… каким он возвращался. Возвращался к нам чужим, с незнакомым лицом. Я, конечно, пугалась. В городе уже было полно беженцев, это те азербайджанские семьи, которые бежали из Армении. Убежали они с пустыми руками, без вещей, бежали точно так же, как армяне из Баку. И рассказывали все то же самое. Ой! ой, все то же самое. Про Ходжалу, где был азербайджанский погром… Как там армяне убивали азербайджанцев – выбрасывали женщин из окон… отрезали головы… мочились на мертвых… Мне ни один фильм ужасов теперь не страшен! Я столько всего видела и слышала… столько всего! Я не спала ночами, думала-передумала – надо уезжать. Уезжать надо! Ну так же нельзя, я не могу так. Бежать… бежать, чтобы забыть… А если бы стерпела – умерла… я знаю, что умерла бы…
Первой уехала мама… Следом – папа со своей второй семьей. За ними – мы с дочкой. Уезжали по подложным документам… с паспортами на азербайджанские фамилии… Три месяца не могли купить билеты. Такие были очереди! А зашли в самолет – ящиков с фруктами и картонных коробок с цветами там было больше, чем пассажиров. Бизнес! Бизнес процветал. Впереди нас сидели молодые азербайджанцы, они всю дорогу пили вино и говорили, что уезжают, потому что не хотят убивать. Не хотят идти на войну и умирать. Девяносто первый год… Вовсю шла война в Нагорном Карабахе… Эти ребята откровенно признавались: «Мы не хотим ложиться под танк. Мы не готовы». В Москве нас встретил двоюродный брат… «А где Абульфаз?» – «Прилетит через месяц». Собрались вечером родственники… Все меня просили: «Ты говори, говори – не бойся. Те, кто молчат, начинают болеть». Через месяц я начала разговаривать, а думала, что уже не буду. Замолчу – и все.
Я ждала… и ждала… и ждала… Абульфаз приехал к нам не через месяц… и не через полгода, а через семь лет. Через семь лет… Семь… А-а-а-а… Если бы не дочь… я не выжила бы… Дочь меня спасла. Ради нее я держалась изо всех сил. Чтобы выжить, надо хотя бы тоненькую ниточку найти… Чтобы выжить… и ждать… Просто утро… еще одно утро… Он вошел в квартиру, обнял нас с дочкой. Стоит. Он стоит… еще стоит в прихожей… и я вижу, как он медленно-медленно, на моих глазах падает. Через какую-то минуту он уже лежал на полу, в пальто и в шапке. Дотащили его до дивана, положили. Перепугались: надо вызвать врача – а как? У нас нет московской прописки, нет медицинской страховки. Мы – беженцы. Пока мы так соображали, мама плакала… дочка с вот такими глазами сидела в углу… Ждали папу – а папа приехал и умирает. В это время он открыл глаза: «Не надо врача. Не бойтесь. Все! Я – дома». Тут буду плакать… Тут буду… (Первый раз за все время нашего разговора заплакала.) Как тут без слез… Месяц он ходил за мной по квартире на коленях, целовал и целовал руки: «Что ты хочешь сказать?» – «Я люблю тебя». – «Где ты был столько лет?»
…У него выкрали один паспорт… Второй… Все это его родственники…
…Приехали в Баку его двоюродные братья… Их выгнали из Еревана, где жили еще их деды и отцы. Каждый вечер рассказы… обязательно, чтобы он слышал… Как содрали кожу с мальчика и повесили на дереве. А соседу клеймо на лбу поставили горячей подковой… Как… Как… «А ты куда собрался?» – «К жене». – «Ты едешь к врагу нашему. Ты нам не брат. Не сын».
…Я ему звонила… Мне отвечали: «Дома нет». А ему передавали, как будто я звоню и говорю, что выхожу замуж. Я звонила и звонила. Трубку брала его родная сестра: «Забудь номер этого телефона. У него другая женщина. Мусульманка».
…Мой папа… Хотел мне счастья… Забрал мой паспорт и отдал его каким-то ребятам, чтобы мне поставили печать о разводе. Фальшивую. Что-то они красили, стирали и исправляли, и там сейчас – дырка. «Папа! Зачем ты это сделал? Ты же знаешь – я люблю!» – «Ты любишь нашего врага». Паспорт у меня испорчен… теперь недействительный…
…Читала Шекспира «Ромео и Джульетта»… Про вражду двух семейных кланов – Монтекки и Капулетти. Это все про меня… я каждое слово там понимала…
Я не узнавала дочь. Она стала улыбаться… С первой минуты, когда его увидела: «Папа! Па-почка!». Маленькая… она доставала из чемодана его фотографии и целовала. Но так, чтобы я не видела… И не плакала…
И это не конец… Вы думаете это все? Конец? Ой, конца еще нет…
…И здесь живем как на войне… Везде чужие. Меня вылечило бы море. Мое море! А моря рядом нет…
…Я метро мыла, туалеты чистила. На стройке кирпичи таскала и мешки с цементом. Сейчас в ресторане убираю. Абульфаз евроремонты делает в богатых квартирах. Добрые люди платят, плохие обманывают: «Вали отсюда, чучмек! Сейчас в милицию позвоним». У нас нет прописки… нет никаких прав… Таких, как мы, тут как песка в пустыне. Сотни тысяч людей бежали из дому: таджики, армяне, азербайджанцы, грузины, чеченцы… Бежали в Москву – в столицу СССР, а это уже столица другого государства. А нашего государства уже на карте не найти…
…Дочка год назад окончила школу… «Мама… папа… Я учиться хочу!» Паспорта у нее нет… Живем транзитом. Живем у одной бабушки, она переехала к сыну, а нам сдала свою однокомнатную квартиру. Милиция стучит с проверкой документов… Мы – как мыши, затаимся. Опять как мыши. Выкинут назад… А куда назад? Куда нам ехать? Выкинут в двадцать четыре часа! Денег, чтобы откупиться, у нас нет… И другую квартиру уже не найти. Везде висят объявления: «Сдадим квартиру славянской семье…», «Сдадим… православной русской семье. Других просим не беспокоить…»
…Из дому вечером – никуда! Муж или дочка задержатся где-нибудь – я валерьянку пью. Прошу дочку: не крась брови, не носи яркие платья. Там убили армянского мальчика, там зарезали таджикскую девочку… азербайджанца искололи ножом… Раньше мы все советские были, а теперь у нас новая национальность – «лицо кавказской национальности». Я бегу утром на работу и никогда не смотрю молодым ребятам в лицо – у меня черные глаза, черные волосы. В воскресенье, если выйдем с семьей на улицу, то прогуляемся в своем районе, возле своего дома. «Мама, я хочу на Арбат. Хочу походить по Красной площади». – «Туда не пойдем, доченька. Там – скинхеды. Со свастикой. Их Россия – для русских. Без нас». (Молчит.) Никто не знает, сколько раз я хотела умереть.
…Моя девочка… она с детства слышит: «чучмечка»… «чурка»… Маленькая ничего не понимала. Вернется из школы, я ее целую, целую, чтобы она все эти слова забыла.
Все армяне из Баку уехали в Америку… чужая страна их приняла… И мама уехала, и папа, и много наших родственников. Я тоже пошла в американское посольство. «Расскажите вашу историю», – попросили меня. Я рассказала им про свою любовь… Молчали, они долго молчали. Молодые американцы, совсем молодые. Потом стали говорить между собой: и паспорт, мол, у нее испорченный, и странно все-таки, почему муж семь лет не приезжал? Муж это или не муж? Слишком красивая и страшная история, чтобы поверить. Так они говорили. Я немножко знаю английский… Я поняла, что они мне не верят. А у меня нет других доказательств, кроме того, что я люблю… Вы мне верите?
– Я верю… – говорю я. – Я выросла в той же стране, что и вы. Я верю! (И мы обе плачем.)
О людях, которые сразу стали другими после коммунизма
Людмила Маликова – технолог, 47 лет
Из рассказа дочери
О времени, когда все жили одинаково
– Вы Москву хорошо знаете? Кунцевский район… Там мы жили в пятиэтажке, там у нас была квартира, трехкомнатная квартира, она у нас появилась, когда мы с бабушкой съехались. Дедушка умер, она долго жила одна, но начала слабеть, и мы решили, что нам надо жить вместе. Я обрадовалась, я любила бабушку. Мы ходили с ней вместе на лыжах, играли в шахматы. Потрясающая была бабушка! Папа… Папа был, но папа жил с нами недолго, он задурил, стал здорово выпивать с дружками, и мама попросила его уйти… он работал на закрытом военном заводе… С детства помню, как папа приходил к нам по выходным, приносил мне подарки, конфеты и фрукты – всегда старался, чтобы это была самая большая груша, самое большое яблоко. Хотел меня удивить: «Закрой глаза, Юлечка – вот!». Красиво так смеялся… А потом папа куда-то пропал… Женщина, с которой он жил после нас – это мамина подруга – тоже его прогнала, надоели его пьянки. И я не знаю, жив ли он, но если бы он был жив, он бы меня искал…
До моих четырнадцати лет жили мы безоблачно. До перестройки… Нормально жили, пока не начался капитализм, тогда по телевизору говорили «рынок». Все мало понимали, что это, и никто ничего не объяснял. А началось все с того, что стало можно ругать Ленина и Сталина. Ругали молодые, а старые люди молчали, они выходили из троллейбуса, если слышали, что кто-то ругает коммунистов. У нас в школе молодой учитель математики был против коммунистов, а старый учитель истории – за коммунистов. Дома бабушка говорила: «Вместо коммунистов теперь будут спекулянты». Мама с ней спорила: нет, мол, будет красивая, справедливая жизнь, она ходила на демонстрации, взахлеб пересказывала нам речи Ельцина. Нашу бабушку убедить было невозможно: «Променяли социализм на бананы. На жвачку…». Спор начинался с утра, потом мама уходила на работу, вечером они продолжали спорить. Когда Ельцина показывали по телевизору, мама скорее садилась в кресло: «Великий человек!», бабушка крестилась: «Преступник, прости господи». Она была коммунистка до костей. Голосовала за Зюганова. Все пошли в церковь, и бабушка пошла, стала креститься и поститься, но верила она только в коммунизм… (Молчит.) Любила рассказывать мне про войну… В семнадцать лет она добровольно ушла на фронт, и там в нее влюбился наш дедушка. Мечтала быть телефонисткой, но в той части, куда она попала, требовались повара, и она стала поваром. И дедушка был поваром, они кормили в госпитале раненых. В бреду раненые кричали: «Давай! Давай! Вперед!». Жалко, она так много рассказывала, а я только кусочки помню… У медсестер всегда стояло наготове ведро с мелом, кончались таблетки и порошки, и они делали пилюли из этого мела, чтобы раненые не ругались и не били их костылями… Тогда не было телевизора, и никто не видел Сталина, но все хотели увидеть Сталина. И моя бабушка тоже, до самой смерти она ему поклонялась: «Если б не Сталин, мы б немцам жопу лизали». Еще и матюгнется. А мама Сталина не любила, она называла его «злодеем» и «душегубом»… Это будет лукавством, если я скажу, что я об этом много думала… Жила, радовалась. Первая любовь…
Мама работала диспетчером в научно-исследовательском институте геофизики. Мы дружили. Я делилась с ней всеми своими секретами, даже тем, что обычно мамам не говорят. С моей мамой это было можно, она была совсем не взрослая. Как старшая сестра. Любила книги… музыку… Жила этим. А руководила у нас бабушка… Мама вспоминала, что я в детстве была золотая, ей не надо было меня просить, уговаривать. Правда, маму я обожала… Мне нравится, что я на нее похожа, и чем дальше, тем больше. Почти одно лицо. Мне это нравится… (Молчит.) Очень небогато мы жили, но как-то жили. Все вокруг были такие же, как мы. Было даже весело, к маме приходили друзья, разговаривали, пели песни. Я помню Окуджаву с детства: «Один солдат на свете жил, / красивый и отважный, / но он игрушкой детской был: / ведь был солдат бумажный…». Бабушка ставила на стол тазик блинов, пекла вкусные пироги. За мамой многие мужчины ухаживали, они ей дарили цветы, а мне покупали мороженое, и она один раз даже у меня спросила: «А можно я выйду замуж?». Я не возражала, потому что мама была красивая, и мне не нравилось, что она одинокая, я хотела счастливую маму. На нее всегда обращали внимание на улице, то один мужчина обернется, то второй. «Чего это они?» – спрашивала я маленькая. «Пошли! Пошли!» – смеялась мама, как-то по-особенному смеялась. Непривычно. Правда, нам было хорошо. Я потом, когда осталась одна, приходила на нашу улицу и смотрела на наши окна. Однажды не выдержала и позвонила в нашу дверь – там уже жила грузинская семья. Наверное, они подумали, что я попрошайка, хотели дать мне денег и немного еды. Я заплакала и убежала…
Скоро бабушка заболела, у нее была такая болезнь, что она все время хотела есть, каждые пять минут, выскакивала на лестничную площадку и кричала, что мы ее морим голодом. Била тарелки… Мама могла поместить ее в специальную клинику, но решила, что будет сама ухаживать, она тоже очень любила бабушку. Часто доставала из серванта ее военные фотографии, смотрела на них и плакала. На фотографиях была молодая девушка, на бабушку не похожая, но это была наша бабушка. Как будто другой человек… Так получается… да… До самой смерти бабушка читала газеты, интересовалась политикой… А когда заболела, на тумбочке у нее лежала только одна книга… Библия… Она звала меня и читала: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу…». Постоянно думала о смерти: «Мне уже так тяжело, внучка. Так скучно».
Это был выходной… мы все дома… Я заглянула в комнату бабушки, она уже плохо ходила, больше лежала, я увидела, что она сидит и смотрит в окно. Попоила ее водичкой. Прошло немного времени… Опять зашла к ней, позвала, она молчит, я взяла ее за руку, а рука холодная, глаза были открыты и смотрели в то же окно. До этого я ни разу не видела смерть, испугалась и закричала. Прибежала мама, сразу заплакала, закрыла бабушке глаза. Надо было звонить в «скорую помощь»… Правда, они быстро приехали, но доктор потребовала у мамы деньги за справку о смерти и за то, что они отвезут бабушку в морг: «А что вы хотите? Рынок!». Денег у нас в доме не было вообще… Как раз в это время маму сократили на работе, два месяца она уже была в поиске, но куда ни пойдет по объявлению, там уже очередь. Мама окончила технологический институт с красным дипломом. О том, чтобы найти работу по специальности, не могло быть и речи, с институтскими дипломами устраивались продавцами, посудомойками. Офисы убирали. Все стало другое… Я не узнавала на улицах людей, как будто все переоделись во что-то серое. Цветного ничего не было. Так я это запомнила… «Это все твой Ельцин… твой Гайдар… – плакала бабушка, когда была жива. – Что они с нами сделали? Еще чуть-чуть и будет как в войну». Мама молчала, к моему удивлению, мама замолчала. На каждую вещь в доме мы смотрели только так – можно ли ее продать? Продать было нечего… Жили на бабушкину пенсию. Сидели на одних серых макаронах… За всю жизнь бабушка собрала пять тысяч, они хранились на сберкнижке, их должно было хватить, как она говорила, чтобы дожить, на «черный день» и на похороны. А это стал один трамвайный билет… Коробка спичек… Деньги у всех в один день пропали. Обдираловку народу устроили… Больше всего бабушка боялась, что мы похороним ее в целлофановом пакете или завернем в газеты. Гроб стоил безумных денег, и хоронили по-всякому… Бабушкину подругу тетю Феню, она на фронте медсестрой была, дочка похоронила в газетах… завернула в старые газеты… Медали просто так в ямку положили… Дочка – инвалид, на помойках копалась… Это все было так несправедливо! С подружками я ходила в коммерческий магазин, разглядывали там колбасы. Какие-то блестящие упаковки. В школе те, у кого были легинсы, дразнили тех, кому родители не могли купить эти легинсы. Меня дразнили… (Молчит.) Но мама пообещала бабушке, что похоронит ее в гробу. Поклялась.
Доктор увидела: денег у нас нет – они развернулись и уехали. Оставили бабушку нам…
Неделю мы жили с бабушкой… Мама несколько раз на день обтирала ее марганцовкой и накрывала мокрой простыней. Задраила все окна и форточки, подоткнула двери мокрым одеялом. Она одна это делала, я боялась заходить в бабушкину комнату, быстренько пробегала на кухню и назад. Запах был… уже появился… Правда, нам еще, грех сказать, повезло: за время болезни бабушка сильно похудела, остались одни косточки… Стали звонить родственникам… У нас родственников – пол-Москвы, и вдруг – никого, они не отказывались – приезжали с трехлитровыми банками маринованных кабачков, огурцов, с вареньем, но денег никто не предлагал. Посидят, поплачут и уедут. Ни у кого и не было живых денег. Я так думаю… Двоюродному мамину брату получку на заводе выдали консервами, привез нам консервы. Что мог… Тогда нормальным считалось – подарить на день рождения кусочек мыла, зубную пасту… У нас были хорошие соседи, правда, хорошие. Тетя Аня с мужем… Они упаковывали вещи – переезжали к родителям в деревню, детей уже туда отослали – им не до нас. Тетя Валя… Как она могла помочь, когда у нее муж пьет и сын пьет? У мамы было столько друзей… Но у них тоже в доме ничего не было, кроме книжек. Половина уже осталась без работы… Телефон умер. Люди сразу стали другими после коммунизма. Все жили за закрытыми дверями… (Молчит.) Я мечтала: засну, а утром проснусь – и бабушка живая.
О времени, когда бандиты ходили по улицам и даже не прятали пистолеты
Кто такие? Появились какие-то непонятные люди, они были в курсе всего: «Знаем вашу беду. Мы вам поможем». Позвонили куда-то – тут же пришел врач и выдал справку о смерти, и милиционер пришел. И гроб дорогой купили, и катафалк был, и много цветов, каких только цветов там не было – все как положено. Бабушка просила похоронить ее на Хованском кладбище, но без взятки туда не пробиться, кладбище старое, известное, но так и сделали, привезли батюшку, он помолился. Так красиво все. Мы с мамой только стояли и плакали. Всем заправляла тетя Ира, она была в этой компании главная, с ней постоянно ходили накаченные ребята, ее охрана. Один из этих ребят воевал в Афганистане, и маму это почему-то успокаивало, она считала, что если человек был на войне или при Сталине сидел в лагере, то этот человек не может быть плохим: «Как же – он так пострадал!». И вообще, у нас человека в беде не бросят – это было ее убеждение, мы вспоминали бабушкины рассказы о том, как люди в войну спасали друг друга. Советские люди… (Молчит.) А уже были какие-то другие люди. Не совсем советские… Я говорю, как сейчас это представляю, а не как тогда… Нас взяла в оборот банда, но для меня тогда они были дяди и тети – пили с нами чай на кухне, угощали конфетами. Тетя Ира привозила продукты, когда видела наш совсем пустой холодильник, подарила мне джинсовую юбочку – тогда все молились на джинс! Может, месяц они так ходили, мы к ним привыкли, и они делают маме предложение: «Давайте продадим вашу трехкомнатную квартиру и купим однокомнатную. У вас будут деньги». Мама согласилась… Она уже устроилась в кафе: мыла посуду, столы протирала, но денег катастрофически не хватало. Уже начали обсуждать, куда мы переедем, в какой район. Я не хотела менять школу. Искали что-нибудь поблизости.
В этот момент объявляется другая банда. Там главарь был мужчина… дядя Володя… И они с тетей Ирой стали между собой бороться за нашу квартиру. «Зачем вам однокомнатная? – кричал на маму дядя Володя. – Я куплю вам дом под Москвой». Тетя Ира приезжала на стареньком «фольксвагене», а дядя Володя – на шикарном «мерседесе». У него был настоящий пистолет… Девяностые годы… Бандиты ходили по улицам и даже не прятали пистолеты. Все, кто мог, ставили себе железные двери. В нашем подъезде пришли ночью к одному коммерсанту с гранатой… У него был киоск – крашеные доски, фанера, там все вместе продавалось: продукты, косметика, одежда, водка. Требовали у него доллары. Жена не хотела отдавать, так ей поставили горячий утюг на живот, она была беременная… В милицию никто не обращался, все знали: у бандитов много денег, и они любого купят. Почему-то их зауважали. Пожаловаться было некому… Дядя Володя чаи с нами не гонял, он маме пригрозил: «Если не отдашь квартиру мне, то я заберу твою дочь, и ты ее больше никогда не увидишь. Не будешь знать, что с ней». Меня спрятали у себя наши знакомые, я несколько дней в школу не ходила. Плакала день и ночь, боялась за маму. Соседи видели, как за мной два раза приезжали, искали. Ругались матом. Кончилось тем, что мама сдалась…
Назавтра нас уже выселили. Приехали они ночью: «Скорей! Скорей! Поживете в другом месте, пока мы подыщем вам дом». Привезли с собой банки с краской, обои, уже затевали ремонт. «Пошли! Пошли!» Мама с перепугу взяла только документы, свои любимые польские духи «Быть может», которые ей подарили на день рождения и несколько любимых книг, а я – учебники и еще одно платье. Нас затолкали в машину… Привезли, можно сказать, на пустое место: в квартире – две большие кровати, стол и стулья. Строго приказали никуда не выходить и не открывать окна, громко не разговаривать. Не дай бог соседи услышат! В этой квартире, видно, все время менялись люди… Грязь! Несколько дней мыли все, отмывали. А потом помню: стоим с мамой в каком-то официальном месте, нам показывают отпечатанные бумаги… Вроде как все по закону… Нам говорят: «Вот здесь вы должны поставить свои подписи». Мама расписалась, а я расплакалась, раньше как-то не доходило, а тут я поняла – сейчас нас отправят в деревню. Мне стало жалко свою школу, своих подружек, которых я больше никогда не увижу. Подошел дядя Володя: «Быстро подписывай, а то отвезем в детский дом, а мама все равно уедет в деревню. Останешься одна». Какие-то люди… я помню, что стояли какие-то люди, и милиционер был… Все молчали. Дядя Володя каждому дал взятку. Я ребенок… что я могу… (Молчит.)
Я долго жила в молчании… Все это сокровенное, плохое, но оно сокровенное. Не хочется кому-то его показывать… Помню, как привезли меня в приют – это было много позже, когда я осталась уже без мамы – привезли и привели в комнату: «Вот твоя кровать. Вот твои полки в шкафу…» Я остолбенела… К вечеру свалилась с температурой… Это все напомнило мне нашу квартиру… (Молчит.) Это был Новый год… Елка горит… все клеят маски… Будут танцы… Танцы? Какие танцы? Я все это забыла… (Молчит.) В комнате, кроме меня, жили еще четыре девочки: две сестренки, совсем маленькие, восемь и десять лет, и еще две девочки постарше – одна москвичка, она серьезно болела сифилисом, другая оказалась воровкой, стащила у меня туфли. Эта девочка хотела вернуться на улицу… О чем я? О том, что всегда мы были вместе, днем и ночью, но ничего о себе друг другу не рассказывали… Нет, не хотели. Я долго молчала… Я заговорила, когда встретила своего Женьку… Но это все будет потом… (Молчит.)
Наша эпопея с мамой только начиналась… После того, как мы подписали бумаги, нас увезли в Ярославскую область: «Ничего, что далеко, зато у вас будет хороший дом». Нас обманули… Это был не дом, а старая изба с одной комнатой и большой русской печью, которую мы с мамой до этого ни разу в жизни не видели. Не умели топить. Изба разваливалась, куда ни глянь – везде щели. У мамы – шок. Она зашла в избу и стала передо мной на колени, просила прощения за то, что устроила мне такую жизнь. Билась головой о стенку… (Слезы.) Было у нас немного денег, они быстро кончились. Работали у людей на огородах – кто корзину картошки даст, кто десяток яиц. Узнала красивое слово «бартер»… Свои любимые духи «Быть может» мама поменяла на хороший кусок масла, когда я сильно простудилась… Я так ее уговаривала этого не делать, потому что у нас было мало вещей, которые напоминали нам о доме. Это помню… Один раз заведующая фермы, добрая женщина, пожалела меня, дала ведро молока, я боялась и шла домой огородами, встретила одну доярку, она посмеялась: «Чего ты прячешься? Иди по деревне. Тут все тащат, а тем более, если тебе разрешили». Тащили все, что не приколочено, а председатель колхоза – больше всех. Машинами к нему возили. Он приезжал к нам… Агитировал: «Айда ко мне на ферму! А то с голоду пропадете». Идти – не идти? Голодуха заставила. На утреннюю дойку вставать надо было в четыре утра. Еще все спят. Я доила коров, мама мыла баки, коров она боялась, а мне они нравились. У каждой коровы свое имя… Дымка, Черемуха… У меня было тридцать коров и две телки… На тачках возили опилки, по колено было навоза. Выше сапог. Бидоны с молоком на телегу поднимали… Сколько же там килограмм? (Молчит.) Платили нам молоком и мясом, если какая-нибудь корова удушит себя или утонет в жиже. Доярки пили не меньше мужиков, и мама стала с ними попивать. Между нами уже было не так, как раньше, то есть мы дружили, но все больше я на нее покрикивала. Она обижалась. Редко, когда у нее было хорошее настроение, она читала мне стихи… Свою любимую Цветаеву: «Красною кистью / Рябина зажглась / Падали листья / Я родилась…». Тогда я узнавала свою прежнюю маму. Редко.
Уже зима. Сразу ударили морозы. В этой избе зиму бы мы не пережили. Сосед пожалел и бесплатно довез до Москвы…
О времени, когда человек – это звучит не гордо, а звучит по-разному
Я разговорилась с вами и забыла, что боюсь вспоминать… (Молчит.) Как я отношусь к людям? Люди не плохие и не хорошие, люди – и все. В школе я училась по советским учебникам, других еще не было, нам читали: человек – это звучит гордо. А человек – это звучит не гордо, а звучит по-разному. Я тоже всякая, во мне всего по кусочку… Но если я увижу таджика – они у нас теперь как рабы, второй сорт – и если у меня есть время, я остановлюсь и с ним поговорю. У меня нет денег, но я с ним поговорю. Такой человек… Это мой человек, он в моем состоянии – я знаю, что это такое, когда ты всем чужой, ты один полностью. Я тоже жила в подъездах, спала в подвалах…
Сначала нас пустила к себе мамина подруга, приняли они нас хорошо, и мне там нравилось. Знакомая обстановка: книги, пластинки, на стене портрет Че Гевары. Как у нас когда-то… те же книжки, те же пластинки… Сын тети Оли учился в аспирантуре, днем не вылезал из библиотек, а ночью разгружал вагоны на станции. Есть было нечего. На кухне стоял мешок картошки – и все. Съели картошку – одна буханка хлеба на день. Целый день пили чай. И больше ничего. Один килограмм мяса стоил триста двадцать рублей, а зарплата у тети Оли была сто рублей, она работала в школе учительницей начальных классов. Все метались как ненормальные, чтобы где-то подзаработать. Разбивались в лепешку… Испортился старый кран на кухне, вызвали сантехников, а они оказались кандидатами наук. Смеялись все. Как говорила наша бабушка, печалью не прокормишься… Отпуск – это роскошь, мало кто мог себе позволить такую роскошь… Тетя Оля на время отпуска уезжала в Минск, там жила ее родная сестра, преподаватель университета. Они шили подушки из искусственного меха, набивали их синтепоном, но так, чтобы они наполовину оставались пустыми – и туда перед самым поездом запихивали щенка, делали ему укол снотворного. Ездили в Польшу… Щенков овчарок так возили… и кроликов… На блошиных рынках – сплошь русская речь… В термосы наливали водку вместо чая, в чемоданах прятали под бельем гвозди и замки… Домой тетя Оля возвращалась с сумкой вкусных польских колбасок. Запах у них был обалденный!
В Москве ночью стреляли и даже взрывали. Ларьки, ларьки… всюду ларьки… Мама нанялась к одному азербайджанцу, у него было два ларька – один с фруктами, второй – с рыбой. «Работа есть, выходных нет. Отдыхать нельзя». Но вот какая новость – торговать мама стеснялась, ей было стыдно. Ну – никак! В первый день вообще: разложила фрукты, а сама спряталась за дерево и оттуда выглядывала. Натянула шапку на самые уши, чтобы ее никто не узнал. На другой день цыганенку дала сливу… Хозяин заметил – накричал. Деньги не любят жалости и стыда… Мало она там продержалась, с торговлей у мамы не пошло… Я увидела объявление на заборе: «Требуется уборщица с высшим образованием». Мама пошла по указанному адресу, и ее взяли. Платили там нормально. Это был какой-то американский фонд… Уже мы смогли как-то сами питаться, сняли комнату, в этой же трехкомнатной квартире вторую комнату снимали азербайджанцы. Молодые ребята. Что-то все время покупали, продавали. Один замуж меня звал, обещал увезти в Турцию: «Я тебя украду. У нас обычай такой, что невесту надо украсть». Страшно было без мамы дома оставаться. А он мне и фрукты дарил, и урюк… Хозяин квартиры пил неделями, так упивался, что у него сносило крышу: «Ах ты, блядь! Эй ты, сука!». Жену бил ногами… ее «скорая» увозила… И тогда он ночью к маме лез. Дверь в нашу комнату ломал…
Снова мы оказались на улице…
На улице и без денег… Мамин фонд закрыли, она перебивалась случайными заработками. Жили в подъездах… на лестнице… Одни люди просто проходили мимо, другие кричали, были и такие, что выгоняли нас на улицу. Могли и ночью. И в дождь, и в снег. Никто помощи не предлагал, ни о чем не расспрашивал… (Молчит.) Люди не плохие и не хорошие. У каждого свое… (Молчит.) Утром шли пешком на вокзал (денег на метро не было), в туалете там умывались. И стирали. Постирушки у нас там… Летом ничего, когда тепло, везде можно жить… В парке на скамейках ночевали, осенью нагребем листьев, спим на листьях – тепло. Как в спальном мешке. На Белорусском вокзале… это я хорошо помню… мы часто встречали старую-престарую женщину, она сидела возле кассы и разговаривала сама с собой. Рассказывала одну и ту же историю… Как в войну к ним в деревню заходили волки, они почувствовали, что мужчин нет. Мужчины все воевали. Если у нас с мамой было хоть сколько денег, мы ей подавали. «Храни вас Господь» – крестила она нас. А мне наша бабушка вспоминалась…
Оставила маму на скамейке… Возвращаюсь, а она сидит не одна, а с каким-то мужчиной. Приятный такой мужчина. «Знакомься, – говорит мама, – это Витя. Он тоже любит Бродского». Все понятно. Знаем… Если кто-то любит Бродского, для мамы это звучит как пароль, значит, свой человек. «Как, он не читал “Дети Арбата”?» Ну это дикий человек! Из лесу! Это чужой, он не наш. Так она всегда разделяла людей, и это у нее осталось. А я очень изменилась за те два года, что мы с ней бродяжничали, стала серьезная, может, даже не по годам. Я поняла: мама ничем не может мне помочь, наоборот, у меня появилось чувство, что это я должна ее опекать. Просто я так чувствовала… Дядя Витя был умный, и он спросил у меня, а не у мамы: «Ну что, девочки, пойдем?». Повел нас к себе, у него была двухкомнатная квартира. Свои вещи мы все таскали с собой, и вот с этими драными клетчатыми сумками… мы попали в рай… Музей! На стене висели картины, шикарная библиотека, пузатый старинный комод… Часы до потолка с маятником… Столбняк! «Девочки, смелее. Раздевайтесь». Нам стыдно, мы уже пообносились… Запах вокзалов… подъездов… «Девочки, смелее!» Сели пить чай. Дядя Витя рассказал о себе… Когда-то он работал ювелиром, у него была своя мастерская. Показал нам чемодан с инструментами, мешочки с полудрагоценными камнями, серебряные заготовки… Все так красиво, интересно, дорого. Не верилось, что мы будем здесь жить. Чудеса посыпались…
Получилась семья как семья. Я опять пошла в школу. Дядя Витя был очень добрый, он сделал мне перстень с камушком. Но беда… он тоже пил… Курил как паровоз. Первое время мама его ругала, а скоро они уже пили вместе. Носили в букинистический магазин книги, я помню запах старых кожаных переплетов… У дяди Вити были еще редкие монеты… Пили и смотрели телевизор. Политические программы. Дядя Витя философствовал. Со мной он разговаривал, как со взрослой… Спрашивал: «Чему вас, Юлечка, учат в школе после коммунизма? Что теперь делать с советской литературой и с советской историей – забыть?». Правда, я мало что понимала… Вам интересно? Вот… Я думала, что я от этого далека, а вот… вспоминается…
…Русская жизнь должна быть злая, ничтожная, тогда душа поднимается, она осознает, что не принадлежит этому миру… Чем грязнее и кровавее, тем больше для нее простора…
…Модернизация у нас возможна только путем шарашек и расстрелов…
…Коммунисты… Что они могут? Ввести опять талоны и отремонтировать бараки в Магадане…
…Нормальные люди выглядят сегодня сумасшедшими… Эта новая жизнь таких, как я и твоя мама, она нас выбраковывает…
…На Западе старый капитализм, а у нас свежайший, с молодыми клыками… А власть – чистейшая византийщина…
Однажды ночью дяде Вите стало плохо с сердцем. Вызвали «скорую». До больницы его не довезли. Обширный инфаркт. Приехали родственники: «А вы – кто? Откуда взялись такие? Вам тут делать нечего». Один мужчина кричал: «Гоните этих нищенок отсюда! Вон!». Проверил наши сумки, когда мы уходили…
Мы на улице…
Позвонили маминому двоюродному брату… Его жена взяла трубку: «Приходите». Жили они недалеко от Речного вокзала в двухкомнатной «хрущевке», жили с женатым сыном. Невестка ходила беременная. Решили: «Поживете у нас, пока Алена родит». Маме ставили раскладушку в коридоре, а я спала на кухне на старом диване. К дяде Леше приходили дружки… с его завода… Засыпала я под их разговоры. Все повторялось: бутылка водки на столе, карты. Правда, разговоры были другие…
…Все просрали… Свобода… А где свобода, блядь? Трескаем крупу без масла…
…Жиды… они царя убили, и Сталина, и Андропова… Развели либерастию! Надо срочно закручивать гайки. Мы, русские, должны веры держаться…
…Ельцин ползает перед Америкой на брюхе… Все-таки мы выиграли войну…
…В церковь пойдешь – и там вроде все крестятся, но стоят как камни…
…Скоро будет жарко и весело… Первыми либерастов повесим на фонарях за то, что они нам девяностые годы устроили. Спасать надо Россию…
Через пару месяцев невестка родила. Нам места уже нет.
Снова мы на улице…
…вокзал
…подъезд
…вокзал
…подъезд…
На вокзале… Дежурные милиционеры – и пожилые, и молодые: или марш на улицу, а это была зима, или иди с ним в подсобку… Там у них за ширмочкой специальный уголок есть… диванчик… Мама с одним милиционером подралась, когда он меня туда поволок… Ее побили и арестовали на несколько суток… (Молчит.) Я… так вышло… Я сильно простыла. Думали-думали… мне все хуже… Решили, что я поеду к родственникам, а мама останется на вокзале. Через несколько дней она мне звонит: «Надо нам встретиться». Я к ней приехала, и она говорит: «Я тут познакомились с женщиной, она мне предлагает у нее пожить. Места там хватает. У нее свой дом. Это в Алабино». – «Давай я с тобой поеду». – «Нет, ты лечись. Приедешь потом». Я посадила ее на электричку, она села у окна и смотрит на меня, как будто давно не видела. Я не выдержала и вскочила в вагон: «Что с тобой?» – «Не обращай внимания». Помахала ей, она уехала. А вечером звонят: «Вы – Маликова Юлия Борисовна?» – «Я Маликова». – «Вам звонят из милиции. Скажите, а Людмила Маликова кем вам приходится?» – «Это моя мама». – «Вашу мать сбил поезд. В Алабино…»
Всегда она была внимательна, если шел поезд… очень боялась… Попасть под поезд она боялась больше всего. Сто раз голову повернет: идет – не идет? И вот… Нет, это не случайность… не несчастный случай… Купила бутылку водки… чтобы не так было больно и страшно, и бросилась… Она устала… просто устала… Устала от такой жизни… «от самой себя»… Это не мои, это ее слова. Я каждое слово ее потом вспоминала… (Плач.) Поезд ее долго тащил… Привезли в больницу, час она еще пролежала в реанимации, но спасти ее было невозможно. Мне так и сказали… Увидела я ее уже в гробу, уже одетую. Все было ужасно… еще Женьки у меня не было… Если бы я была маленькая, она бы меня не оставила. Никогда… этого бы не случилось… В последние дни она мне часто говорила: «Ты уже большая. Ты уже выросла». Зачем я выросла? (Плач.) Я осталась одна… Так и жила…. (После долгого молчания.) Если у меня будет ребенок, я должна быть счастливой… чтобы он запомнил счастливую маму…
Женька… Женька меня спас… Я его всегда ждала… В приюте мы мечтали: живем здесь, но это временно, а скоро будем жить как все, у нас появится семьи – мужья, дети. Будем сами покупать себе кексы, не по праздникам, а когда захочется. Очень хотелось… Семнадцать лет… мне исполнилось семнадцать лет… Вызвал к себе директор: «Тебя уже сняли с питания». И – молчит. После семнадцати лет из приюта отправляли в жизнь. Иди! А идти было некуда. Работы нет, и вообще ничего нет. И мамы нет… Я позвонила тете Наде: «Наверное, я к вам приду. Из приюта меня уже отправляют». Тетя Надя… если бы не она… ангел-хранитель… Это была не родная мне тетя, это сейчас она стала роднее родных и свою комнатку в коммуналке мне завещала. Сейчас… да… Когда-то она жила с моим дядей, но он давно умер, они не были мужем и женой, жили гражданским браком. Но я знала, что они жили в любви. К такому человеку можно прийти… Если человек знал любовь, к нему можно всегда прийти…
У тети Нади никогда не было детей, и она привыкла жить одна, ей было тяжело жить с кем-то. Мрак! Комната – шестнадцать метров. Я спала на раскладушке. Соседка, конечно, стала высказывать претензии: «Пускай она уйдет». Милицию вызывала. Тетя Надя стояла стеной: «А куда она уйдет?». Наверное, уже год прошел… И тетя Надя сама спросила: «Ты сказала, что приедешь на два месяца, а уже год, как ты живешь у меня». Я молчу… плачу… И она молчит… плачет… (Молчит.) Еще год прошел… Как-то все привыкли ко мне… Я старалась… И соседка привыкла… Тетя Марина не плохой человек, это жизнь у нее плохая. У нее было два мужа, и оба из-за пьянки, как она говорит, сдохли. К ней часто приезжал племянник, мы с ним здоровались. Красивый парень. А это… Это было так: я сидела в комнате, читала книгу, тетя Марина зашла, взяла меня за руку и повела на кухню: «Давайте знакомиться: вот это – Юля, а вот это – Женя. А сейчас марш гулять!». Мы стали с Женькой встречаться. Целовались. Но ничего серьезного. Он работает водителем, часто ездит в командировки. Вернулся раз – меня нет. Где? Что? А тут… У меня давно случались приступы – то задыхаюсь, то упаду от слабости… Тетя Надя заставила пойти к врачам, проверили – нашли рассеянный склероз. Вы, конечно, знаете, что это такое… Неизлечимая болезнь… От тоски она, у меня она от тоски. Я очень скучала по маме. Очень. (Молчит.) Поставили диагноз и положили в больницу. Женька нашел меня там и стал навещать. Приходил каждый день. То яблоко красивое принесет, то апельсин… Как папа когда-то… Это был уже май… Появляется с букетом роз, я ахнула – такой букет стоит половину его зарплаты. В праздничном костюме… «Выходи за меня замуж». Я замялась. «Не хочешь?» Что мне ответить? Обманывать я не умею, и я не хотела его обманывать. Я уже давно в него влюбилась… «Я хочу выйти за тебя замуж, но ты должен знать правду – у меня инвалидность третей группы. Скоро я буду как хомячок, меня на руках придется носить». Он ничего не понял, но расстроился. На следующий день приходит и говорит: «Ничего. Прорвемся». Вышла я из больницы, и мы расписались. Повез он меня к своей маме. Его мама – простая крестьянка. Всю жизнь в поле. В доме ни одной книги. Но мне там у них было хорошо. Спокойно. Я ей тоже все рассказала… «Ничего, детка, – обняла она меня, – где любовь, там и Бог». (Молчит.)
Теперь я изо всех сил хочу жить, потому что у меня есть Женька… Даже мечтаю о ребеночке… Врачи против, а я мечтаю… Хочу, чтобы у нас был дом, я всю жизнь мечтаю о доме. Узнала, что недавно вышел закон… По этому закону можно вернуть нашу квартиру. Я подала заявление… Мне сказали, что таких людей, как я, тысячи, многим помогают, но у меня очень сложный случай, нашу квартиру три раза уже перепродавали. А те бандиты, которые нас ограбили, давно уже лежат на кладбище, перестреляли друг друга…
…Пришли мы к моей маме. Там на памятнике ее портрет, она как живая. Убрали все. Почистили. Долго стояли, я никак не могла уйти, и в какой-то момент мне показалось, что она улыбнулась… она счастлива… Или это солнце так падало…
Об одиночестве, которое очень похоже на счастье
Алиcа З-лер – менеджер по рекламе, 35 лет
Ездила в Петербург за другой историей, а вернулась с этой. Разговорились в поезде с попутчицей…
– У меня подруга покончила с собой… Сильная, успешная. Много поклонников, друзей. Все мы были в шоке. Самоубийство – что это? Трусость или сильный ход? Радикальный план, крик о помощи или самопожертвование? Выход… ловушка… казнь… Я хочу… Я могу рассказать вам, почему я этого не сделаю…
Любовь? Этот вариант я даже не обсуждаю… Я не против всего этого красивого, блестящего и звенящего, но вы первая за десять лет, наверное, кто при мне произнес это слово. Двадцать первый век – деньги, секс и два ствола, а вы о каких-то чувствах… Все впервые дорвались до денег… Не было у меня желания скорее выйти замуж, нарожать детей, я всегда хотела сделать карьеру, это на первом месте. Я ценю себя, свое время и свою жизнь. И откуда вы взяли, что мужчины ищут любовь? Любофф… Мужчины считают, что женщина – дичь, боевой трофей, жертва, а они – охотники. Правила отработаны веками. А женщины ищут принца не на белом коне, а на золотом мешке. Принца неопределенного возраста… Пусть будет «папочка»… Ну и что? Миром правит бабло! Но я не жертва, я сама охотница…
Десять лет назад я приехала в Москву… Я была бешеная, я была активная, я сказала себе: я рождена для того, чтобы быть счастливой, страдают слабые люди, скромность – украшение слабых. Приехала я из Ростова… Мои родители работают в школе: папа – химик, мама – учитель русского языка и литературы. Поженились они студентами, у папы имелся один приличный костюм, но куча идей в запасе, и тогда этого было достаточно, чтобы вскружить девушке голову. До сих пор они любят вспоминать, что долго обходились одним комплектом постельного белья, одной подушкой и одними домашними тапочками. Ночи напролет читали друг другу Пастернака. Наизусть! С милым рай и в шалаше! «До первых заморозков», – смеялась я. «У тебя нет фантазии», – обижалась мама. У нас была нормальная советская семья: утром – гречка или макароны со сливочным маслом, апельсины один раз в году – на Новый год. Я даже помню их запах. Не сейчас, а тогда… это был запах какой-то другой… красивой жизни… Отпуск летом – на Черном море. Ездили в Сочи «дикарями», жили все в одной комнате – девять метров. Но чем-то же гордились… чем-то очень гордились… Гордились любимыми книжками, которые доставали из-под полы, по великому блату, а еще радость! – контрамарки (мамина подруга работала в театре) на премьеры. Театр! Вечная тема для разговоров в приличной компании… Сейчас пишут: советский лагерь, коммунистическое гетто. Людоедский мир. Страшного я не помню… Я помню, что он был наивный, тот мир, очень наивный и нелепый. Я всегда знала, что я так жить не буду! Не желаю! Меня за это чуть из школы не выперли. Ой! Ну да… рожденные в СССР – это диагноз… Клеймо! У нас были уроки домоводства, мальчиков почему-то учили водить автомобиль, а девочек жарить котлеты, и эти проклятые котлеты у меня всегда подгорали. Учительница, она же наша «классная», стала меня воспитывать: «Ты ничего не умеешь! Выйдешь замуж, и как ты будешь кормить своего мужа?». Я отреагировала тут же: «Я не собираюсь жарить котлеты. У меня будет домработница». Восемьдесят седьмой год… мне тринадцать лет… Какой капитализм, какая домработница?! Еще социализм вовсю! Родителей вызвали к директору школы, меня пропесочили на общем собрании в классе, на совете школьной дружины. Хотели из пионеров исключить. Пионерия, комсомол – это было серьезно. Я даже плакала… Хотя у меня никогда не было рифм в голове, одни формулы… никаких рифм… Когда я оставалась дома одна, я надевала мамино платье, туфли и садилась на диван. Читала «Анну Каренину». Светские балы, слуги, аксельбанты… любовные встречи… Все нравилось до того момента, как Анна бросилась под поезд: зачем? Красивая, богатая… Из-за любви? Даже Толстой меня не убеждал… Западные романы нравились больше, там мне нравились стервы, красивые стервы, из-за которых мужчины стрелялись, мучались. Валялись у ног. В семнадцать лет я последний раз плакала из-за неразделенной любви – всю ночь в ванной комнате с включенным краном. Мама утешала стихами Пастернака… Запомнила: «Быть женщиной – великий шаг, / Сводить с ума – геройство». Не люблю свое детство и юность не люблю, все время ждала, когда они кончатся. Грызла гранит науки, занималась в тренажерном зале. Всех быстрее, всех выше, всех сильнее! В доме крутили кассеты с песнями Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья…». Нет! не мой идеал.
В Москву… Москва! Я ее всегда слышу как соперницу, с первой минуты она вызывала во мне спортивную злость. Мой город! Бешенный ритм – кайф! Размах – по моим крыльям! В кармане было двести «зеленых» и немного «деревянных». Все! Лихие девяностые… Родителям давно не платили зарплату. Нищета! Папа каждый день уговаривал себя и нас с мамой: «Надо потерпеть. Подождать. Я верю Гайдару». До сознания таких людей, как мои родители, еще не доходило, что начался капитализм. Русский капитализм… молодой и толстокожий, тот самый, который рухнул в 1917 году… (Задумалась.) Понимают ли они это сейчас? Трудно ответить… В одном я уверена: капитализм мои родители не заказывали. Без вариантов. Мой это заказ, таких, как я, тех, кто не захотел оставаться в клетке. Молодых, сильных. Для нас капитализм – это интересно… авантюрное приключение, риск… Это не только деньги. Господин доллар! Сейчас я вам выдам свой секрет! Мне о капитализме, современном капитализме – не романы Драйзера – больше нравится читать, чем о ГУЛАГе и советском дефиците. О стукачах. Ой! Ой! Ах, святое затронула. С родителями я об этом и заикнуться не могу. Ни слова. Что вы! Мой папа остался советским романтиком. В августе девяносто первого… Путч! По телевизору с утра – балет «Лебединое озеро»… и танки в Москве, как в Африке… И папа, а с ним еще человек семь, все его друзья, они прямо с работы рванули в столицу. Революцию поддержать! Я сидела у телевизора… Запомнила Ельцина на танке. Рушилась империя… Пусть рушится… Ждали папу, как с войны, – вернулся он героем! Я думаю, что он до сих пор этим живет. Через энное количество лет я понимаю, что это – самое главное, что было в его жизни. Как у нашего дедушки… Тот всю жизнь рассказывал, как они били немцев под Сталинградом. После империи папе жить скучно и неинтересно, ему нечем жить. В основном, они разочарованы… Его поколение… У них чувство двойного поражения: сама коммунистическая идея потерпела крах, и то, что после нее получилось, им тоже непонятно, они это не принимают. Другого они хотели, если капитализма, то с человеческим лицом и обаятельной улыбкой. Не их это мир. Чужестранный. Но это мой мир! Мой! Я счастлива, что советских людей я вижу только на Девятое мая… (Молчит.)
Ехала я в столицу автостопом – так дешевле, и чем больше смотрела в окно, тем злее становилась, я уже знала, что из Москвы не вернусь. Ни за какие коврижки! По обе стороны базар… Торговали чайными сервизами, гвоздями, куклами – людям платили товаром. Можно было утюги или сковородки поменять на колбасу (на мясокомбинатах рассчитывались колбасой), на конфеты, сахар. Возле одной автобусной будки сидела толстая тетка, обвешанная, как лентами с патронами, детскими игрушками. Мультик! В Москве лил дождь, но я все равно пошла на Красную площадь, чтобы увидеть купола Василия Блаженного и Кремлевскую стену – эта мощь, сила, и я здесь! В самом сердце! Я шла и хромала, перед отъездом сломала в тренажерном зале мизинец на ноге, но я была на высоких каблуках и в своем лучшем платье. Конечно, судьба – это везение, карта, но у меня есть чутье, и я знаю, чего хочу. Вселенная ничего не дает просто так… задаром… На – тебе! И – тебе! Надо очень хотеть. Я хотела! Мама привозила только домашние пирожки и рассказывала, как они с папой ходят на митинги демократов. А по талонам в месяц на человека давали: два килограмма крупы, по одному килограмму мяса и двести граммов масла. Очереди, очереди, очереди и номера на ладонях. Мне не нравится слово «совок»! Мои родители – не «совки», они – романтики! Дошколята в нормальной жизни. Я их не понимаю, но я их люблю! Шла по жизни одна… в одиночку… в шоколаде не была… И мне есть за что себя любить! Без репетиторов, без денег и протекции я поступила в МГУ. На факультет журналистики… На первом курсе влюбился в меня однокурсник и спросил: «А ты влюблена?» – На что я ответила: «Я влюблена в себя». Я всего добилась сама. Сама! С однокурсниками было неинтересно, на лекциях скучно. Учили советские преподаватели по советским учебникам. А вокруг кипела уже несоветская жизнь – диковинная, сумасшедшая! Появились первые бэушные иномарки – восторг! Первый «Макдональдс» на Пушкинской… Польская косметика… и страшный слух, что она – для покойников… Первая реклама на телевидении – рекламировался турецкий чай. Все раньше было серое, а тут – яркие цвета, броские вывески. Всего хотелось! Все можно было получить! Ты мог быть кем хочешь: брокером, киллером, геем… Девяностые годы… для меня благословенные… незабываемые… Время завлабов, бандитов и авантюристов! Советскими оставались только вещи, а люди уже с другой программой в голове… Будешь крутиться и вращаться – и ты получишь все. Какой Ленин? Какой Сталин? Это уже позади, перед тобой открывается офигенная жизнь: ты можешь увидеть весь мир, жить в прекрасной квартире, кататься на роскошной машине, есть на обед слонятину… У России разбежались глаза… Улица и тусовки учили быстрее, и я перевелась на заочное отделение. Нашла работу в газете. Жизнь нравилась мне с самого утра.
Я смотрела вверх… на высокую лестницу жизни… Я не мечтала, чтобы меня трахали в подъездах или в саунах и за это водили по дорогим ресторанам. У меня было много поклонников… На ровесников я не обращала внимания, с ними я могла дружить, ходить вместе в библиотеку. Несерьезно и безопасно. А нравились мне мужчины постарше и успешные, уже состоявшиеся. С ними было интересно, смешно и полезно. А на меня… (Смеется.) На мне долго стояло клеймо – девочки из хорошей семьи, из дома, где много книг, главный в доме – книжный шкаф, и на меня обращали внимание писатели и художники. Непризнанные гении. Но я не собиралась посвятить свою жизнь гению, которого признают после его смерти и будут нежно любить потомки. А потом все эти разговоры, надоевшие мне еще дома: о коммунизме, о смысле жизни, о счастье для других… о Солженицыне и Сахарове… Нет, это были герои не моего романа, а герои моей мамы. Тех, кто читал и мечтал летать, как чеховская чайка, сменили те, кто не читал, но мог летать. Весь прежний джентльменский набор выпал в осадок: самиздат, разговоры шепотом на кухне. Какой позор – наши танки были в Праге! Да они уже были в Москве! Кого этим удивишь? Вместо стихов самиздата – кольцо с бриллиантом, дорогие лейблы одежд… Революция желаний! Хотений! Мне нравились… я люблю чиновников и бизнесменов… Меня вдохновлял их словарь: оффшоры, откаты, бартеры. Сетевой маркетинг, креативный подход… В редакции на планерках редактор говорил: «Нужны капиталисты. Помогаем Ельцину и гайдаровскому правительству делать капиталистов. Срочно!» Я была молодая… красивая… Меня посылали брать интервью у этих капиталистов: как они стали богатыми? Как заработали первый миллион? Социалистические люди превращались в капиталистических? Надо было это описать… Почему-то именно миллион покорял воображение. Заработать миллион! Мы привыкли, что русский человек вроде бы и не хочет быть богатым, даже боится. Чего же он хочет? А он всегда хочет одного: чтобы кто-то другой не стал богатым. Богаче, чем он. Малиновые пиджаки, золотые цепи… Это из кино… из телесериалов… Те, кого я встречала, – с железной логикой и железной хваткой. Системное мышление. Все учили английский. Менеджмент. Академики и аспиранты уезжали из страны… физики и лирики… А эти… новые герои… они никуда не хотели уезжать, им нравилось жить в России. Это был их час! Их шанс! Они хотели быть богатыми, они всего хотели. Всего!
И тут я встретила его… Я думаю, что любила этого человека. Звучит как откровение… Да? (Смеется.) Он был старше меня на двадцать лет, у него семья и двое сыновей. Ревнивая жена. Жизнь под микроскопом… Но мы сходили друг от друга с ума, такой порыв и взвод, что он признавался: утром, чтобы не заплакать на работе, он принимал две таблетки тазепама. Я тоже совершала сумасшедшие поступки, только что с парашютом не прыгала. Это все было… так бывает… конфетно-букетный период… Еще не важно, кто кого обманывает, кто за кем охотится и кто чего хочет. Я была маленькая, двадцать два года… Я влюбилась… влюбилась… Теперь я понимаю, что любовь – это своего рода бизнес, у каждого свой риск. Будь готова к новой комбинации… Всегда! Теперь от любви редко кто млеет. Все силы – на прыжок! На карьеру! Молодые девчонки у нас в курилке треплются, и если у кого-то настоящее чувство – жалеют: дура, мол, втюрилась. (Смеется.) Дура! Я была такая счастливая дура! Он отпускал водителя, ловил машину, и мы катались по ночному городу на каком-то пропахшем бензином «Москвиче». Без конца целовались. «Спасибо тебе, – говорил он, – ты вернула меня на сто лет назад». Флэш-эпизоды… флэш… Меня ошеломлял его ритм… напор… Звонок вечером: «Утром летим в Париж» или: «Махнем на Канары. У меня есть три дня». В самолете летим первым классом, номер в самом дорогом отеле – под ногами стеклянный пол, там живые рыбы плавают. Живая акула! Но запомнилось на всю жизнь другое… Запомнился пропахший бензином «Москвич» на московской улице. И… как мы целовались… безумные… он доставал мне радугу из фонтана… Я влюбилась… (Молчит.) А он устраивал себе праздник жизни. Для себя… себе – да! Когда мне стукнет сорок, может быть, я его пойму… когда-нибудь пойму… Вот, например, он не любил часы, когда они шли, он любил их только тогда, когда они стояли. У него были свои отношения со временем… Во-о-от! Да-а-а… Обожаю кошек. Я люблю их за то, что они не плачут, никто не видел их слез. Если кто-то встретит меня на улице, подумает – богатая и счастливая! У меня есть все: большой дом, дорогая машина, итальянская мебель. И дочка, от которой я в восторге. У меня есть домработница, я не жарю сама котлеты и не стираю белье, могу купить все, что захочу… горы безделушек… Но я живу одна. И хочу жить одна! Мне ни с кем так не бывает хорошо, как с собой, я люблю говорить сама с собой… в первую очередь о себе… Отличная компания! Что я думаю… чувствую… Как вчера на это смотрела и как сегодня? То мне нравился синий цвет, а теперь лиловый… В каждом из нас столько всего происходит. В себе. С собой. Там, внутри, целый космос. Но мы на него почти не обращаем внимания. Все заняты внешним, наружным… (Смеется.) Одиночество – это свобода… Я каждый день теперь радуюсь, что я свободна: позвонит – не позвонит, приедет – не приедет? бросит – не бросит? – увольте! Не мои проблемы! Ну нет… не боюсь я одиночества… Я боюсь… кого я боюсь? Стоматолога я боюсь… (Неожиданно срывается.) Люди всегда врут, когда говорят о любви… и о деньгах… врут всегда и по-разному. Мне врать неохота… Ну неохота! (Успокаивается.) Извините… Ну извините… Я давно не вспоминала…
Сюжет? Вечный сюжет… Я хотела от него ребенка, я забеременела… Может, он испугался? Мужчины – они трусы! Бомж или олигарх – нет никакой разницы. На войну пойдут, революцию сделают, а в любви предадут. Женщина сильнее: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И по законам жанра… «А кони все скачут и скачут. А избы горят и горят»… «Мужчина не бывает старше четырнадцати лет», – впервые дала мне разумный совет моя мама. Помню, что… было так… Преподнесла эту новость ему перед своей командировкой, меня послали на Донбасс. А я любила командировки, любила запах вокзалов и аэропортов. Было интересно, когда возвращалась, рассказать ему, вместе обсудить. Я сейчас понимаю, что он не только открывал мне мир, удивлял и водил по умопомрачительным бутикам, одаривал, он еще учил меня думать. Не то чтобы у него была такая задача, это само собой получалось. Смотрела на него, слушала. Даже когда я думала о том, что мы будем вместе, я не собиралась навсегда поселиться за чьей-то широкой спиной и там беспечно гламурить. Балдеть! У меня имелся свой план жизни. Любила свою работу, быстро делала карьеру. Много ездила… И в тот раз… Я летела в шахтерский поселок – история страшная, но можно сказать, типичная для того времени: передовых шахтеров наградили к празднику магнитофонами, и ночью одну семью всю вырезали. Ничего не взяли – только магнитофон. Пластмассовый «панасоник»! Коробку! В Москве – шикарные машины, супермаркеты, а за Садовым кольцом – магнитофон был чудом. Местные «капиталисты», о которых мечтал мой редактор, ходили по улицам в окружении свиты автоматчиков. В туалет – с охранником. Но тут казино, и здесь казино, и еще раз казино. И уже какой-то частный ресторанчик. Все те же девяностые годы… Они – да… они… Три дня я была в командировке. Вернулась, и мы встретились. Сначала он обрадовался – у нас будет… скоро у нас будет ребенок! У него двое мальчиков, хотел девочку. Но слова… слова… они ничего не значат, за слова прячутся, ими защищаются. Глаза! Его глаза… В глазах появился страх: надо же что-то решать, менять свою жизнь. Тут… тут – заминка… Сбой. Ах-х-х! Есть мужчины, которые уходят сразу, они уходят с чемоданами, куда уложены еще сырые носки и рубашки… А есть такие, как он… Муси-пуси, трали-вали… «Что ты хочешь? Скажи, что я должен сделать? – спрашивал он меня. – Одно твое слово – и я разведусь. Ты только скажи». Я смотрела на него…
Я смотрела на него, и у меня холодели кончики пальцев, уже начала понимать, что счастливой с ним не буду. Маленькая и глупая… Сейчас я бы зафлажковала его, как волка на охоте, я умею быть хищницей и пантерой. Стальной нитью! Тогда я только страдала. Страдание – это танец, в нем и жест, и плач, и смирение. Как в балете… Но есть один секрет, простой секрет – неприятно быть несчастливой… унизительно… В очередной раз я лежала в больнице на сохранении. Звоню ему утром, что меня надо забрать, к обеду выпишут, а он сонным голосом: «Не могу. Сегодня не могу». И не перезвонил. В этот день он улетел с сыновьями в Италию, кататься на лыжах. Тридцать первое декабря… Завтра – Новый год. Вызвала такси… Город завалило снегом, я шла через сугробы, держась за пузо. Шла одна. Неправда! Вдвоем, мы уже были вдвоем. С моей дочкой… дочуркой… Моей! Обожаемой! Я уже любила ее больше всех на свете! Любила ли я его? Как в той сказке: жили они долго и счастливо и умерли в один день. Страдала, но не умирала: «Я не могу без него жить. Я без него умру». Я, наверное, еще не встретила такого мужчину… для таких слов… Таки да! Да-да-да! Но я научилась проигрывать, я не боюсь проигрывать… (Смотрит в окно.) У меня с тех пор нет больших историй… Были романчики… Я легко вхожу в секс, но это не то, это другое. Мне не нравится запах мужчин, не запах любви, а запах мужчин. В ванной комнате я всегда слышу, что здесь был мужчина… пусть у него самый дорогой парфюм, дорогие сигареты… Меня охватывает ужас, когда я подумаю, сколько надо трудиться, чтобы возле тебя был другой человек. Как в каменоломне! Забыть о себе, отказаться от себя, освободиться от себя. В любви нет свободы. Даже если вы найдете свой идеал, у него будут не те духи, он будет любить жареное мясо и смеяться над вашими салатиками, не там оставлять носки и брюки. И всегда надо страдать. Страдать?! Из-за любви… из-за этой композиции… Я не хочу больше делать эту работу, мне легче надеяться на себя. С мужчинами лучше дружить, иметь деловые отношения. Мне даже кокетничать редко охота, лень надевать эту маску, вступать в игру. Спа-салон, френч-маникюр, итальянское наращивание. Макияж. Боевой раскрас… Боже мой! Боже мой! Девочки из Тьмутараканска… Со всей России – в Москву! В Москву! Там ждут их богатые принцы! Они мечтают, что из золушек их превратят в принцесс. Ожидание сказки! Чуда! Я через это… уже проехала… Понимаю золушек, но мне их жалко. Рай без ада не бывает. Чтобы один рай… так не бывает… Но они еще этого не знают… в неведении…
Прошло семь лет, как мы расстались… Он мне звонит, звонит всегда почему-то ночью. У него все плохо, потерял много денег… говорит, что несчастлив… Была одна молодая девочка, сейчас другая. Предлагает: давай встретимся… Зачем? (Молчит.) Мне долго его не хватало, я выключала свет и часами сидела в темноте. Терялась во времени… (Молчит.) Потом… потом были только романчики… Но я… Я никогда не смогу влюбиться в мужчину без денег, из спального района. Из панельного гетто, из Гарлема. Я ненавижу тех, кто рос в нищете, с «нищенским» менталитетом, деньги значат для них так много, что им нельзя доверять. Не люблю бедных, униженных и оскорбленных. Всех этих Башмачкиных и Опискиных… героев великой русской литературы… Не доверяю им! Что? Что-то со мной не так… не вписываюсь в формат? Подождите… Никто не знает, как устроен этот мир… Мужчина мне нравится не за деньги, не только за деньги. Мне нравится весь образ успешного мужчины: как он ходит, как он водит машину, как говорит, как ухаживает – все у него другое. Все! Я таких выбираю… За это… (Молчит.) Он звонит… он несчастлив… Чего же он такого не видел и не может купить? Он… и его друзья… Деньги уже заработаны. Большие деньги. Сумасшедшие! Но за все свои деньги они не могут купить себе счастье, эту самую любовь. Любовь-морковь. У бедного студента она есть, а у них нет. Вот такая несправедливость! А им кажется, что они могут все: на личных самолетах летают в любую страну на футбольный матч, в Нью-Йорк – на премьеру мюзикла. Все – по карману! Затащить в постель самую красивую модель, привезти их в Куршавель – целый самолет! Все мы Горького в школе проходили, знаем, что такое купеческий загул – бить зеркала, лежать мордой в черной икре… купать девиц в шампанском… Но все надоело – скучно им. Московские турагентства предлагают таким клиентам особые развлечения. Например, два дня в тюрьме. В рекламе так и написано: «Хотите побыть два дня Ходорковским?». В милицейской машине с решетками их везут в город Владимир в самую страшную тюрьму – Владимирский централ, там переодевают в арестантскую робу, гоняют по двору с собаками и бьют резиновыми дубинками. Настоящими! Напихивают, как селедку, в грязную вонючую камеру с парашей. И они – счастливы. Новые ощущения! За три-пять тысяч долларов можно еще поиграть в «бомжей»: желающих переодевают, гримируют и разводят по московским улицам, они попрошайничают. Правда, рядом за углом дежурят охранники – собственные и от турфирмы. Есть предложения и покруче, для всей семьи: жена – проститутка, муж – сутенер. Знаю историю… Однажды больше всех за вечер сняла клиентов скромная, с советской внешностью жена богатейшего московского кондитера. И муж был счастлив! Есть развлечения, о которых нет сообщений в туристских рекламах… Совершенно секретно… Можно устроить ночью охоту на живого человека. Несчастному бомжу дают тысячу баксов: вот они «зеленые» – твои! Он сроду таких денег не видал! А за это – поработай зверем! Спасешься – значит, судьба, пристрелят – не взыщи. Все по-честному! Можно взять девочку на ночь… Дать волю фантазиям, низу живота, да так, что маркизу де Саду не снилось! Кровь, слезы и сперма! Это называется – счастьем… Счастье по-русски – попасть в тюрьму на два дня, чтобы потом выйти оттуда и понять, как у тебя все хорошо. Прекрасно! Купить не только машину, дом, яхту, депутатское кресло… но и человеческую жизнь… Побыть если не богом, то божком… сверхчеловеком! Ну да… И все! Все рожденные в СССР, еще все оттуда. С этим диагнозом. А такой… Такой наивный был мир… мечтали хорошего человека сделать… Обещали: «железной рукой загоним человечество в счастье…». В земной рай.
У меня был разговор с мамой… Она хочет уйти из школы: «Устроюсь гардеробщицей. Или сторожем». Вот она рассказывает детям о книгах Солженицына… о героях и праведниках… У нее горят глаза, а у детей – нет. Мама привыкла, что у детей раньше горели глаза от ее слов, а сегодняшние дети ей отвечают: «Нам даже интересно, как вы жили, но мы так жить не хотим. Мы не мечтаем о подвигах, мы хотим жить нормально». Проходят они «Мертвые души» Гоголя. Историю подлеца… Так нас в школе учили… А сегодня сидят в классе другие дети: «Почему это он подлец? Чичиков, как Мавроди, построил пирамиду из ничего. Это классная бизнес-идея!». Чичиков для них положительный герой… (Молчит.) Мою дочь мама воспитывать не будет… Я не дам. Если ее послушать, то ребенок должен смотреть только советские мультики, потому что они «человеческие». Но выключаешь мультик – и выходишь на улицу. В совершенно другой мир. «Как хорошо, что я уже старая, – призналась мама. – Могу дома сидеть. В своей крепости». А раньше она всегда хотела быть молодой: маска из сока помидоров, волосы ополаскиваем ромашкой…
По молодости я любила менять судьбу, дразнить ее. Сейчас нет, хватит. У меня растет дочь, я думаю о ее будущем. А это – деньги! Я хочу заработать их сама. Не хочу просить, ни у кого не хочу брать. Не хочу! Ушла из газеты в рекламное агентство – там платят больше. Хорошие деньги. Люди хотят жить красиво – это главное, что сегодня с нами происходит. И это волнует всех. Включите телевизор: на митинги собираются… ну пусть несколько десятков тысяч человек, а красивую итальянскую сантехнику покупают миллионы. Кого не спросишь, все перестраивают, ремонтируют свои квартиры и дома. Путешествуют. Никогда так в России не было. Мы рекламируем не только товары, но и потребности. Производим новые потребности – как жить красиво! Управляем временем… Реклама – зеркало русской революции… Моя жизнь забита до отказа. Замуж не собираюсь… Есть друзья, все они богатые люди. Один «растолстел» на нефти, второй – на минеральных удобрениях… Встречаемся, чтобы поговорить. Всегда в дорогом ресторане: мраморный холл, старинная мебель, дорогие картины на стенах… швейцары с осанкой русских помещиков… Я люблю находиться в красивых декорациях. Мой близкий друг тоже живет один и не хочет жениться, ему нравится быть одному в своем трехэтажном особняке: «Ночью спать вдвоем, а жить одному». Днем у него голова пухнет от котировок цветных металлов на Лондонской бирже. Медь, свинец, никель… В руках три мобильных телефона, трезвонят каждые тридцать секунд. Работает он по тринадцать-пятнадцать часов в сутки. Без выходных и отпусков. Счастье? Что такое счастье? Мир изменился… Сейчас одинокие – это успешные, счастливые люди, а не слабые или неудачники. У них есть все: деньги, карьера. Одиночество – это выбор. Я хочу находиться в пути. Я – охотница, а не смиренная дичь. Я сама выбираю. Одиночество очень похоже на счастье… Звучит, как откровение… Да? (Молчит.) Я даже не вам, а себе хотела все это рассказать…
О желании их всех убить, а потом о страхе, что тебе этого хотелось
Ксения Золотова – студентка, 22 года
На первую нашу встречу пришла ее мама. Призналась: «А Ксюша не захотела со мной пойти. Отговаривала и меня: “Мама, кому мы нужны? Им нужны только наши чувства, наши слова, а сами мы им не нужны, потому что они этого не пережили”». Она очень волновалась: то поднималась, чтобы уйти: «Я стараюсь не думать об этом. Больно повторять», то начинала рассказывать, и ее нельзя было остановить, но больше молчала. Чем я могла ее утешить? С одной стороны, прошу: «Не волнуйтесь. Успокойтесь», а с другой, – хочу, чтобы она вспомнила тот страшный день: 6 февраля 2004 года – теракт в Москве на Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В результате взрыва погибло 39 человек и 122 были госпитализированы.
Хожу и хожу по кругам боли. Не могу вырваться. В боли есть все – и мрак, и торжество, иногда я верю, что боль – мост между людьми, скрытая связь, а в другой раз в отчаянии думаю, что это – пропасть.
От той двухчасовой встречи в блокноте осталось несколько абзацев:
«…быть жертвой – это настолько унизительно… Просто стыдно. Я вообще не хочу с кем-либо об этом разговаривать, я хочу быть как все, а получается – одна и одна. Могу заплакать везде. Бывает, иду по городу и плачу. Мне один незнакомый мужчина сказал: “Что ты плачешь? Такая красивая – и плачешь”. Во-первых, красота никогда мне в жизни не помогала, а во-вторых, я чувствую эту красоту как предательство, она не соответствует тому, что у меня внутри…
…У нас две дочери – Ксюша и Даша. Мы жили скромно, но много ходили в музеи, в театры, много читали. Когда девочки были маленькие, папа им сказки сочинял. Мы хотели спасти их от грубой жизни. Я думала, что искусство спасает. А оно не спасло…
…В нашем доме живет одинокая старушка, ходит в церковь. Однажды она остановила меня, я решила – посочувствует, а она мне по-злому: “Задумайтесь, почему это с вами случилось? С вашими детьми?” Зачем… за что мне эти слова? Она покаялась, я думаю, она потом покаялась… Я никого не обманула, я никого не предала. У меня было только два аборта, это два моих греха… Я знаю… На улице часто подаю милостыню, пусть немного, сколько могу. Птиц зимой кормлю…»
В следующий раз они уже пришли вдвоем – мама и дочь.
Мать
– Может, для кого-то они герои? У них есть идея, они чувствуют себя счастливыми, умирая, они думают, что попадут в рай. И не боятся смерти. Я ничего про них не знаю: «Составлен фоторобот предполагаемого террориста…» – и все. А для них мы мишени, им никто не объяснил, что моя девочка не мишень, у нее есть мама, которая без нее жить не может, есть мальчик, который в нее влюблен. Разве можно убивать человека, которого любят? По-моему, это двойное преступление. Идите на войну, в горы, стреляйте там друг в друга, но почему в меня? В мою дочь? Нас убивают среди мирной жизни… (Молчит.) Я теперь боюсь сама себя, своих мыслей. Иногда хочется их всех убить, а потом страшно, что тебе этого хотелось.
Когда-то я любила московское метро. Самое красивое в мире! Это – музей! (Молчит.) После взрыва… Я видела, как люди заходили в метро, взявшись за руки. Страх долго не притуплялся… Страшно было в город выйти, у меня сразу давление поднималось. Ездили и высматривали подозрительных пассажиров. На работе только об этом и говорили. Что с нами творится, а, Господи? Стою на платформе, и рядом со мной молодая женщина с детской коляской, у нее черные волосы, черные глаза – не русская. Не знаю, какой она национальности – чеченка, осетинка? Кто? Я не выдержала и заглянула в коляску: а ребенок ли там? Не лежит ли там что-нибудь другое? У меня испортилось настроение из-за того, что мы сейчас будем ехать в одном вагоне: «Нет, – думаю, – пускай она едет, а я подожду следующий поезд». Ко мне подходит мужчина: «Почему вы заглянули в коляску?» – Я сказала ему правду. «Значит, и вы тоже».
…Вижу свернувшуюся в комочек несчастную девочку. Это моя Ксюша. Почему она здесь одна? Без нас? Нет, это невозможно, это не может быть правдой. Кровь на подушке… «Ксюша! Ксюшенька!» – она меня не слышит. Натянула на голову какую-то шапочку, чтобы я ничего не увидела, не испугалась. Моя девочка! Она мечтала стать детским врачом, а теперь у нее нет слуха, она была самая красивая девочка в классе… А теперь… ее личико… За что? Что-то вязкое, тягучее обволакивает меня, сознание просто раскалывается на мелкие кусочки. Мои ноги не хотят двигаться, ватные, меня выводят из палаты. Врач ругает: «Возьмите себя в руки, иначе больше к ней не пустим». Я беру себя в руки… Возвращаюсь в палату… Смотрит не на меня, а куда-то мимо, как будто меня не узнает. Есть выражение глаз страдающего животного, этот взгляд нельзя вынести. Дальше жить почти нельзя. Теперь она куда-то спрятала этот взгляд, надела на себя панцирь, но она где-то держит это все. Это все в нее впечаталось. Все время она там, где нас не было…
Целое отделение таких девочек… как ехали в вагоне, так и лежали… Много студентов, школьников. Я думала, что все матери выйдут на улицу. Все матери со своими детьми. Нас будут тысячи. Теперь я знаю, что моя девочка нужна только мне, только дома, только нам. Слушают… сочувствуют… но без боли! Без боли!
Возвращалась из больницы домой и лежала без всяких чувств. Дашенька была рядом, она взяла отпуск. Гладила меня по голове, как маленькую. Папа не кричал, не паниковал – и инфаркт. Мы оказались в аду… Опять – за что? Я всю жизнь своим девочкам подсовывала хорошие книжки, убеждала их, что добро сильнее зла, добро всегда побеждает. Но жизнь – это не книжки. Молитва матери со дня моря достанет? Неправда! Я предательница, я не смогла защитить их, как в детстве, а они надеялись на меня. Если бы моя любовь защищала, они были бы недосягаемы ни для какой беды, ни для каких разочарований.
Одна операция… вторая… Три! Вот Ксюша стала слышать на одно ушко… пальчики уже у нас работают… Жили на границе между жизнью и смертью, между верой в чудо и несправедливостью, и, хотя я медсестра, я поняла, что крайне мало знаю о смерти. Много раз ее видела, она проходила рядом. Поставить капельницу, послушать пульс… Все думают, что медики знают о смерти больше остальных, – ничего подобного. Был у нас один патологоанатом, он уже уходил на пенсию. «Что такое смерть?» – спросил он меня. (Молчит.) Прежняя жизнь превратилась в белое пятно… Вспоминалась одна Ксюша… Все до нюансов – как маленькая, смелая, забавная, она не боялась больших собак и хотела, чтобы всегда было лето. Как сияли ее глаза, когда она пришла домой и объявила нам, что поступила в мединститут. Без взяток, без репетиторов. Платить мы не могли, для нашей семьи это было непосильно. Как за день или два до теракта она берет старую газету и читает: если вы попали в какую-то экстремальную ситуацию в метро, надо делать то… то… Что именно, я уже забыла, но это была инструкция. И когда все случилось, пока не потеряла сознание, Ксюша эту статью вспоминала. А в то утро было так… Она как раз забрала свои сапожки из ремонта, надела уже пальто и стала их натягивать, а они не налезают… «Мама, я твои сапоги надену?» – «Бери». У нас с ней размер одинаковый. Мое материнское сердце ничего мне не подсказало… Я же могла ее удержать… В снах перед этим я видела большие звезды, какое-то созвездие. Никакой тревоги не появилось… Это моя вина, я раздавлена этой виной…
Если бы разрешили, то ночевала бы в больнице, была бы мамой для всех. Кто-то рыдает на лестнице… Кого-то обнять надо, с кем-то посидеть. Девочка из Перми плакала – мама далеко. У другой ножку раздавило… Ножка – это дороже всего! Всего дороже ножка твоего ребенка! Кто меня за это упрекнет?
Первые дни о теракте много писали в газетах, показывали репортажи по телевизору. Когда Ксюша увидела свою напечатанную фотографию, она выбросила эту газету…
Дочь
…Я многое не помню… Не держу в памяти! Не хочу! (Мать обнимает ее. Успокаивает.)
…Под землей все страшнее. Теперь я всегда ношу с собой фонарик в сумочке…
…Не было слышно ни плача, ни крика. Стояла тишина. Все лежали в общей куче… нет, не страшно… Потом стали шевелиться. В какой-то момент до меня дошло, что надо уходить отсюда, там же все химическое, и оно горит. Я еще искала свой рюкзак, где лежали мои конспекты, кошелек… Шок… шок был… боли не чувствовала…
…Женский голос звал: «Сережа! Сережа!». Сережа не отзывался… Несколько человек остались сидеть в вагоне в неестественных позах. Один мужчина висел на стойке, как червяк. Я боялась смотреть в ту сторону…
…Шла, и меня качало… Отовсюду слышалось: «Помогите! Помогите!». Кто-то передо мною двигался как сомнамбула, то медленно вперед пройдет, то назад. Нас с ним все обгоняли.
…Наверху ко мне подбежали две девушки, какую-то тряпочку прилепили на лоб. Мне было почему-то ужасно холодно. Дали стульчик, я села. Видела, как они просили у пассажиров ремни и галстуки, и перетягивали ими раны. Дежурная станции кому-то кричала в телефон: «Что вы хотите? Люди выходят из тоннеля и тут же умирают, поднимаются на платформу и умирают…» (Молчит.) Зачем вы нас мучаете? Мне маму жалко. (Молчит.) Все уже к этому привыкли. Включат телевизор, послушают, и пошли пить кофе…
Мать
– Я выросла в глубоко советское время. Самое-самое. Родом из СССР. А новая Россия… я еще ее не понимаю. Не могу сказать, что хуже – то, что сейчас, или история КПСС? У меня в голове советский образ, та матрица, я половину жизни провела при социализме. Застряло это во мне. Не выбить. И хочу ли я с этим расстаться – не знаю. В то время жить было плохо, а теперь страшно. Утром разбегаемся: мы на работу, девочки на учебу, и целый день трезвоним друг другу: «Что там у тебя? Во сколько едешь домой? Каким транспортом?» Собираемся все дома вечером, и только тогда у меня наступает облегчение или, по крайней мере, передышка. Я всего боюсь. Дрожу. Девочки ругают: все ты, мама, преувеличиваешь… Я нормальная, но мне нужна эта защита, эта оболочка – мой дом. У меня папы рано не стало, может, поэтому я такая ранимая, тем более что папа меня сильно любил. (Молчит.) Наш папочка был на войне, два раза горел в танке… По войне прошагал – уцелел. Пришел домой – убили. В подворотне.
Училась я по советским книгам, совершенно другому нас учили. Просто вам для сравнения… В этих книгах о первых русских террористах писали, что они герои. Мученики. Софья Перовская, Кибальчич… Погибали они за народ, за святое дело. Бросили бомбу в царя. Эти молодые люди часто были из дворян, из хороших семей… Почему мы удивлены, что такие люди сегодня есть? (Молчит.) На уроках истории, когда проходили Великую Отечественную войну, учитель нам рассказывал о подвиге белорусской партизанки Елены Мазаник, которая убила гауляйтера Беларуси Кубе, прикрепив бомбу к кровати, где он спал с беременной женой. А в соседней комнате, за стенкой, находились их маленькие дети… Сталин лично наградил ее Звездой Героя. До конца жизни она ходила в школы и на уроках мужества вспоминала о своем подвиге. Ни учитель… никто… Никто не говорил нам, что за стенкой спали дети… Мазаник была няней этих детей… (Молчит.) После войны совестливым людям стыдно вспоминать о том, что им приходилось делать на войне. Папа наш страдал…
На «Автозаводской» взорвался мальчик-смертник. Чеченский мальчик. От родителей узнали о нем, что он много читал. Любил Толстого. Он вырос на войне: бомбежки, артобстрелы…. видел, как погибли его двоюродные братья – и в четырнадцать лет сбежал в горы к Хаттабу. Хотел отомстить. Наверное, это был чистый мальчик, с горячим сердцем… Над ним смеялись: ха-ха… дурак малолетний… А он научился стрелять лучше всех и бросать гранаты. Мама его нашла и притащила обратно в село, она хотела, чтобы он окончил школу и стал плиточником. Но через год он снова исчез в горах. Его научили взрывать, и он приехал в Москву… (Молчит.) Если бы он убивал за деньги, было бы все понятно, но он убивал не за деньги. Этот мальчик мог броситься под танк и взорвать роддом…
Кто я? Мы из толпы… всегда в толпе… Наша жизнь будничная, незаметная, хотя мы стараемся жить. Любим, страдаем. Только никому это не интересно, книг про нас не пишут. Толпа… масса. Меня никто не расспрашивал о моей жизни, поэтому я с вами так разговорилась. «Мама, прячь душу», – это мои девочки. Все время учат меня. Молодые живут в более жестком мире, чем был советский мир… (Молчит.) Такое ощущение, что жизнь как будто уже не для нас, не для таких, как мы, она где-то там. Где-то… Что-то происходит, но не с нами… Я не хожу в дорогие магазины, стесняюсь: там стоят охранники, они смотрят на меня с презрением, потому что одеваюсь я на рынке. В китайский ширпотреб. Езжу в метро, смертельно боюсь, но езжу. Те, кто побогаче, в метро не катаются. Метро для бедных, а не для всех, опять у нас появились князья и бояре и тягловый народ. Забыла уже, когда в кафе сидела, оно мне давно не по карману. И театр уже роскошь, а когда-то я не пропускала ни одной премьеры. Обидно… очень обидно… Какая-то серость из-за того, что мы не допущены в этот новый мир. Муж приносит книги из библиотеки сумками, это единственное, что нам по-прежнему доступно. Можем еще побродить по старой Москве, по нашим любимым местам – Якиманка, Китай-город, Варварка. Это наш панцирь, теперь каждый наращивает себе панцирь. (Молчит.) Нас учили… У Маркса написано: «Капитал – это кража». И я с ним согласна.
Я знала любовь… Всегда чувствую: любил человек или нет, с тем, кто любил, у меня интуитивная связь. Без слов. Вспомнила сейчас первого мужа… Любила? – Да. – Сильно? – Безумно. Мне было двадцать лет. В голове одни мечты. Жили с его красивой старой мамой, она меня ревновала: «Ты такая же красивая, как я в молодости». Цветы, которые он дарил мне, она забирала в свою комнату. Я ее потом поняла, может, только сейчас я ее поняла, когда знаю, как люблю своих девочек, какая может быть тесная связь с ребенком. Меня психолог хочет убедить: «У вас гипертрофированная любовь к детям. Так нельзя любить». Да нормальная у меня любовь… Любовь! Моя жизнь… вот моя-моя… Никто не знает рецепта… (Молчит.) Муж меня любил, но у него была философия: невозможно прожить жизнь с одной женщиной, надо познать других. Я много думала… плакала… Смогла и отпустила. Осталась с маленькой Ксюшей одна. Второй муж… Был он мне как брат, а я всегда мечтала о старшем брате. Растерялась. Не знала, как мы будем с ним жить, когда он сделал мне предложение. Чтобы рожать детей, в доме должно пахнуть любовью. Перевез он нас с Ксюшей к себе: «Давай попробуем. Не понравится, я отвезу вас обратно». И как-то у нас с ним наладилось. Любовь бывает разная: бывает сумасшедшая, а бывает похожа на дружбу. На дружеский союз. Мне нравится так думать, потому что мой муж очень хороший человек. Пусть я не жила в шелках…
Родила Дашеньку… Мы никогда не расставались с нашими детьми, вместе ездили летом в деревню к бабушке в Калужскую область. Там была речка. Луг и лес. Бабушка пекла пироги с вишнями, которые дети и сейчас вспоминают. Никогда мы не ездили к морю, это была наша мечта. Как известно, честным трудом больших денег не заработаешь: я – медсестра, муж – научный сотрудник в институте радиологической техники. Но девочки знали, что мы их любим.
Многие боготворят перестройку… Все на что-то надеялись. Мне любить Горбачева не за что. Помню разговоры у нас в ординаторской: «Закончится социализм, а что будет после него?» – «Закончится плохой социализм, и будет хороший социализм». Ждали… читали газеты… Скоро муж потерял работу, их институт закрыли. Безработных – море, все с высшим образованием. Появились киоски, затем супермаркеты, в которых было все, как в сказке, а купить не на что. Зайду – выйду. Покупала два яблока и один апельсин, когда дети болели. Как с этим смириться? Согласиться с тем, что так оно теперь и будет – как? Стою в очереди в кассу, передо мной мужчина с тележкой, там у него и ананасы, и бананы… Так бьет по самолюбию. От этого люди сегодня какие-то все усталые. Не дай бог родиться в СССР, а жить в России. (Молчит.) Ни одна моя мечта в жизни не исполнилась…
Когда дочь вышла в другую комнату, говорит мне полушепотом.
Сколько лет? Три года уже прошло после теракта… нет, больше… Моя тайна… Представить себе не могу, что лягу с мужем в постель, и мужская рука до меня дотронется. У нас с мужем никаких отношений все эти годы, я жена и не жена, он меня уговаривает: «Тебе станет легче». Подруга, которая все знает, она тоже меня не понимает: «Ты обалденная, ты сексуальная. Посмотри на себя в зеркало, какая ты красивая. Какие волосы…» У меня такие волосы от рождения, я про красоту свою забыла. Когда человек тонет, он весь пропитывается водой, так я вся пропитана болью. Как будто я отторгла свое тело, и осталась одна душа…
Дочь
…Лежали убитые, у них в карманах без конца звонили мобильники… Никто не решался подойти и ответить.
…Сидела на полу окровавленная девушка, какой-то парень предлагал ей шоколадку…
…Куртка моя не сгорела, но она вся была оплавленная. Врач осмотрела меня и сразу сказала: «Ложитесь на носилки». Я еще сопротивлялась: «Сама поднимусь и дойду до “скорой”», она даже прикрикнула на меня: «Ложитесь!». В машине я потеряла сознание, пришла в себя в реанимации…
…Почему я молчу? Я дружила с одним парнем, мы даже… он мне колечко подарил… И я ему рассказала, что со мной было… Может, это абсолютно не связано, но мы расстались. У меня это отложилось, я поняла, что не надо никаких откровений. Тебя взорвали, ты выжил, ты стал еще более уязвимым и хрупким. На тебе клеймо пострадавшего, я не хочу, чтобы на мне было видно это клеймо…
…Наша мама любит театры, иногда ей удается поймать дешевый билетик: «Ксюша, мы идем в театр». Я отказываюсь, они идут вдвоем с папой. На меня театр уже не действует…
Мать
– Человек не знает, почему это именно с ним случилось, поэтому хочется быть как все. Спрятаться. Это все сразу не отключается…
Этот мальчик-смертник… и другие… Они спустились с гор и пришли к нам: «Как нас убивают, вы не видите. Попробуем это сделать у вас». (Молчит.)
Я думаю… Хочу вспомнить, когда я была счастливой. Надо вспомнить… Я была счастлива только один раз в жизни, когда дети были маленькие…
Звонок в дверь – Ксюшины друзья… Посадила их на кухне. У меня от мамы: первое – это накормить гостей. Одно время молодые перестали говорить о политике, а сейчас снова говорят. Стали спорить о Путине… «Путин – это клон Сталина…», «Это надолго…», «Это жопа всей стране…», «Это – газ, это – нефть…». Вопрос: кто Сталина сделал Сталиным? Проблема вины…
Судить надо только тех, кто расстреливал, пытал или:
и того, кто написал донос…
кто забрал у родственников ребенка «врага народа» и сдал его в детдом…
шофера, перевозившего арестованных…
уборщицу, замывавшую полы после пыток…
начальника железной дороги, направлявшего товарняки с политзаключенными на Север…
портных, кроивших полушубки, в которых ходили лагерные охранники. Врачей, чинивших им зубы, снимавших кардиограмму, чтобы они лучше несли свою службу…
тех, кто молчал, когда другие на собраниях кричали: «Собакам – собачья смерть!».
Со Сталина перешли на Чечню… И опять все то же самое: кто убивает, взрывает – да, виноват, а тот, кто делает бомбы, снаряды на заводах, шьет военную форму, учит солдат стрелять… представляет к наградам… Разве они виноваты? (Молчит.) Мне хотелось закрыть собой Ксюшу, куда-нибудь увести ее от этих разговоров. Она сидела с большими от ужаса глазами. Смотрела на меня… (Поворачивается к дочери.) Ксюшенька, я не виновата, и наш папа не виноват, он сейчас преподает математику. Я – медсестра. К нам в больницу привозили раненых наших офицеров из Чечни. Мы их лечили, потом, конечно, они уезжали назад. На войну. Среди них мало кто хотел возвращаться, многие открыто признавались: «Не хотим воевать». Я – медсестра, я всех спасаю…
Есть таблетки от зубной боли, от головной, а от моей нет. Психолог схему мне нарисовал: утром натощак полстакана зверобоя, двадцать капель настойки боярышника, тридцать – пиона… Весь день расписан. Пила я все это. И к какому-то китайцу ходила… Не помогло… (Молчит.) Отвлекают ежедневные дела, поэтому не сходишь с ума. Рутина лечит: постирать, погладить, зашить…
Во дворе нашего дома стоит старая липа… Я иду – это наверное, через пару лет было – и чувствую: липа цветет. Запах… А до того все как-то не остро было… не так… Краски погашены, звуки… (Молчит.)
Подружилась в больнице с одной женщиной, она ехала не во втором вагоне, как Ксюша, а в третьем. Ходила уже на работу, и казалось, все пережила. И что-то случилось – хотела выброситься с балкона, прыгала из окна. Родители заковали дом в решетки, жили как в клетке. Травилась газом… Муж от нее ушел… Не знаю, где она сейчас? Кто-то один раз видел ее на станции «Автозаводская». Ходила по перрону и кричала: «Берем правой рукой три горсти земли и бросаем на гроб. Берем… бросаем». Кричала, пока санитары за ней не приехали…
Думала, что это Ксюша мне рассказала… Возле нее стоял мужчина и так близко, что она даже хотела сделать ему замечание. Не успела. Потом получилось так, что он закрыл ее, много Ксюшиных осколков попало в него. Неизвестно, остался ли он жив? Я о нем часто вспоминаю… ну просто перед глазами он у меня стоит… А Ксюша не помнит… Откуда я это взяла? Наверное, я придумала его себе сама. Но кто-то же мне ее спас…
Я знаю лекарство… Ксюше надо быть счастливой. Ее можно вылечить только счастьем. Нужно что-то такое… Были мы на концерте Аллы Пугачевой, которую всей семьей любим. Я хотела к ней подойти или записочку послать: «Спойте для моей девочки. Скажите, что это только для нее одной». Чтобы она почувствовала себя королевой… поднять ее высоко-высоко… Она увидела ад и должна увидеть рай. Чтобы опять мир для нее пришел в равновесие. Мои иллюзии… мечты… (Молчит.) Я ничего не смогла своей любовью сделать. Кому мне написать письмо? Кого попросить? Вы заработали на чеченской нефти, на русских кредитах, дайте мне куда-нибудь ее увезти. Пусть она посидит под пальмой, на черепаху посмотрит, чтобы забыла ад. У нее в глазах все время ад. Света нет, света я в них не вижу.
Стала ходить в церковь… Верю ли я? Не знаю. Но хочется с кем-то поговорить. Один раз батюшка проповедь читал, что в большом страдании человек или приближается к Богу, или удаляется, и если он отдаляется от Бога, нельзя его корить, это от негодования, от боли. Все про меня.
Смотрю на людей со стороны, я не чувствую с ними родственной связи… Я смотрю так, как будто я уже не человек… Вы писательница, вы меня поймете: слово мало имеет общего с тем, что происходит внутри, раньше я редко общалась с тем, что у меня внутри. Сейчас как на рудниках живу… Переживаю, думаю… все время что-то в себе ворошу… «Мама, прячь душу!» Нет, дорогие девочки, я не хочу, чтобы мои чувства, мои слезы просто так исчезли. Без следа, без знака. Меня это больше всего беспокоит. Все, что я пережила – это не то, что хочется только детям оставить. Я хочу это передать и другому человеку, чтобы оно где-то лежало, и каждый мог взять.
3 сентября – День памяти жертв терроризма. Москва в трауре. На улицах много инвалидов, молодые женщины в черных платках. Горят поминальные свечи: на Солянке, на площади перед Театральным центром на Дубровке, возле метро «Парк культуры», «Лубянка», «Автозаводская», «Рижская»…
Я тоже в этой толпе. Спрашиваю – слушаю. Как мы с этим живем?
Теракты в столице были в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011 годах.
– Ехала на работу, вагон, как всегда, был переполнен. Взрыва не слышала, но почему-то все вдруг стало в оранжевом цвете, и тело онемело, хотела пошевелить рукой – не смогла. Подумала, что со мной случился инсульт, и тут же потеряла сознание… А когда пришла в себя, вижу – по мне ходят какие-то люди, ходят бесстрашно, как будто я мертвая. Испугалась, что раздавят, и подняла руки. Меня кто-то поднял. Кровь и мясо – такая была картина…
– Сыну четыре года. Ну как ему сказать, что папа погиб? Он ведь не понимает, что такое смерть? Боюсь, чтобы не подумал – папа нас бросил. Пока папа у нас в командировке…
– Часто вспоминаю… Возле больницы стояли целые очереди желающих сдать кровь, с сетками апельсинов. Умоляли замученных нянечек: «Возьмите у меня фрукты и передайте любому человеку. Скажите, что еще им надо?».
– Ко мне приезжали девчонки с работы, начальник машину им давал. А никого видеть не хотелось…
– Война нужна, может, люди появятся. Мой дед говорил, что людей он встречал только в войну. Сейчас доброты мало.
– Две незнакомые женщины обнимались и плакали возле эскалатора, лица в крови, до меня не доходило, что это кровь, я думала: краска от слез размазалась. Вечером все это еще раз увидела по телевизору, и вот тогда до меня дошло. Там, на месте, не понимала, смотрела на кровь и не верила.
– Сначала думаешь, что ты можешь спуститься в метро, заходишь в вагон смело, но проезжаешь одну-две остановки и выскакиваешь в холодном поту. Особенно страшно, когда поезд остановится на несколько минут в тоннеле. Каждая минута растягивается, сердце начинает болтаться на одной ниточке…
– В каждом кавказце мерещится террорист…
– Как вы думаете: русские солдаты в Чечне не совершали преступлений? У меня брат там служил… Такое рассказывал про славную русскую армию… Держали чеченских мужчин в ямах, как зверей, требовали у родственников выкуп. Пытали… мародерствовали… Теперь парень спивается.
– Госдепу продался? Провокатор! Кто превратил Чечню в гетто для русских? Русских выгоняли с работы, отбирали квартиры, машины. Не отдашь – зарежут. Русских девушек насиловали только за то, что они русские.
– Ненавижу чеченов! Если бы не мы, русские, они бы до сих пор сидели в горах, в пещерах. Журналистов, которые за чеченов – тоже ненавижу! Либерасты! (Взгляд, полный ненависти, в мою сторону – я записываю разговор.)
– Разве судили русских солдат за убийство немецких солдат во время Отечественной войны? А убивали по-всякому. Партизаны на кусочки пленных полицаев резали… Послушайте ветеранов…
– Во время первой чеченской войны, это при Ельцине, по телевизору все честно показывали. Мы видели, как плакали чеченские женщины. Как русские матери ходили по селам и искали пропавших без вести своих мальчиков. Их никто не трогал. Такой ненависти, как сейчас, еще ни у кого не было – ни у них, ни у нас.
– То пылала одна Чечня, теперь весь северный Кавказ. Везде строят мечети.
– Геополитика пришла к нам в дом. Россия распадается… Скоро от империи останется одно Московское княжество…
– Ненавижу!!!
– Кого?
– Всех!
– Мой сын был еще семь часов живой, его запихнули в целлофановый мешок и положили в автобус с трупами… Привезли нам казенный гроб, два венка. Гроб из каких-то опилок, как картонный, его подняли – он развалился. Венки бедные, жалкие. Все покупали сами. Государству на нас, смертных, наплевать, пусть и оно примет мой плевок – хочу уехать из этой ё-ной страны. Подали с мужем документы на иммиграцию в Канаду.
– Раньше Сталин убивал, а теперь бандиты. Свобода?
– У меня черные волосы, черные глаза… Я – русская, православная. Зашли с подругой в метро. Нас остановила милиция, меня отвели в сторону: «Снимите верхнюю одежду. Предъявите документы». На подругу – ноль внимания, она блондинка. Мама говорит: «Покрась волосы». А мне стыдно.
– Русский человек крепок на трех сваях – «авось», «небось» и «как-нибудь». Первое время все тряслись от страха, а через месяц я обнаружила в метро под скамейкой подозрительный сверток и еле заставила дежурную позвонить в милицию.
– В аэропорту Домодедово таксисты-суки после теракта взвинтили цены. Заоблачно. На всем бабло делают. Б…дь, вытаскивать из машин – и мордой о капот!
– Одни валялись в лужах крови, а другие их снимали на мобилы. Щелкали. Тут же вывесили фото в ЖЖ. Офисному планктону перчика не хватает.
– Сегодня – они, завтра – мы. И все молчат, все с этим согласились.
– Постараемся, сколько можно, помогать усопшим нашими молитвами. Просить милости Божией…
Тут же на импровизированной сцене школьники дают концерт. Их привезли автобусами. Подхожу ближе.
– Мне Бен Ладен интересен… Аль-Каида – глобальный проект…
– Я за индивидуальный террор. Точечный. Например, против полицейских, чиновников…
– Террор – это плохо или хорошо?
– Это теперь добро.
– Надоело, блин, стоять. Когда нас отпустят?
– Анекдотец прикольный… Террористы осматривают достопримечательности в Италии. Дошли до Пизанской башни. Смеются: «Дилетанты!».
– Террор – это бизнес…
жертвоприношение, как в древние времена…
мейнстрим…
разминка перед революцией…
что-то личное…
О старухе с косой и красивой девушке
Александр Ласкович – солдат, предприниматель, эмигрант, 21–30 лет
Смерть похожа на любовь
– В детстве у меня во дворе было дерево… Старый клен… Я с ним разговаривал, это был мой друг. Умер дедушка, я долго плакал. Проревел весь день. Мне было пять лет, и я понял, что умру, и все умрут. Меня охватил ужас: все умрут раньше, чем я, и я останусь один. Дикое одиночество. Мама меня жалела, а папа подошел и сказал: «Вытри слезы. Ты – мужчина. А мужчины не плачут». А я не знал еще – кто я? Мне никогда не нравилось быть мальчиком, я не любил играть «в войну». Но меня никто не спрашивал… все выбрали без меня… Мама мечтала о девочке, папа, как всегда, хотел аборт.
Первый раз я хотел повеситься в семь лет… Из-за китайского тазика… Мама сварила варенье в китайском тазике и поставила на табуретку, а мы с братом ловили нашу кошку. Муська тенью пролетела над тазиком, а мы нет… Мама молодая, папа на военных учениях. На полу лужа варенья… Мама проклинает судьбу офицерской жены и то, что жить приходится у черта на куличках… на Сахалине… где зимой снега насыпает до десяти метров, а летом – лопухи одного роста с ней. Она хватает отцовский ремень и выгоняет нас на улицу. «Мама, на дворе дождь, а в сарае муравьи кусаются». – «Пошли! Пошли! Вон!» Брат побежал к соседям, а я совершенно серьезно решил повеситься. Залез в сарай, нашел в корзине веревку. Придут утром, а я вишу: вот, суки, вам! Тут в дверь втискивается Муська… Мяу-мяу… Милая Муська! Ты пришла меня пожалеть. Я обнял ее, прижался, и так мы с ней просидели до утра.
Папа… Что такое был папа? Он читал газеты и курил. Замполит авиаполка. Мы перемещались из одного военного городка в другой, жили в общежитиях. Длинные кирпичные бараки, везде одинаковые. Все они пахли гуталином и дешевым одеколоном «Шипр». Так всегда пахло и от папы. Мне – восемь лет, брату – девять, папа возвращается со службы. Скрипит портупея, скрипят хромовые сапоги. В эту минуту нам с братом превратиться бы в невидимок, исчезнуть с его глаз! Папа берет с этажерки «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, в нашем доме – это «Отче наш». «Что было дальше?» – начинает он с брата. – «Ну самолет упал. А Алексей Мересьев пополз… Раненый. Съел ежа… завалился в канаву…» – «В какую еще канаву?» – «В воронку от пятитонной бомбы», – подсказываю я. «Что? Это было вчера. – Мы оба вздрагиваем от командирского голоса папы. – Сегодня, значит, не читали?» Картинка: бегаем вокруг стола, как три клоуна – один большой, два маленьких, мы со спущенными штанами, папа – с ремнем. (Пауза.) Все-таки у нас у всех киношное воспитание, да? Мир в картинках… Не из книг, а из фильмов мы выросли. И из музыки… Книги, которые приносил в дом папа, у меня до сих пор вызывают аллергию. У меня температура поднимается, когда я вижу у кого-нибудь на полке «Повесть о настоящем человеке» или «Молодую гвардию». О! Папа мечтал бросить нас под танк… Он хотел, чтобы мы скорее стали взрослыми и попросились добровольцами на войну. Мир без войны папа не представлял. Нужны герои! Героями становятся только на войне, и если бы там кому-то из нас отсекло ноги, как Алексею Мересьеву, он был бы счастлив. Его жизнь не зря… Все отлично! Жизнь удалась! И он… я думаю, что он сам бы привел приговор в исполнение, своей рукой, если бы я нарушил присягу, если бы дрогнул в бою. Тарас Бульба! «Я тебя породил, я тебя и убью». Папа принадлежал идее, он не человек. Родину положено любить безоглядно. Безоговорочно! Я это слышал все детство. Жизнь дана только для того, чтобы Родину защищать… Но меня никак не удавалось запрограммировать на войну, на щенячью готовность заткнуть собой дырку в плотине или лечь пузом на мину. Я не любил смерть… Я давил божьих коровок, на Сахалине летом божьих коровок – как песка. Давил их, как все. Пока однажды не испугался: чего это я столько маленьких красных трупиков наделал? Муська родила недоношенных котят… Я их поил, выхаживал. Появилась мама: «Они что – мертвые?». И они умерли после ее слов. Никаких слез! «Мужчины не плачут». Папа дарил нам военные фуражки, по выходным ставил пластинки с военными песнями. Мы с братом сидели и слушали, а по щеке у папы сползала «скупая мужская слеза». Когда он был пьяный, всегда рассказывал нам одну и ту же историю: как «героя» окружили враги, и он отстреливался до последнего патрона, а последний патрон выпустил в свое сердце… В этом месте отец всегда по-киношному падал и всегда задевал ногой табуретку, и она тоже падала. Тут было смешно. Отец трезвел и обижался: «Ничего нет смешного, когда герой умирает».
Я не хотел умирать… В детстве очень страшно думать о смерти… «Мужчина должен быть готов», «священный долг перед Родиной»… «Что? Ты не будешь знать, как разобрать и собрать автомат Калашникова?» – нет для папы это было невозможно. Позор! О! Как я хотел молочными зубами вгрызться в папины хромовые сапоги, биться и кусаться. За что он меня – по голой заднице перед соседским Витькой?! И еще «девчонкой» обзывает… А я не рожден для танца смерти. У меня классический ахилл… я хотел танцевать в балете… Папа служил великой идее. Как будто трепанация черепа у всех была, гордились тем, что жили без штанов, но с винтовкой… (Пауза.) Мы выросли… мы давно выросли… Бедный папа! Жизнь за это время сменила жанр… Там, где играли оптимистическую трагедию, сейчас разыграют комедию и боевик. Ползет-ползет, шишки грызет… Угадайте, кто это? – Алексей Мересьев. Любимый папин герой… «Дети в подвале играли в гестапо / Зверски замучен сантехник Потапов…» Это все, что осталось от папиной идеи… А сам папа? Это уже старый человек, совсем не готовый к старости. Ему бы радоваться каждой минуте, на небо смотреть, на деревья. Пусть бы в шахматы играл или марки собирал… спичечные коробки… Сидит у телевизора: заседание парламента – левые, правые, митинги, демонстрации с красными флагами. Папа – там! Он – за коммунистов. Соберемся за ужином… «У нас была великая эпоха!» – наносит он мне первый удар и ждет ответа. Папе нужна борьба, иначе жизнь утрачивает смысл. Только – на баррикады и со знаменем! Вот мы смотрим с ним телевизор: японский робот достает из песка ржавые мины… одну… вторую… Торжество науки и техники! Человеческого разума! Правда, папе за державу обидно, что это не наша техника. Но тут… Неожиданно к концу репортажа у нас на глазах робот делает ошибку и подрывается. Как говорится, увидел бегущего сапера – беги за ним. У робота такой программы нет. Папа в недоумении: «Гробить импортную технику? У нас что, личного состава не хватает?». У него свои отношения со смертью. Папа жил для того, чтобы выполнить любое задание партии и правительства. Жизнь стоила меньше железки.
На Сахалине… Мы жили возле кладбища. Почти каждый день я слышал похоронную музыку: желтый гроб – умер кто-то в поселке, обитый красным кумачом – летчик погиб. Красных гробов было больше. После каждого красного гроба папа приносил в дом магнитофонную кассету… Приходили летчики… На столе дымились пожеванные папиросные «бычки», блестели запотевшие стаканы с водкой. Крутилась кассета: «Я – борт такой-то… Движок стал…» – «Идите на втором». – «И этот отказал». – «Попытайтесь запустить левый двигатель». – «Не запускается…» – «Правый…» – «Правый тоже…» – «Катапультируйтесь!» – «Фонарь кабины не сбрасывается… Твою мать! Э-э-э… ы-ы-ы…» Я долго представлял смерть как падение с немыслимой высоты: э-э-э… ы-ы-ы… Кто-то из молодых летчиков однажды спросил у меня: «Что ты, малыш, знаешь о смерти?» Я удивился. Мне казалось, что я это знал всегда. Хоронили мальчика из нашего класса… разжег костер и набросал туда патронов… Так рвануло! Вот он… лежит в гробу и как будто притворяется, все смотрят на него, а он недоступен никому… Я не мог отвести глаз… как будто я это знал всегда, родился уже с этим знанием. Может, я уже когда-то умирал? Или мама, когда я еще жил в ней, сидела у окна и смотрела, как везли на кладбище: красный гроб, желтый гроб… Я был загипнотизирован смертью, в течение дня я думал о ней десятки раз. Много раз думал. Смерть пахла папиросными «бычками», недоеденными шпротами и водкой. Это не обязательно беззубая старуха с косой, а может, это красивая девушка? И я ее увижу.
Восемнадцать лет… Всего хочется: женщин, вина, путешествовать… Загадок, тайн. Я придумывал себе разную жизнь, представлял. И в этот момент тебя подлавливают… Ё-моё! Мне до сих пор хочется раствориться в воздухе, исчезнуть, чтобы нигде меня не нашли. Не оставить никаких следов. Уйти куда-нибудь лесником, беспаспортным бомжем. Постоянно наваливается один и тот же сон: меня опять забирают в армию – перепутали документы, и снова надо идти служить. Кричу, отбиваюсь: «Я уже служил, скоты! Отпустите меня!». Схожу с ума! Жуткий сон… (Пауза.) Я не хотел быть мальчиком… Не хотел быть солдатом, война мне была неинтересна. Папа сказал: «Ты должен, наконец, стать мужчиной. А то девочки подумают, что ты импотент. Армия – школа жизни». Надо идти учиться убивать… У меня, в моем воображении это выглядело так: барабанный бой, боевые ряды, хорошо сделанные орудия убийства, свист горячего свинца и… разбитые головы, вышибленные глаза, оторванные конечности… вой и стоны раненых… И крики победителей… тех, кто умеет убивать лучше… Убить! Убить! Стрелой, пулей, снарядом или ядерной бомбой, но все равно убить… убить другого человека… Я не хотел. И я знал, что в армии из меня будут делать мужчину другие мужчины. Или меня убьют, или я кого-то убью. Брат ушел с розовой ватой в голове, романтиком, а вернулся после службы испуганным человеком. Каждое утро его били ногой в лицо. Он лежал на нижних нарах, старослужащий – наверху. Целый год тебе пяткой в морду! Попробуй остаться тем, кем ты был. А если раздеть человека догола – сколько можно всего придумать? Много чего… Например, сосать собственный член, а все будут смеяться. Кто не будет смеяться, сам будет сосать… А зубной щеткой или лезвием для бритья драить солдатский туалет? «Должно блестеть, как у кота яйца». Ё-моё! Есть тип людей, которые не могут быть мясом, а есть другой тип, готовый быть только мясом. Человеческие лепешки. Я понял, что должен собрать всю свою страсть, чтобы выжить. Записался в спортивную секцию – хатха-йога, каратэ. Учился бить – в лицо, между ног. Как позвоночник переломить… Зажигал спичку, клал ее на ладонь и дожидался, пока она догорит. Конечно, я не выдерживал… Плакал. Я помню… помню… (Пауза.) Гуляет по лесу дракон. Встретил медведя. «Медведь, – говорит дракон, – у меня в восемь часов ужин. Приходи – я тебя съем». Идет дальше. Бежит лиса. «Лиса, – говорит дракон, – у меня в семь утра завтрак. Приходи – я тебя съем». Идет дальше. Скачет заяц. «Стой, заяц, – говорит дракон, – у меня в два часа обед. Приходи – я тебя съем». – «У меня вопрос», – поднял заяц лапу. – «Давай». – «Можно не приходить?» – «Можно. Я тебя вычеркиваю из списка». Но мало кто способен задать такой вопрос… Бляааа!
Проводы… Два дня дома жарили, варили, тушили, лепили, пекли. Купили два ящика водки. Собрались все родственники. «Не посрами, сынок!» – поднял первую рюмку отец. И пошло… Ё-моё! Знакомый текст: «пройти испытания»… «с честью выдержать»… «проявить мужество»… Утром возле военкомата – гармонь, песни и водка в пластмассовых стаканчиках. А я не пью… «Больной, что ли?» Перед отправкой на станцию – осмотр личных вещей. Заставили все выложить из сумок, ножи-вилки и еду забрали. Дома дали немного денег… Мы их запихивали поглубже в носки и трусы. Ё-моё! Будущие защитники Родины… Посадили в автобусы. Девчонки машут, мамы плачут. Поехали! Полный вагон мужиков. Ни одного лица не запомнил. Всех подстригли «под ноль», переодели в какое-то рванье. На зэков были похожи. Голоса: «Сорок таблеток… Попытка суицида… Белый билет. Надо быть дураком, чтобы остаться умным…» – «Бей меня! Бей! Ну и пусть я говно, мне наплевать. Зато я – дома, трахаюсь с девчонками, а ты – с винтовкой пошел играть в войну». – «Эх, парни, сменим кроссовки на сапоги и будем Родину защищать». – «У кого бабки в кармане, тот в армию не ходит». Ехали трое суток. Всю дорогу пили. А я не пью… «Бедолага! Что ты будешь в армии делать?» Из постельного белья – носки и одежда, что на нас. Сняли ночью обувь… Ё-моё! Запах! Сто мужиков сняли ботинки… Носки не меняли кто двое, а кто трое суток… Хотелось повеситься или расстреляться. В туалет ходили с офицерами – три раза в день. Хочешь больше – терпи. Туалет закрыт. А мало чего… только из дому… Один все равно ночью удавился… Ё-моё!
Человека можно запрограммировать… Он сам этого хочет. Ать-два! Ать-два! В ногу! В армии положено много ходить и много бегать. Бегать быстро и далеко, не можешь бежать – ползи! Сотня молодых мужчин вместе? Зверье! Стая молодых волков! В тюрьме и в армии живут по одним законам. Беспредел. Заповедь первая: никогда не помогай слабому. Слабого – бей! Слабый выбраковывается сходу… Второе: друзей нет, каждый сам за себя. Ночью кто хрюкает, кто квакает, кто маму зовет, кто пердит… Но правило для всех одно: «Прогибайся или прогибай». Все просто – дважды два. И зачем я столько книжек читал? Верил Чехову… Это он писал, что надо выдавливать из себя по капле раба и в человеке все должно быть прекрасно: и душонка, и одежонка, и мыслишки. А бывает наоборот! Наоборот! Иногда человеку хочется быть рабом, ему это нравится. Из человека по капле выдавливают человека. Сержант в первый день тебе объясняет, что ты – быдло, ты – тварь. Команда: «Лечь! Встать!». Все встали, один лежит. «Лечь! Встать!» Лежит. Сержант стал желтый, затем фиолетовый: «Ты что?» – «Суета сует…» – «Ты что?» – «Господь учил: не убивай, даже не гневайся…» Сержант – к командиру роты, тот к гэбэшнику. Подняли дело: баптист. Как он в армию попал?! Его оградили от всех, потом куда-то увезли. Он фантастически опасен! Не хочет играть в войну…
Курс молодого бойца: марширование на красоту, заучивание Устава наизусть, разборка и сборка автомата Калашникова с закрытыми глазами… под водой… Бога нет! Сержант – бог, царь и воинский начальник. Сержант Валериан: «Дрессировке поддаются даже рыбы. Поняли?», «Песню в строю надо орать так, чтобы мышцы на жопе дрожали», «Чем глубже вы в землю закопаетесь, тем меньше вас убьют». Фольклор! Кошмар номер один – кирзовые сапоги… Русскую армию только недавно переобули – выдали ботинки. Я еще служил в сапогах. Для того, чтобы кирза блестела, ее надо было смазывать сапожным кремом и растирать шерстяной тряпочкой внатяг. Кросс – десять километров в кирзачах. Жара тридцать градусов… Ад! Кошмар номер два – портянки… Они были двух видов – зимние и летние. Русская армия отказалась от портянок последней… в двадцать первом веке… Я не один кровавый мозоль из-за них натер. Наматывают портянку так: от носка ноги и непременно «наружу», а не внутрь. Построились. «Рядовой… почему ковыляете? Узких сапог не бывает, есть неправильные ноги». Говорят все матом, не ругаются, а говорят, от полковника до солдата. Другой речи не слышал.
Азбука выживания: солдат – это животное, которое может все… Армия – это тюрьма, в которой срок отбывают по конституции… Мама, мне страшно! Молодой солдат – «салага», «дух», «червяк». «Эй, душара! Принеси чаю», «Эй… почисти сапоги…» Эй-эй! «А ты, б…дь, гордый». Начинаются, репрессии… Ночью четверо держат, двое бьют… Отработана техника, по которой тебя бьют без синяков. Без следов. Например, мокрым полотенцем… ложками… Один раз меня отхерачили так, что я не мог два дня разговаривать. В госпитале от всех болезней одна зеленка. Надоест бить – «побреют» сухим полотенцем или зажигалкой, это надоест – накормят фекалиями, помоями. «Ручками! Ручками бери!» Скоты! Могли заставить бегать по казарме голым… танцевать… У молодого солдата никаких прав… Папа: «Советская армия – лучшая в мире…».
И… наступает такой момент… Появляется мыслишка, такая подлая мыслишка: я им трусы, портянки постираю, потом сам выбьюсь в скоты, и уже мне будут трусы стирать. Это я дома думал о себе, что я такой белый и пушистый. Меня не сломаешь и мое «я» не убьешь. Это «до»… (Пауза.) Есть хотелось всегда, особенно сладкого. В армии все воруют, вместо положенных семидесяти граммов солдату попадает тридцать. Сидели один раз неделю без каши – вагон перловки кто-то на станции спер. Снилась булочная… кексы с изюмом… Стал мастером по чистке картофеля. Виртуозом! За час могу начистить три ведра картошки. Солдатам привозят нестандарт, как на ферму. Сидишь в очистках… Бляааа! В наряде на кухне подходит сержант к солдату: «Начистить три ведра картошки». Солдат: «В космос уже давно летают, а машинку для чистки картофеля не изобрели». Сержант: «В армии, рядовой… все есть. И машинка для чистки картофеля тоже – это ты. Самая последняя модель». Солдатская столовая – поле чудес… Два года: каша, квашеная капуста и макароны, суп из мяса, которое хранили на военных складах на случай войны. Сколько оно там лежало? Пять-десять лет… Все заправлялось комбижиром, большие пятилитровые, такие оранжевые банки. На Новый год в макароны вливали сгущенку – лакомство! Сержант Валериан: «Печенье будете дома есть и угощать своих блядей…». Ни вилки, ни чайной ложки по Уставу солдату не положено. Ложка – единственный прибор. Кому-то прислали из дома пару чайных ложечек. Боже мой! С каким удовольствием мы сидели и размешивали чай в стаканах. Гражданский кайф! Держат за свиней, и вдруг – чайная ложечка. Боже мой! Где-то же у меня есть дом… Заходит дежурный капитан… Увидел: «Что? Что такое! Кто позволил? Немедленно очистить помещение от мусорного хлама!». Какие ложечки! Солдат – не человек. А предмет… приспособление… орудие для убийства… (Пауза.) Дембель. Нас… человек двадцать… Привезли на машине на железнодорожную станцию и выгрузили: «Ну, что – пока! Пока, ребята! Счастливо на гражданке». Мы стоим. Полчаса прошло – стоим. Час прошел… Стоим! Оглядываемся. Ждем приказа. Кто-то должен нам дать команду: «Бегом! В кассу за билетами!» Приказа нет. Не помню, сколько времени прошло, пока мы сообразили, что команды не будет. Самим надо решать. Ё-моё! За два года мозги отшибли…
Покончить с собой я хотел раз пять… А как? Повеситься? Будешь в говне своем висеть, язык вывалится… назад в глотку не затолкают… Как у того парня в поезде, когда нас в часть везли. Обматюгают… свои же… Спрыгнуть с вышки – фарш получится! Взять автомат и на посту – в голову… Расколется, как арбуз. Маму все-таки жалко. Командир просил: «Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны». Жизнь солдата дешевле табельного оружия. Письмо от девушки… Это очень много значит в армии. Руки трясутся. Письма хранить нельзя. Проверка тумбочек: «Бабы ваши, будут наши. А вам еще служить, как медным чайникам. Неси свою макулатуру в унитаз». Положен набор: бритва, авторучка и блокнот. Сидишь на «очке» и читаешь последний раз: «Люблю… Целую…». Бля-а-а-а! Защитники Родины! Письмо от отца: «Идет война в Чечне… Ты меня понимаешь!». Папа героя домой ждет… А у нас прапорщик один был в Афгане, поехал добровольцем. Война прошлась по его голове сильно. Ничего не рассказывал, травил только «афганские» анекдоты. Ё-моё! Все ржали… Солдат тащит на себе тяжело раненого друга, тот истекает кровью. Умирает. Просит: «Пристрели! Больше не могу!» – «У меня патронов нет. Кончились». – «А ты купи». – «Где я их тебе куплю? Вокруг горы, ни души». – «А ты у меня купи». (Смеется.) «Товарищ офицер, почему вы попросились в Афган?» – «Хочу стать майором». – «А генералом?» – «Нет, генералом я не стану – у генерала свой сын есть». (Пауза.) В Чечню никто не просился. Ни одного добровольца не помню… Отец приходил ко мне во сне: «Ты присягу принял?». Стоял под Красным знаменем: «Клянусь свято соблюдать… строго выполнять… мужественно защищать… А если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара… всеобщая ненависть и презрение…». Во сне я убегал куда-то, он целился в меня… целился…
Стоишь на посту. В руках – оружие. И одна мысль: секунда-две – и ты свободен. Не виден никому. Уже, суки, не достанете! Никто… Никто! Если искать причину, надо начинать оттуда, когда мама хотела девочку, а папа, как всегда, аборт. Сержант сказал, что ты – мешок с говном… дырка в пространстве… (Пауза.) Офицеры были разные: один – спившийся интеллигент, говорил по-английски, а в основном – серые пьяницы. Напивались до глюков… Могли ночью поднять всю казарму и заставить бегать по плацу, пока солдаты не падали. Офицеров называли шакалами. Плохой шакал… хороший шакал… (Пауза.) Кто вам расскажет, как десять человек насилуют одного… (Злой смех.) Это не игрушки и не литература… (Пауза.) На самосвале, как скот, возили на командирскую дачу. Тягали бетонные плиты… (Злой смех.) Барабанщик! Играй гимн Советского Союза!
Я никогда не хотел быть героем. Я ненавижу героев! Герой должен или много убивать… или красиво умереть… Убить врага ты должен любой ценой: сначала используй боекомплект, когда патроны и гранаты закончатся – дерись ножом, прикладом, саперной лопаткой. Рви хоть зубами. Сержант Валериан: «Учись работать с ножом. Кисть руки – вещь очень хорошая, ее лучше не резать, а колоть… обратным хватом… Так… так… Контролируй руку, уход за спину… не увлекайся сложными движениями… Отлично! Отлично! Теперь выверни нож у противника… Так… так… Ты его убил. Молодец! Убил! Кричи: “Умри, сука!”. Чего ты молчишь?» (Останавливается.) Все время тебе долбят: оружие – это красиво… стрелять – настоящее мужское дело… Учились убивать на животных, нам специально завозили бродячих собак, котов, чтобы потом рука не дрогнула при виде человеческой крови. Мясники! Я не выдерживал… ночью плакал… (Пауза.) В детстве мы играли в самураев. Самурай должен был по-японски умереть, не имел права упасть лицом вниз, закричать. Я всегда кричал… Меня не любили брать в эту игру… (Пауза.) Сержант Валериан: «Запомните… автомат работает так: раз, два, три – и тебя нет…». А пошли вы все! Раз, два…
Смерть похожа на любовь. В последние мгновения – темнота… страшные и некрасивые судороги… Из смерти нельзя вернуться, но из любви мы возвращаемся. И можем вспомнить, как было… Вы тонули когда-нибудь? Я тонул… Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись – и дойди до дна. И тогда… Хочешь жить – пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна.
А там? Там никакого света в конце тоннеля… И ангелов я не видел. Сидел отец у красного гроба. Гроб пустой.
А о любви мы знаем слишком мало
Через несколько лет я снова оказалась в городе N (город не называю по просьбе моего героя). Мы с ним созвонились – и встретились. Он был влюблен, он был счастлив – и говорил о любви. Я даже не сразу догадалась включить диктофон, чтобы не упустить вот этот момент перехода жизни, просто жизни – в литературу, который всегда сторожу, выслушиваю в любых разговорах – частных и общих, но иногда теряю бдительность, а «кусочек литературы» может блеснуть везде, иногда в самом неожиданном месте. Как и в этот раз. Хотели посидеть и выпить кофе, а жизнь предложила развитие сюжета. Вот что я успела записать…
– Я встретился с любовью… я ее понимаю… До этого я думал, что любовь – это два дурака с повышенной температурой. Что это просто бред… О любви мы знаем слишком мало. И если эту нитку вытянуть… Война и любовь – это как бы из одного костра, то есть это одна ткань, та же материя. Человек с автоматом или тот, кто на Эльбрус взобрался, кто воевал до победы, строил социалистический рай – все та же история, тот самый магнит и то же самое электричество. Вам понятно? Чего-то человек не может, чего-то нельзя купить или выиграть в лотерею… А человек знает, что оно есть, и он этого хочет… И не разберется, как искать. Где?
Это почти рождение… Начинается с удара… (Пауза.) А может, и не надо эти тайны разгадывать? Вы не боитесь?
Первый день…
Прихожу к своему знакомому, у него компания, у вешалки в прихожей снимаю пальто, кто-то идет с кухни, и надо пропустить, оборачиваюсь – она! У меня произошло короткое замыкание, как будто во всем доме выключили свет. И вот – все. За словом обычно в карман не лезу, а здесь просто сел и сидел, даже ее не видел, то есть, не то чтобы я на нее не смотрел, я долго-долго смотрел сквозь нее, как в фильмах Тарковского: льют из кувшина воду, и она льется мимо чашки, затем ме-е-е-дленно поворачивается вместе с этой чашкой. Рассказываю дольше, чем это произошло. Молния! В этот день что-то такое узнал, что все остальное стало неважным, даже особенно не разбирался… А собственно – зачем? Случилось – и все. И оно так прочно. Ее пошел провожать жених, у них, как я понял, скоро намечалась свадьба, но мне было все равно, я собрался домой и ехал уже не один, ехал с ней, она уже поселилась во мне. Любовь начинается… Всё вдруг другого цвета, голосов больше, звуков больше… Нет никаких шансов это понять… (Пауза.) Передаю приблизительно…
Утром проснулся с мыслью, что мне надо ее найти, а я не знаю ни имени, ни адреса, ни ее телефона, но уже это случилось, что-то главное в жизни со мной произошло. Человек прибыл. Как будто я что-то забыл… и вот вспомнил… Вам понятно, о чем я? Нет? Никакой формулы мы не выведем… все будет синтетика… Мы привыкли к мысли: будущее от нас скрыто, а то, что уже было, можно объяснить. Было или не было… для меня – вопрос… А может, ничего и не было? Просто кинолента крутится, вот она прокрутилась… Знаю такие моменты в своей жизни, которых как бы не было. А они были. Например, несколько раз я был влюблен… думал, что влюблен… Осталось много фотографий. Но все высыпалось из памяти, смылось. Есть такие вещи, которые не высыпаются, их надо взять с собой. А остальное… Все ли человек вспомнит, что с ним было?
Второй день…
Я купил розу. Денег практически не было, но поехал на рынок и купил самую большую розу, какую там нашел. И вот тоже… Как объяснить? Подошла ко мне цыганка: «Дай, милок, погадаю. По глазам вижу…». Убежал. Зачем? Я и сам уже знаю, что тайна стоит в дверях. Тайна, таинство, покрывание… Первый раз ошибся квартирой – открыл мужик в свисающей майке и под градусом, увидел меня с розой, замер: «Бля-а-а!». Поднимаюсь на следующий этаж… Через цепочку выглядывает странная старушка в вязаной шляпке: «Лена, к тебе». Потом она играла нам на фортепиано, рассказывала о театре. Старая актриса. В доме жил большой черный кот, домашний тиран, который почему-то меня сразу невзлюбил, а я старался ему понравиться… Большой черный кот… Во время происхождения тайны ты как бы отсутствуешь. Вам понятно, о чем я? Не надо быть космонавтом, олигархом или героем, ты можешь быть счастливым, все испытать в обыкновенной двухкомнатной квартире – пятьдесят восемь квадратных метров, совмещенный санузел, среди старых советских вещей. Двенадцать часов ночи, два часа… Мне надо уходить, а я не понимаю, почему я должен уходить из этого дома. Больше всего это похоже на воспоминание… ищу слова… Как будто все вспомнилось, долго ничего не помнил, а теперь все вернулось. Я соединился. Что-то подобное… я так думаю… испытывает человек, который много дней провел в келье. Мир для него обнаружился в бесконечных деталях. Очертаниях. То есть тайна, она может быть доступна, как предметная вещь, как ваза, например, но чтобы что-то понять, должно быть больно. А как понять, если не болит? Надо, чтобы больно, больно…
…Первый раз что-то о женщине мне объяснили в семь лет мои друзья… Им тоже было по семь лет. Запомнил их радость, что они знают, а я нет, вот мы сейчас тебе все растолкуем. И начали рисовать палочками на песке…
…Что женщина что-то другое, я почувствовал в семнадцать лет, не через книжки, а через кожу, ощутил близко от себя что-то бесконечно другое, огромную какую-то разность и пережил потрясение от того, что это другое. Что-то там, внутри, в женском сосуде спрятано, мне недоступное…
…Представьте солдатскую казарму… Воскресенье. Нет никаких занятий. Двести мужиков, затаив дыхание, сидят и смотрят аэробику: на экране девушки в туго обтягивающих костюмах… Мужики, как истуканы с острова Майя, сидят. Если сломался телевизор, это катастрофа, того, кто был виноват, могли убить. Вы понимаете? Это все о любви…
Третий день…
Встал утром, и не надо никуда бежать, вспоминаешь, что она есть, она нашлась. Тебя отпускает тоска… Ты уже не один… Ты обнаруживаешь вдруг свое тело… руки, губы… обнаруживаешь за окном небо и деревья, почему-то все близко-близко, до тесноты приблизилось к тебе. Так бывает только во сне… (Пауза.) По объявлению в вечерней газете мы нашли немыслимую квартиру в немыслимом районе. На краю города в новых застройках. Во дворе по выходным дням мужики с утра до вечера кроют матом, стучат в домино и играют в карты на бутылку водки. Через год у нас родилась дочь… (Пауза.) Теперь о смерти расскажу… Вчера весь город хоронил моего одноклассника – лейтенанта милиции… Гроб привезли из Чечни и даже не открыли, матери не показали. Что там привезли? Салют и все такое. Слава героям! Я был там. И отец со мной… У моего отца блестели глаза… Вам понятно, о чем я? Человек к счастью не готов, он готов к войне, к хладу и граду. Счастливых людей, кроме моей трехмесячной дочери, я никого… никого не встречал… Русский человек к счастью не готовится. (Пауза.) Все нормальные люди увозят детей за границу. Уехало много моих друзей… звонят мне из Израиля, Канады… Раньше я не думал о том, чтобы уехать. Уехать… уехать… У меня эта мысль появилась, когда родилась дочь. Хочу защитить тех, кого люблю. Отец мне этого не простит. Я знаю.
Русский разговор в Чикаго
Еще раз мы встретились в Чикаго. Семья уже немного обжилась на новом месте. Собралась русская компания. Русский стол и русский разговор, в котором к вечным русским вопросам: «Что делать?» и «Кто виноват?» – добавился еще один: «Уезжать или не уезжать?».
«…Я уехал, потому что испугался… У нас любая революция кончается тем, что начинают грабить друг друга под шумок и бить жидам морды. В Москве шла настоящая война, каждый день кого-то взрывали, убивали. Вечером на улицу без собаки бойцовской породы нельзя было выйти. Я специально завел бультерьера…»
«…Открыл Горбачев клетку – мы и ломанулись. Что я там оставила? Сраную двухкомнатную хрущобу. Лучше быть горничной с хорошим окладом, чем врачом с окладом бомжа. Все мы выросли в СССР: собирали в школе металлолом и любили песню “День Победы”. Нас воспитывали на великих сказках о справедливости, на советских мультиках, где все четко прописано: тут – добро, а там – зло. Некий правильный мир. Мой дед погиб под Сталинградом за советскую Родину, за коммунизм. А я хотела жить в нормальной стране. Чтобы в доме занавесочки были, чтобы подушечки были, чтобы муж пришел и халат надел. У меня как-то с русской душой слабо, у меня ее мало. Я свалила в Штаты. Зимой ем клубнику. Колбасы тут навалом, и никаким символом она не является…»
«…В девяностые все было сказочно и весело… Посмотришь в окно – на каждом углу демонстрация. Но скоро стало не сказочно и не весело. Хотели свободный рынок – получите! Мы с мужем – инженеры, а у нас полстраны было инженеров. С нами не церемонились: “Идите на помойку”. А это мы сделали перестройку, похоронили коммунизм. И никому стали не нужны. Лучше не вспоминать… Дочь маленькая просит кушать, а в доме ничего нет. По всему городу висели объявления: куплю… куплю… “Куплю килограмм еды” – не мяса, не сыра, а любой еды. Килограмму картошки были рады, на базаре жмых продавали, как в войну. У соседки мужа в подъезде застрелили. Палаточник. Полдня лежал, прикрытый газеткой. Лужа крови. Включишь телевизор: там банкира убили, там бизнесмена… Кончилось тем, что какая-то шайка воров завладела всем. Скоро народ двинется на Рублевку. С топорами…»
«…Не Рублевку пойдут громить, а картонные коробки на рынках, в которых живут гастарбайтеры. Таджиков, молдаван начнут убивать…»
«…А мне все по х…! Пусть все сдохнут. Я буду жить для себя…»
«…Решила уехать, когда Горбачев вернулся из Фороса и сказал, что от социализма мы не отказываемся. Тогда без меня! Я не хочу жить при социализме! Это была скучная жизнь, С детства мы знали, что будем октябрятами, пионерами, комсомольцами. Первая зарплата шестьдесят рэ, а потом восемьдесят, к концу жизни – сто двадцать… (Смеется.) “Классная” в школе пугала: “Будете слушать радио ‘Свобода’, никогда не станете комсомольцами. А если об этом узнают наши враги?”. Самое смешное, что она тоже сейчас в Израиле живет…»
«…Когда-то и я горела идеей, а не была простым обывателем. Накипают слезы… ГКЧП! Танки в центре Москвы выглядели дико. Мои родители приехали с дачи, чтобы запастись продуктами на случай гражданской войны. Эта банда! Эта хунта! Они думали, что введут танки и больше ничего делать не придется. Что люди хотят только одного – чтобы появилась еда, и на все согласны. Народ вынесло на улицу… страна проснулась… Всего один момент, секунду это было… Завязь какая-то… (Смеется.) Моя мама – человек легкомысленный, ни над чем не задумывающийся. Совершенно далекий от политики, устроенный по принципу: жизнь проходит, надо все, что можно, брать сейчас. Хорошенькая молодая женщина. Даже она пошла к Белому дому с зонтиком наперевес…»
«…Ха-ха-ха… Вместо свободы нам раздали ваучеры. Так поделили великую страну: нефть, газ… Не знаю, как выразиться… Кому бублик, а кому – дырка от бублика. Ваучеры надо было вкладывать в акции предприятий, но мало кто это умел. При социализме делать деньги не учили. Отец приносил в дом какие-то рекламки: “Московской недвижимости”, “Нефть-Алмаз-Инвеста”, “Норильского никеля”… Спорили с мамой на кухне, и кончилось это тем, что они продали все какому-то типу в метро. Купили мне модную кожаную куртку. Весь навар. В этой куртке я в Америку приехала…»
«…А у нас они до сих пор лежат. Продам лет через тридцать в какой-нибудь музей…»
«…Вы себе не представляете, как я ненавижу эту страну… Ненавижу парад Победы! Меня тошнит от серых панельных домов и балконов, забитых закрученными банками с помидорами и огурцами… и старой мебелью…»
«…Началась чеченская война… Сыну через год идти в армию. Голодные шахтеры пришли в Москву и стучали касками на Красной площади. Возле Кремля. Непонятно было, куда все катится. Люди там замечательные, драгоценные, а жить нельзя. Уехали ради детей, легли здесь взлетной полосой для них. А они выросли и страшно далеки от нас…»
«…Э-э-э… как это по-русски? Забываю… Эмиграция – это нормально, русский человек уже может жить там, где он хочет, где ему интересно. Одни из Иркутска едут в Москву, другие из Москвы едут в Лондон. Весь мир превратился в караван-сарай…»
«…Настоящий патриот может желать России только оккупации. Чтобы ее кто-то оккупировал…»
«…Поработала я за границей и вернулась в Москву… Во мне боролись два чувства: хотелось жить в знакомом мире, в котором я могу, как в своей квартире, с закрытыми глазами найти любую книгу на полке, и в то же время было желание вылететь в бесконечный мир. Уезжаю или остаюсь? – никак не могла решить. Это был девяносто пятый год… Иду, как сейчас помню, по улице Горького, и впереди меня громко разговаривают две женщины… и я их не понимаю… А они по-русски говорят. Я обалдела! Только так… столбняк… Какие-то новые слова и главное – интонации. Много южного диалекта. И другое выражение лиц… Всего несколько лет я отсутствовала, а уже стала чужая. Очень быстро тогда шло время, оно мчалось. Москва была грязная, какой там столичный блеск! Везде кучи мусора. Мусор свободы: банки из-под пива, яркие обертки, шкурки от апельсинов… Все жевали бананы. Сейчас такого уже нет. Наелись. Я поняла, что города, который я раньше так любила, и где мне было хорошо и комфортно, – этого города больше нет. Настоящие москвичи в ужасе сидят по домам или уехали. Старая Москва схлынула. Заехало новое население. Мне захотелось прямо сейчас упаковать чемодан и бежать. Даже в дни августовского путча я не испытывала такого страха. Тогда я была в упоении! Вдвоем с подругой на моих стареньких “Жигулях” мы возили к Белому дому листовки, печатали их в нашем институте, у нас был ксерокс. Ездили туда и обратно мимо танков, и меня, помню, удивило, что на броне у них я увидела заплаты. Квадратные заплаты, винтами привинченные…
Все эти годы, пока меня не было, мои друзья прожили в полной эйфории: революция свершилась! Коммунизм пал! Откуда-то у всех была уверенность, что все сложится хорошо, потому что в России много образованных людей. Богатейшая страна. Но Мексика тоже богатая… За нефть и газ демократию не купишь, и ее не завезешь, как бананы или швейцарский шоколад. Президентским указом не объявишь… Нужны свободные люди, а их не было. Их и сейчас нет. В Европе двести лет ухаживают за демократией, как за газонами. Дома мама плакала: “Вот ты говоришь, что Сталин плохой, но мы с ним победили. А ты хочешь предать Родину”. Пришел в гости мой старинный приятель. Пьем на кухне чай: “Что будет? Ничего хорошего не будет, пока не расстреляем всех коммуняк”. Опять кровь? Через несколько дней я подала документы на выезд…»
«…С мужем развелась… Подала на алименты, он не платит и не платит. Дочь поступила в коммерческий вуз, денег не хватало. У моей подруги был знакомый американец, он начал в России свой бизнес. Ему нужна была секретарша, но он хотел найти не модель с ногами от шеи, а надежного человека. Подруга порекомендовала меня. Его очень интересовала наша жизнь, он многого не понимал. “Почему у всех ваших бизнесменов лакированные туфли?”, “А что такое ‘дать на лапу’ и ‘у нас все схвачено и все проплачено’?” Такие вопросы. Но планы он имел большие: Россия – огромный рынок! Разорили его банально. Простым приемом. Для него очень много значило слово – ему сказали, он поверил. Потерял много денег и решил уехать домой. Пригласил меня перед отъездом в ресторан, я думала, что мы попрощаемся, и все. А он поднял бокал: “Давай выпьем – знаешь за что? Денег я тут не заработал, зато нашел хорошую русскую жену”. Уже семь лет вместе…»
«…Раньше мы жили в Бруклине… Сплошь русская речь и русские магазины. В Америке можно родиться с русской акушеркой, учиться в русской школе, работать у русского хозяина, ходить на исповедь к русскому священнику… Колбаса в лавках: “ельцинская”, “сталинская”, “микояновская”… и сало в шоколаде… Старики на лавочках режутся в домино и играют в карты. Ведут бесконечные дискуссии о Горбачеве и Ельцине. Есть сталинисты и антисталинисты. Проходишь мимо и ловишь ухом: “Нужен был Сталин?” – “Да, нужен”. А я маленькая уже все про Сталина знала. Пять лет мне было… Мы стоим с мамой на автобусной остановке, как я теперь понимаю, недалеко от районного здания КГБ, я то капризничаю, то громко плачу. “Не плачь, – просит мама, – а то нас услышат плохие люди, которые забрали нашего дедушку и еще много других хороших людей”. И она начинает мне рассказывать про дедушку… Маме надо с кем-то поговорить… Когда Сталин умер, в детском саду нас всех посадили плакать. Одна я не плакала. Дедушка вернулся из лагеря и встал перед бабушкой на колени, она все время за него хлопотала…»
«…Сейчас и в Америке появилось много молодых русский парней, которые носят футболки с портретом Сталина. На капотах своих машин рисуют серп и молот. Ненавидят черных…»
«…А мы из Харькова… Оттуда Америка нам казалась раем. Страной счастья. Первое впечатление, когда приехали: мы строили коммунизм, а построили его американцы. Знакомая девочка повела нас на распродажу, приехали – у мужа одни джинсы и у меня, надо было приодеться. Смотрю: юбочка – три доллара, джинсы – пять… Смешные цены! Запах пиццы… хорошего кофе… Вечером открыли с мужем бутылку “Мартини” и закурили “Мальборо”. Мечта исполнилась! Но все пришлось начинать с нуля в сорок лет. Тут сразу спускаешься на две-три ступеньки вниз, забудь о том, что ты режиссер, актриса или окончила Московский университет… Сначала я устроилась нянечкой в больнице: горшки выносила, полы подтирала. Не выдержала. Стала выгуливать собак у двух стариков. Работала кассиром в супермаркете… Было Девятое мая, самый дорогой для меня праздник. Отец до Берлина дошел. Я вспомнила об этом… Старшая кассир говорит: “Мы победили, но вы, русские, тоже молодцы. Помогли нам”. Так их в школе учат. Я чуть со стула не упала! Что они о России знают? Русские пьют водку стаканами и у них много снега…»
«…Ехали за колбасой, а колбаса оказалась не такой дешевой, как мечталось…»
«…Из России уезжают мозги, а приезжают руки… Гастарбайтеры… Мама пишет, что у них дворник-таджик перевез в Москву уже всю свою родню. Теперь они на него работают, а он хозяин. Командует. Жена ходит вечно беременная. Барана на свои праздники они режут прямо во дворе. По окнами у москвичей. И жарят шашлыки…»
«…Я человек рациональный. Все эти сантименты по поводу языка дедушек и бабушек – только эмоции. Я запретил себе читать русские книги, смотреть русский интернет. Хочу выбить из себя все русское. Перестать быть русским…»
«…Муж очень хотел уехать… Привезли с собой десять ящиков русских книг, чтобы дети не забывали родной язык. В Москве на таможне все ящики вскрыли, искали антиквариат, а у нас: Пушкин, Гоголь… Таможенники долго смеялись… Я и сейчас включаю радио “Маяк” и слушаю русские песни…»
«…Россия, моя Россия… Питер любимый! Как я хочу вернуться! Щас заплачу… Да здравствует коммунизм! Домой! И картошка здесь на вкус – гадость несусветная. А шоколад русский просто отличный!»
«…А трусы по талонам вам по-прежнему нравятся? Я вспоминаю, как сдавала и учила научный коммунизм…»
«…Русские березки… березки потом…»
«…Сын моей сестры… У него прекрасный английский. Компьютерщик. Пожил в Америке год и вернулся домой. Говорит, что в России сейчас интереснее…»
«…Я тоже скажу… Многие уже и там хорошо живут: работа, дом, машина – все у них есть. Но все равно боятся и хотят уехать. Бизнес могут отобрать, в тюрьму ни за что посадить… искалечить вечером в подъезде… По закону никто не живет – ни наверху, ни внизу…»
«…Россия с Абрамовичем и Дерипаской… с Лужком… Разве это Россия? Этот корабль тонет…»
«…Ребята, жить надо в Гоа… А деньги зарабатывать в России…»
Выхожу на балкон. Тут курят и продолжают тот же разговор: умные сегодня уезжают из России или глупые? Не сразу поверила, когда услышала, как за столом кто-то запел «Подмосковные вечера», нашу любимую советскую песню: «Не слышны в саду даже шорохи, / Все здесь замерло до утра. / Если б знали вы, как мне дороги / Подмосковные вечера…» Возвращаюсь в комнату – уже все поют. И я тоже.
О чужом горе, которое Бог положил на порог вашего дома
Равшан… – гастарбайтер, 27 лет
Гавхар Джураева – руководитель центра «Миграция и закон» при московском фонде «Таджикистан»
«…человек без Родины – соловей без своего сада»
– О смерти я много знаю. Я когда-нибудь сойду с ума от всего, что я знаю…
Тело – чаша для духа. Его дом. По мусульманским обычаям тело надо похоронить как можно быстрее – желательно в тот же день, как только Аллах забрал душу. В доме умершего вешают на гвоздь кусочек белой материи, он висит сорок дней. Душа прилетает ночью и садится на этот лоскуток. Слушает родные голоса. Радуется. И улетает обратно.
Равшан… я его хорошо помню… Обычная история… Им полгода не выдавали зарплату, а у него четверо детей остались на Памире, тяжело заболел отец. Он пришел в строительную контору, просил аванс, и ему отказали. Последняя капля. Вышел на крыльцо и полоснул себя ножом по горлу. Мне позвонили… Я приехала в морг… Вот это потрясающе красивое лицо… Невозможно забыть. Его лицо… Собрали деньги. Для меня до сих пор загадка, как срабатывает этот внутренний механизм: копейки ни у кого нет, но если человек умер, моментально соберут нужную сумму, отдадут последнее, чтобы он был похоронен дома, в своей земле лежал. Не остался на чужбине. Единственная сторублевка в кармане – и ее отдадут. Скажешь, что домой надо ехать – не дадут, ребенок больной – не дадут, а на смерть – на, возьми. Принесли и положили мне на стол целлофановый пакет этих смятых сторублевок. И я пошла с ними в кассу «Аэрофлота». К начальнику. Душа сама улетит домой, а гроб отправить самолетом очень дорого.
Берет со стола бумаги. Читает.
…Полицейские вошли в квартиру, где жили гастарбайтеры – беременная женщина и ее муж, на глазах жены его стали избивать за то, что у них нет регистрации. У нее началось кровотечение – умерла она, и умер ее нерожденный ребенок…
…В Подмосковье пропали три человека – два брата и сестра… К нам обратились за помощью приехавшие из Таджикистана их родственники. Мы позвонили в пекарню, где они до этого работали. Первый раз нам ответили: «Таких не знаем». Второй раз к телефону подошел сам хозяин: «Да, работали у меня таджики. Я им заплатил за три месяца, и они в тот же день ушли. Не могу знать – куда». Тогда мы обратились в полицию. Всех троих нашли убитыми лопатой и закопанными в лесу. Хозяин пекарни стал звонить в фонд и угрожать: «У меня везде свои люди. Я и вас зарою».
…Двоих молодых таджиков со стройки увезли на «скорой помощи» в больницу… Всю ночь они пролежали в холодном приемном покое, к ним никто не подошел. Врачи не скрывали своих чувств: «И чего вы, черножопые, сюда понаехали?».
…Омоновцы вывели ночью из подвала пятнадцать дворников-таджиков, положили на снег и стали бить. Бегать по ним в кованых ботинках. Один пятнадцатилетний мальчик умер…
…Получила мать мертвого сына из России. Без внутренних органов… На московском черном рынке можно купить все, что есть у человека: почки, легкие, печень, зрачки, сердечные клапаны, кожу…
Это – мои братья и сестры… Я тоже родилась на Памире. Горянка. Земля у нас на вес золота, пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками. Всюду – гигантские горы, рядом с которыми любое чудо, которое сотворил человек, кажется детским. Игрушечным. Живешь там – ноги на земле, а голова в облаках. Ты так высоко, что будто ты уже не в этом мире. Море – это совсем другое, море манит к себе, а горы дают ощущение защиты, они тебя охраняют. Вторые стены дома. Таджики не воины, когда на их землю приходил враг, они поднимались в горы… (Молчит.) Моя любимая таджикская песня – это песня-плач о покинутой родной земле. Всегда рыдаю, когда ее слушаю… Самое страшное для таджика – покинуть свою Родину. Жить вдали от нее. Человек без Родины – соловей без своего сада. Много лет я уже живу в Москве, но я все время окружаю себя тем, что было у меня дома: увижу в журнале горы, обязательно эту фотографию вырежу и повешу на стенку, и ту, где цветущий абрикос, и белый хлопок. Я во сне часто собираю хлопок… Открываю коробочку, края очень острые у этой коробочки, а внутри лежит белый комочек, как вата, веса почти не имеет, надо так его вытащить, чтобы не поцарапать руки. Утром просыпаюсь усталая… На московских базарах я ищу таджикские яблоки, они у нас самые сладкие, таджикский виноград, он слаще рафинада. А в детстве я мечтала, что увижу когда-нибудь русский лес, грибы… Поеду и увижу этих людей. Это вторая часть моей души: изба, печь, пирожки. (Молчит.) Я про нашу жизнь рассказываю… И про своих братьев… Для вас они все на одно лицо: черноволосые, немытые, враждебные. Из непонятного мира. Чужое горе, которое Бог положил на порог вашего дома. А у них нет ощущения, что они приехали к чужим людям, потому что их родители жили в СССР и Москва была столицей для всех. И теперь им тут дали работу и кров. На Востоке говорят: не плюй в колодец, из которого берешь воду. В школе все таджикские мальчики мечтают поехать на заработки в Россию… Чтобы купить билет, занимают деньги у всего кишлака. Русские таможенники у них спрашивают на границе: «К кому едешь?». Они отвечают: «К Нине»… Все русские женщины для них Нины… Русский язык в школе уже не учат. Каждый везет с собой коврик для молитвы…
Мы разговариваем в фонде. Тут всего несколько маленьких комнат. Не умолкают телефоны.
Вот вчера я девочку спасла… Она умудрилась позвонить мне прямо из машины, когда полицейские везли ее в лес, звонит и шепчет: «Схватили на улице, везут за город. Все пьяные». Номер машины назвала… По пьяни они забыли ее обыскать и забрать мобильник. Девочка только приехала из Душанбе… красивая девочка… Я – восточная женщина, я еще маленькая была, а бабушка и мама уже учили меня, как надо с мужчинами разговаривать. «Огонь не победишь огнем, а только мудростью», – говорила бабушка. Звоню в полицейский участок: «Слушай, мой дорогой, что-то странное происходит: ваши ребята куда-то не туда повезли нашу девочку, и они выпившие. Позвоните им, чтобы до греха не дошло. Номер машины нам известен». На том конце провода – сплошной поток ругательств: эти «чурки»… эти «черные обезьяны», которые только вчера с дерева слезли, мол, какого черта вы тратите на них время. «Мой дорогой, ты послушай меня, я такая же “черная обезьяна”… Я – твоя мама…» Молчание! Там же тоже человек… Всегда на это надеюсь… Слово за слово, и мы стали разговаривать. Через пятнадцать минут машина развернулась… Привезли девчонку назад… Могли изнасиловать, убить. Не один раз… я в лесу этих девочек по кусочкам собирала… Знаете, кто я? Я работаю алхимиком… У нас общественный фонд – денег нет, власти нет, есть только хорошие люди. Наши помощники. Помогаем, спасаем беззащитных. Желаемый результат получается из ничего: из нервов, из интуиции, из восточной лести, из русской жалости, из таких простых слов, как «мой дорогой», «мой ты хороший», «я знала, что ты настоящий мужчина, ты обязательно поможешь женщине». Ребята, говорю я садистам в погонах, я в вас верю. Верю, что вы люди. С одним полицейским генералом долго вела беседу… Это был не идиот, не солдафон, а интеллигентного вида мужчина. «Вы знаете, – сказала я ему, – у вас работает настоящий гестаповец. Мастер пыток, его все боятся. Из бомжей и гастарбайтеров, которые попадают к нему, он делает инвалидов». Я думала, что он ужаснется или испугается, будет защищать честь мундира. А он посмотрел на меня с улыбкой: «Дайте-ка мне его фамилию. Какой молодец! Мы его повысим, наградим. Такие кадры беречь надо. Я ему премию выпишу». Я онемела. А он продолжал: «Честно вам признаюсь… Мы специально создаем для вас такие невыносимые условия, чтобы вы скорее уехали. В Москве два миллиона гастарбайтеров, город не может переварить такое количество людей, внезапно свалившихся нам на голову. Вас слишком много». (Молчит.)
Москва красивая… Мы шли с вами по Москве, и вы все время восхищались: «Какая Москва стала красивая! Это уже европейская столица!». А я этой красоты не чувствую. Я иду, смотрю на новые здания и вспоминаю: тут двое таджиков погибло, упали с лесов… а тут одного утопили в цементе… Помню, за какие копейки они тут вкалывали. На них наживаются все: чиновники, полицейские, коммунальщики… Дворник-таджик расписывается в ведомости, что получает тридцать тысяч, а на руки ему выдают семь. Остальное забирают, делят между собой разные начальники… начальники начальников… Законы не работают, вместо законов правят бабло и сила. Маленький человек – самый беззащитный, зверь в лесу и тот лучше защищен, чем он. Зверя у вас лес защищает, а у нас горы… (Молчит.) Я большую часть жизни прожила при социализме, сейчас вспоминаю, как мы идеализировали человека, я о человеке в то время хорошо думала. В Душанбе я работала в Академии наук. Занималась историей искусства. Я думала, что книги… то, что человек написал о себе, это правда… Нет, это ничтожная доля правды… Я давно уже не идеалистка, я слишком много теперь знаю… Ко мне часто приходит одна девушка, она больна… Известная наша скрипачка. От чего она сошла с ума? Может, от того, что ей говорили: «Вы играете на скрипке – а зачем это вам? Знаете два языка – зачем? Ваша работа – убирать, подметать. Вы тут – рабы». Эта девушка уже не играет на скрипке. Все забыла.
Еще у меня был молодой парень… Полицейские поймали его где-то в Подмосковье, отобрали деньги, но денег было мало. Разозлились. Вывезли в лес. Избили. Зима. Мороз. Они его раздели до трусов… Ха-ха-ха… Порвали все его документы… И он мне все это рассказывает. Спрашиваю: «Как же ты спасся?» – «Я думал, что я умру, я бежал босиком по снегу. И вдруг, как в сказке, вижу избушку. Постучал в окошко, выходит старик. И этот старик дал мне кожух, чтобы я согрелся, налил чаю и дал варенья. Дал одежду. Назавтра отвел в большое село и нашел грузовик, который довез меня до Москвы».
Этот старик… это тоже Россия…
Из соседней комнаты позвали: «Гавхар Кандиловна, к вам пришли». Я жду, когда она вернется. У меня есть время – и я вспоминаю о том, что слышала в московских квартирах.
В московских квартирах
– Понаехали тут… Добрая русская душа…
– Русский народ вовсе не добр. Это глубокое заблуждение. Жалостлив, сентиментален, но не добр. Зарезали дворняжку – и сняли на видео. Весь интернет поднялся. Суд Линча готовы были устроить. А сгорели на рынке семнадцать гастарбайтеров – их хозяин закрывал на ночь в металлическом вагончике на ключ вместе с товаром – за них заступились только правозащитники. Те, кому по роду деятельности положено всех защищать. Общее же настроение было такое: эти погибли – другие приедут. Безликие, безъязыкие… чужие…
– Это рабы. Современные рабы. Все их имущество – х… и кеды. У них на родине еще хуже, чем в самом гнилом московском подвале.
– Попал медведь в Москву и перезимовал. Питался гастарбайтерами. Кто их считает… Ха-ха-ха…
– До распада СССР в единой семье жили… так нас учили на политзанятиях… Тогда они были «гости столицы», а сейчас «чурки», «хачи». Мне дед рассказывал, как он вместе с узбеками под Сталинградом воевал. Верили: братья навек!
– Вы меня удивляете… Они сами отделились. Свободы захотели. Забыли? Вспомните, как в девяностые они резали русских. Грабили, насиловали. Гнали отовсюду. Среди ночи стук в дверь… Врываются – кто с ножом, кто с автоматом: «Убирайся с нашей земли, русская тварь!». Пять минут на сборы… И бесплатная доставка до ближайшей станции. Люди выскакивали из квартир в тапочках… Вот как оно было…
– Мы помним унижение наших братьев и сестер! Смерть чуркам! Русского Мишку трудно разбудить, но если он поднимется, кровищи пустит много.
– Кавказу дали в рыло русским прикладом. Теперь – кто следующий?
– Ненавижу бритоголовых! Они способны только на одно – бейсбольными битами или молотками забить насмерть дворника-таджика, который им ничего не сделал. На демонстрациях орут: «Россия – для русских, Москва – для москвичей». Моя мама – украинка, отец – молдаванин, бабушка по материнской линии – русская. А кто я? По какому принципу собираются «чистить» Россию от нерусских?
– Три таджика заменяют самосвал. Ха-ха-ха…
– А я скучаю по Душанбе. Я там выросла. Учила фарси. Язык поэтов.
– Слабо пройти по городу с плакатом «Люблю таджиков»? В момент морду набьют.
– У нас рядом стройка. Хачи шныряют, как крысы. Из-за них в магазин вечером страшно выйти. За дешевый мобильник могут убить…
– Аха-хах! Два раза меня грабили – русские, в собственном подъезде чуть не убили – русские. Как же задолбал меня этот народ-богоносец.
– А вы бы хотели, чтобы ваша дочь вышла замуж за мигранта?
– Это мой родной город. Моя столица. А они приехали сюда со своим шариатом. На Курбан-Байрам режут у меня под окнами баранов. А что не на Красной площади? Крики бедных животных, кровь хлещет… Выйдешь в город: там… и там… красные лужи на асфальте… Я иду с ребенком: «Мама, что это?». В этот день город «чернеет». Уже не наш город. Их сотни тысяч из подвалов вываливает… Полицейские в стены вжимаются от страха…
– Я дружу с таджиком. Его зовут Саид. Красивый как бог! У себя дома он был врачом, здесь – на стройке работает. Влюблена в него по уши. Что делать? Когда встречаемся, гуляем с ним по паркам или уезжаем куда-нибудь за город, чтобы никого из моих знакомых не встретить. Боюсь родителей. Отец предупредил: «Увижу с черномазым, пристрелю обоих». Кто мой отец? Музыкант… окончил консерваторию…
– Если «черный» идет с девушкой… нашей! Таких кастрировать надо.
– За что их ненавидят? За карие глаза, за форму носа. Их ненавидят просто так. У нас каждый обязательно кого-то ненавидит: соседей, ментов, олигархов… глупых янки… Да кого угодно! Много ненависти в воздухе… до человека нельзя дотронуться…
«…бунт народа, который я видела, напугал меня на всю жизнь»
Время обеда. Пьем с Гавхар чай из таджикских пиал и продолжаем разговор.
– Когда-нибудь я сойду с ума от того, что помню…
Девяносто второй год… Вместо свободы, которую мы все ждали, началась гражданская война. Кулябцы убивали памирцев, а памирцы – кулябцев… Каратегинцы, гиссарцы, гармцы – все разделились. На стены домов повесили плакаты: «Русские, руки прочь от Таджикистана!», «Коммунисты – убирайтесь в свою Москву!». Это уже был не мой любимый Душанбе… По улицам города ходили толпы с арматурой и с камнями в руках… Совершенно мирные, тихие люди превратились в убийц. Еще вчера они были другие, спокойно чай пили в чайхане, а сегодня ходят и железными прутьями вспарывают животы женщинам… Громят магазины, киоски. Я пошла на базар… На акациях висели шляпы и платья, на земле лежали мертвые, все подряд: люди, животные… (Молчит.) Помню… Красивое утро. На какое-то время я забыла о войне. Показалось, что все будет как раньше. Вот яблоня цветет и абрикос… Никакой войны нет. Распахнула окно и тут же увидела черную толпу. Они все шли молча. Вдруг один повернулся, и мы встретились с ним взглядом… видно – бедняк, взгляд этого парня мне говорил: вот сейчас я могу зайти в твой красивый дом и сделать все, что захочу, это мой час… Вот о чем мне сказали его глаза… я ужаснулась… Отпрянула от окна, задернула шторы, одни, вторые, побежала и закрыла двери на все замки и спряталась в самой дальней комнате. В его глазах был азарт… Что-то сатанинское есть в толпе. Я боюсь это вспоминать… (Плачет.)
Я видела, как во дворе убивали русского мальчика. Никто не вышел, все закрыли окна, я выскочила в банном халате: «Оставьте его! Вы его уже убили!». Он лежал без движения… Ушли. Но скоро вернулись и стали его добивать, такие же пацаны, как и он. Мальчики… это были мальчики… Я позвонила в милицию – они посмотрели, кого бьют, и уехали. (Молчит.) Недавно, когда в Москве в одной компании я услышала: «Я люблю Душанбе. Какой интересный был город! Я скучаю по этому городу», – как я была благодарна этому русскому человеку! Ничего, кроме любви, нас не спасет. Зло молящегося Аллах не слушает. Аллах учит: не надо открывать дверь, которую потом не закроешь… (Пауза.) Убили одного нашего друга… Он был поэт. Таджики любят стихи, в каждом доме есть книги со стихами, хотя бы одна-две, у нас поэт – святой человек. Его трогать нельзя. Убили! Перед тем как убить, ему сломали руки… За то, что он писал… Через короткое время убили второго друга… На теле ни одного синяка, чистое тело, били в рот… За то, что он говорил… Весна. Так солнечно, так тепло, а люди убивают друг друга… Хотелось уйти в горы.
Все куда-то уезжали. Спасались. Наши друзья жили в Америке. В Сан-Франциско. Позвали к себе. Сняли там маленькую квартиру. Так красиво! Тихий океан… Куда ни пойдешь – везде он. Целыми днями я сидела на берегу и плакала, ничего делать не могла. Я приехала с войны, где человека могли убить за пакет молока… Идет вдоль берега старик, закатанные штанины, яркая футболка. Остановился возле меня: «Что у тебя случилось?» – «У меня на родине – война. Брат убивает брата». – «Оставайся здесь». Он говорил, что океан и красота лечит… Долго меня утешал. А я плакала. На хорошие слова у меня была одна реакция – слезы лились в три ручья, от хороших слов я плакала сильнее, чем дома от выстрелов. От крови.
Но я не смогла жить в Америке. Рвалась в Душанбе, а если домой возвращаться опасно, то хочу поближе к дому. Переехали в Москву… Сижу в гостях у одной поэтессы. Слушаю бесконечное брюзжание: Горбачев – трепач… Ельцин – пьяница… народ – быдло… Сколько раз я уже это слышала? Тысячу раз! Хозяйка хочет взять и помыть мою тарелку, а я не даю – я все могу есть с одной тарелки. И рыбу, и пирожное. Я приехала с войны… У другого писателя полный холодильник сыра и колбасы – а таджики уже забыли, что это такое, – и опять весь вечер я слушаю нудное брюзжание: власть плохая, демократы похожи на коммунистов… русский капитализм людоедский… И никто ничего не делает. Все ждут, что вот-вот будет революция. Не люблю я этих разочарованных на кухне. Я не из их компании. Бунт народа, который я видела, испугал меня на всю оставшуюся жизнь, я знаю, что такое свобода в неопытных руках. Болтовня всегда кончается кровью. Война – это волк, который может прийти и к вашему дому… (Молчит.)
Вы видели эти кадры в интернете? Меня они полностью выбили из колеи. Я неделю провалялась в постели… Вот эти кадры… Убивали и снимали. Был у них сценарий, расписали роли… Как в настоящем кино… Теперь нужен зритель. И мы смотрим… они заставили нас…. Вот парень идет по улице, наш парень, таджик… Вот они его подзывают, он подходит, его сбивают с ног. Бьют бейсбольными битами, сначала он крутится на земле, а потом затихает. Его связывают и грузят в багажник. В лесу привязывают к дереву. Видно: тот, кто снимает, ищет ракурс, чтобы была хорошая картинка. Парню отрезают голову. Откуда это пришло? Отрезание головы… Это восточный ритуал. Не русский. Наверное, он из Чечни. Помню… Один год убивали просто «отвертками», потом появились трезубцы, за ними трубы и молотки… Всегда смерть наступала от удара тупым предметом. Сейчас новая мода… (Молчит.) На этот раз убийц нашли. Их будут судить. Все мальчики из хороших семей. Сегодня режут таджиков, завтра будут резать богатых или тех, кто другому Богу молится. Война – это волк… Он уже пришел…
В московских подвалах
Выбрали дом – «сталинку» в самом центре Москвы. Строились эти дома при Сталине для большевистской элиты, потому и зовут их «сталинками», они и сейчас в цене. Сталинский ампир: лепнина на фасадах, барельефы, колонны, высота потолков в квартирах три-четыре метра. Потомки бывших вождей обеднели, сюда переезжают «новые русские». Во дворе стоят «бентли», «феррари». На первом этаже горят огнями витрины дорогих бутиков.
Наверху – одна жизнь, под землей – другая. Вместе со знакомым журналистом спускаемся в подвал… Долго петляем между ржавых труб и заплесневелых стен, время от времени дорогу нам перегораживают железные крашеные двери, на них висят замки и стоят пломбы, но все это – фикция. Условный стук – и проходи. Подвал наполнен жизнью. Длинный освещенный коридор: по обе стороны комнаты – стены из фанеры, вместо дверей – разноцветные шторы. Московское подземелье поделено между таджиками и узбеками. Мы попали к таджикам. В каждой комнате – семнадцать-двадцать человек. Коммуна. Кто-то узнал моего «гида» – он приходит сюда уже не в первый раз – и приглашает нас к себе. Заходим в комнату: у входа гора обуви, детские коляски. В углу – плита, газовый баллон, к ним притиснуты столы и стулья, перекочевавшие сюда с ближайших помоек. Все остальное пространство занимают двухъярусные самодельные кровати.
Время ужина. Человек десять уже сидят за столом. Знакомимся: Амир, Хуршид, Али… Те, кто постарше, учились в советской школе, по-русски говорят без акцента. Молодые языка не знают. Только улыбаются.
Гостям рады.
– Скоро мы немножко покушаем. – Усаживает нас за стол Амир, в прошлом учитель, он тут за старшего. – Попробуете таджикский плов. Вкусно – мама дорогая! У таджиков так: если ты встретил человека недалеко от своего дома, ты должен позвать его к себе и дать ему пиалу с чаем.
Диктофон включить не могу – боятся. Достаю ручку. Тут мне помогает их крестьянское уважение к пишущему человеку. Одни приехали из кишлаков, другие спустились с гор. И сразу попали в гигантский мегаполис.
– Москва – хорошо, работы – много. А жить вообще-то страшно. Я иду по улице один… Даже днем… Я молодым ребятам в глаза не смотрю – убить могут. Молиться каждый день надо…
– Ко мне подошли в электричке трое… Я с работы ехал. «Ты что тут делаешь?» – «Домой еду». – «Где твой дом? Кто тебя сюда звал?» Начали бить. Били и кричали: «Россия – для русских! Слава России!». «Ребята, за что? Аллах все видит». – «Твой Аллах тут тебя не видит. У нас свой Бог». Зубы выбили… ребро сломали… Полный вагон людей, и одна только девушка заступилась: «Оставьте его! Он вас не трогал». – «Ты чего? Хача бьем».
– Рашида убили… Тридцать раз ударили ножом. Ты мне скажи, зачем тридцать раз?
– На все воля Аллаха… Бедняка и на верблюде собака укусит.
– Мой папа учился в Москве. Сегодня он день и ночь плачет по СССР. Он мечтал, что я тоже буду учиться в Москве. А меня тут полицейский бьет, хозяин бьет… Живу в подвале, как кошка.
– Мне СССР не жалко… Дядя Коля, наш сосед… он русский был… Он на мою маму кричал, когда она отвечала ему по-таджикски: «Говори на нормальном языке. Земля ваша, власть наша». Мама плакала.
– Я сегодня сон видел: иду по нашей улице, соседи кланяются: «Салам алейкум»… «Салам алейкум»… В наших кишлаках остались только женщины, старики и дети.
– Дома моя зарплата была пять долларов в месяц… Жена, трое детей… В кишлаках годами люди не видят сахара…
– На Красной площади не был. Ленина не видел. Работа! Работа! Лопата, кирка, носилки. Весь день с меня, как с арбуза, вода течет.
– Заплатил одному майору за документы: «Пусть Аллах даст тебе здоровье. Какой хороший человек!». А документы оказались фальшивые. В «обезьянник» посадили. Били ногами, били палками.
– Нет документа – нет человека…
– Человек без Родины – бездомный пес… Каждый может обидеть. Полицейские за день десять раз остановят: «Покажи документы». Эта бумажка есть, а этой нет. Не дашь денег – бьют.
– Кто мы? Строители, грузчики, дворники, посудомойки… Менеджерами мы тут не работаем…
– Мама довольна, я деньги присылаю. Нашла мне красивую девушку, я ее еще не видел. Мама выбирала. Приеду – женюсь.
– Все лето работал у одного богатого под Москвой, а в конце они мне не заплатили: «Пошел! Пошел! Я тебя кормил».
– Когда у тебя есть сто баранов – ты прав. Ты всегда прав.
– Мой друг тоже просил у хозяина денег за работу. Полиция потом его долго искала. Откопали в лесу… Мама гроб получила из России…
– Выгонят нас… Кто Москву отстраивать будет? Дворы подметать? Русские за те деньги, что нам платят, пахать не станут.
– Закрою глаза – вижу: арык течет, хлопок цветет, он цветет нежно-розово, как сад.
– А ты знаешь, что у нас была большая война? После падения СССР сразу стали стрелять… Хорошо жил только тот, у кого был автомат. Я в школу ходил… Каждый день я видел два-три трупа. Мама в школу не пустила. Я сидел дома и читал Хайяма. У нас все читают Хайяма. А ты его знаешь? Если знаешь, то ты мне сестра.
– Убивали неверных…
– Аллах сам рассудит – кто верный, а кто неверный. Сам будет судить.
– Маленький был… Я не стрелял. Мама рассказывала, что до войны жили так: на одной свадьбе говорили по-таджикски, по-узбекски и по-русски. Кто хотел – молился, а кто не хотел – не молился. Скажи, сестра, почему люди так быстро научились убивать друг друга? Они все Хайяма в школе читали. И Пушкина.
– Народ – караван верблюдов, который гонят плеткой…
– Учу русский язык… Вот послушайте: красивый дэвушка, хлэб, дэнги… начальник плёхой…
– Уже пять лет я в Москве, и со мной ни разу никто не поздоровался. Русским нужны «черные», чтобы они могли чувствовать себя «белыми», смотреть на кого-то сверху вниз.
– Как у всякой ночи есть утро, так у всякой печали бывает конец.
– Наши девушки ярче. Не зря их сравнивают с гранатом…
– На все воля Аллаха…
Из подземелья поднимаемся наверх. Теперь я смотрю на Москву другими глазами – ее красота кажется мне холодной и тревожной. Москва, тебе все равно – любят тебя или нет?
О жизни-суке и ста граммах легкого песочка в белой вазочке
Тамара Суховей – официантка, 29 лет
– Жизнь – сука! Вот что я тебе скажу… Не приносит она подарков. Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела. Не вспомню… Убей меня – не вспомню! И травилась, и вешалась. У меня было три попытки самоубийства… Сейчас я вены себе порезала… (Показывает забинтованную руку.) Вот тут… в этом месте… Спасли меня, и я неделю спала. Просто сплю и сплю. Такой у меня организм… Психиатр пришла… Вот как ты сейчас, она меня просила: говори, говори… Что рассказывать? Смерть мне не страшна… Зря ты пришла и сидишь. Зря! (Отвернулась к стенке и молчит. Я хочу уйти, но она останавливает.) Ладно, послушай… Все правда…
…Еще я маленькая была… Пришла из школы, легла, а утром не поднялась с кровати. Повезли к врачу – нету диагноза. Тогда давай бабку искать – знахарку. Дали нам адрес… Бабка раскинула карты и говорит матери: «Придете домой, распорите подушку, на которой дочка лежит. Там найдете кусок галстука и куриные кости. Галстук повесьте на кресте при дороге, а кости отдайте черной собаке. Дочка встанет и пойдет. Порчу на девку навели». Ничего хорошего, красивого я в жизни не видела… А вены – херня, я просто устала бороться… С детства жила так – в холодильнике только водка. У нас в деревне с двенадцати лет все пьют. Хорошая водка дорогая, так самогон пьют, и одеколон, и жидкость для мойки стекол, и ацетон. Из гуталина водку гонят, из клея. Молодые мужчины умирают, от водки, конечно, травятся. Сосед, я помню, напьется и палит дробью по яблоням. Всех дома поставит под ружье… И наш дед до старости пил. В семьдесят лет мог выпить за вечер две бутылки. Хвалился. Вернулся он с войны в медалях. Герой! Долго ходил в шинели, пил, гулял, праздновал. А бабушка работала. А дед был герой… Дед бил бабушку смертным боем, я ползала перед ним на коленях, чтобы он ее не трогал. Он гонялся за нами с топором… По соседям ночевали. В сарае. Собаку насмерть зарубил. После деда я возненавидела всех мужчин. Я думала одна жить.
Приехала в город… Всех боялась: и машин, и людей. Но все едут в город – и я. Старшая сестра тут жила, она меня забрала: «Поступишь в училище, станешь официанткой. Ты красивая, Томка. Найдешь себе мужа военного. Летчика». Ага… летчика… Первый муж у меня был хромой, маленький. Подруги отговаривали: «Зачем он тебе? За тобой такие парни ухаживают!». А я всегда любила фильмы про войну, как женщины ждут своих мужей с фронта, хотя бы какой вернулся – без ног, без рук, но живой. Бабушка рассказывала: в нашу деревню одного привезли без обеих ног, так жена его по двору на руках носила. А он пил, безобразничал. Завалится в канаву, она его подберет, в корыте помоет и посадит на чистую постель. Я думала, что это и есть любовь… Я не понимаю, что такое любовь… Пожалела его, приласкала. Мы прижили с ним троих детей, и он стал пить, ножом грозил. Не давал на кровати спать… валялась на полу… У меня выработался рефлекс, как у собаки Павлова: муж – в дом, мы с детьми – из дому. От всего, что вспомню, слезы катятся… Или на хрен все послать! Ничего красивого у меня в жизни не было, а только в кино. По телевизору. Ну вот… чтобы сесть и с кем-нибудь вместе помечтать… порадоваться…
Уже вторым ребенком была беременна… Из деревни пришла телеграмма: «Приезжай на похороны. Мать». Цыганка мне перед этим на вокзале гадала: «Ждет тебя дальняя дорога. Похоронишь отца и будешь долго плакать». Не поверила. Отец был здоровый, спокойный. Мать пьянствовала, с утра себе наливала, а он и корову подоит, и картошки наварит, все сам. Он сильно ее любил, она его приворожила, что-то она такое знала, какое-то зелье. Приехала я домой… Сижу у гроба, плачу. Соседская девочка на ухо шепчет: «Баба деда чугунком убила, а мне сказала, чтобы я молчала. Обещала купить шоколадных конфет…» Мне стало не по себе, меня затошнило, именно от страха… От ужаса… И когда в хате никого не было, все ушли, раздела отца и искала на нем синяки. Синяков не было, только на голове – большая ссадина. Показала матери, она ответила, что это он дрова колол, палка отлетела, ударила. Сижу в слезах всю ночь… сижу и чувствую, что он хочет мне что-то сказать… А мать не отходит, всю ночь трезвая, так она меня одну и не оставила. Вижу – утром у отца кровавая слеза из-под ресниц поползла. Одна… вторая… Слезы текли, как у живого… Страш-но-о! Это была зима. Яму на кладбище долбали ломом, грели землю – разожгли в яме костер из березовых поленьев и автомобильных покрышек. Мужики потребовали ящик водки. Как только отца закопали, мать напилась. Сидит веселая. А я плачу… От всего и сейчас слезы градом… Родная мать… она меня родила… Самый родной человек должен быть… Как только я уехала, дом она продала, а сарай сожгла, чтобы страховку получить, и прикатила ко мне в город. Тут нашла себе другого… Быстро нашла… И он сына с невесткой прогнал, а ей квартиру отписал. Она мужиков приманивала, что-то знала… ворожила… (Качает больную руку, как ребенка.) А мой гонялся за мной с молотком, два раза голову проломил. Бутылка водки, в карманах по огурцу – и пошел. Куда его понесло? Дети голодные… Сидели мы на одной картошке, а в праздник – картошка с молоком или с килькой. Попробуй выступи, когда он вернется: стакан – в лицо, стул – в стенку… Ночью прыгнет на меня, как зверь… Ничего в жизни хорошего не было, даже малого. Приду на работу, побитая, уплаканная, а надо улыбаться, кланяться. Директор ресторана позовет в кабинет: «Мне тут твоих слез не надо. У самого жена парализованная второй год лежит». И лезет ко мне под юбку…
Мать с отчимом и два года не прожила… Звонит: «Приходи… Помоги похоронить. Повезем в крематорий». От испуга я чуть не потеряла сознание. Очнулась – надо идти. А в голове одна мысль: вдруг это она его убила? Убила, чтобы одной в его квартире остаться, пить, гулять. А-а? Теперь торопится в крематорий отвезти. Сжечь. Пока его дети соберутся… старший сын, он майор, из Германии приедет… жменька золы останется… Сто граммов легкого песочка в белой вазочке… От всех этих потрясений у меня прекратились месячные, два года ничего не появлялось. Когда они снова начались, я просила врачей: «Вырежьте мне все женское, сделайте операцию, я не хочу быть женщиной! И любовницей не хочу быть! И женой, и матерью!». Родная мать… она меня родила… Я хотела ее любить… Маленькая просила: «Мамочка, поцелуй меня». А она всегда пьяная… Отец на работу уйдет – в доме полно пьяных мужиков. Один затащил меня в постель… Это мне было одиннадцать лет… Я матери сказала, так она только наорала на меня. Пила… пила… Пила и веселилась всю жизнь. И тут – надо умирать! Не хотела. Ни за что не хотела она умирать. Ей было пятьдесят девять лет: удалили одну грудь, через полтора месяца – другую. А у нее молодой любовник, завела себе любовника на пятнадцать лет младше. «Везите, – кричит, – к знахарке, спасайте!» Ей хуже и хуже… Молодой за ней ухаживает, из-под нее выносит, моет. Она не думала умирать… «Но если, – говорит, – умру, все оставлю ему. И квартиру, и телевизор». Нас с сестрой хотела обидеть… Злая была… И жизнь любила. Жадная была к жизни. Повезли ее к бабке, на руках из машины вынесли. Бабка помолилась, открыла карты: «Да? – и поднимается из-за стола. – Увозите! Я ее лечить не буду…». Мать нам крикнула: «Ступайте. Я хочу одна остаться…». А бабка: «Стойте!». Нас не отпустила… На карты смотрит: «Я ее лечить не буду. Она не одного в землю положила. А как заболела, пошла в церковь и две свечки заломила…». Мать: «За здравие детей своих…». Бабка: «За упокой ты их поставила. Смерти детям просила. Думала, что если их Богу отдашь, то сама останешься». Я после таких слов никогда уже одна с матерью не оставалась. Дрожала. Знала, что я слабая, она меня победит… Брала с собой свою старшую девочку, а мать бесило, когда та просила есть: она умирает, а кто-то ест, кто-то будет жить. Порезала ножницами новое покрывало на кровати, скатерть со стола, чтобы никому не осталось, когда ее не будет. Била тарелки, все, что могла, крошила, молотила. В туалет нельзя было ее донести, она специально – на пол, в постель… чтобы я убирала… Мстила за то, что мы остаемся. Ходим, разговариваем. Ненавидела всех! Птица за окном пролетит – она бы и ее убила. Ну а это была весна… Квартира у нее на первом этаже… Сирень вовсю пахнет… Она дышит-дышит, не надышится. «Принеси, – попросила, – мне веточку со двора». Я принесла… Она взяла ее в руки, и та в одну минуту засохла, листья скрутились. Тогда она ко мне: «Дай за твою руку подержаться…». А меня та бабка предупредила, что человек, который творил зло, долго умирает, мучительно. Надо или потолок разбирать, или все окна в доме вынуть, по-другому душа его не уйдет, из тела не вырвется. А руку ни в коем случае давать нельзя – болезнь перекинется. «Зачем тебе моя рука?» Замолчит, притаится. Уже дело к концу… А она все равно нам не говорит, не показывает, где одежда ее лежит, в которой хоронить. Где деньги, которые на смерть собрала. Я боялась, что ночью она нас дочкой задушит подушками. Мало что… Глаза прикрою, а сама подглядываю: как душа ее оставит? Какая она… эта душа? Будет свет или облачко? Всяко люди говорят и пишут, но никто эту душу ни разу не видел. Побежала утром в магазин, попросила соседку посидеть. Та взяла ее за руку, и тогда она умерла. В последнюю минуту что-то крикнула непонятное. Кого-то позвала… Позвала кого-то по имени… Кого? Соседка не запомнила. Незнакомое имя. Я сама ее мыла, одевала, без всяких чувств, как вещь. Как кастрюлю. Чувств никаких, чувства спрятались. Все правда… Пришли ее подруги, уворовали телефон… Приехали все родственники, и наша средняя сестра из деревни. Мать лежит… Она ей глаза открывала. «Зачем ты мать мертвую трогаешь?» – «А помнишь, как она в детстве над нами издевалась? Любила, чтобы мы плакали. Я ее ненавижу».
Собрались родственники и стали ругаться… Делить вещи начали еще ночью, еще она в гробу лежала. Паковали кто телевизор, кто швейную машинку… золотые сережки с мертвой сняли… Деньги искали – не нашли. Я сидела и плакала. Мне даже жалко ее стало. Назавтра кремировали… Решили, что отвезем урну в деревню, закопаем рядом с отцом, хотя она и не хотела. Наказывала, чтобы к отцу не подхоранивали. Боялась. Есть тот свет или нет? Где-то же они с отцом встретятся… (Остановилась.) Слез теперь у меня мало… Сама удивляюсь, как безразлично сейчас все стало. И смерть, и жизнь. И плохие люди, и хорошие. Да мне плевать… Когда судьба тебя не полюбила, то не спасешься. Не избежишь того, что предназначено. Ага… Старшая сестра, у которой я жила, вышла второй раз замуж и уехала в Казахстан. Я ее любила… я как чувствовала… Мое сердце подсказывало: «Не выходи за него замуж», – почему-то второй ее муж мне не нравился. – «Он хороший. Я его жалею». В восемнадцать лет он загремел в зону – зарезали парня в пьяной драке. Дали пять лет, вернулся через три. Стал ходить к нам в дом, подарки приносил. Его мать встретит мою сестру и уговаривает. Просит. Уговаривала она ее так: «Мужчине всегда нянька нужна. Хорошая жена своему мужу – немного мать. В одиночку мужчина волком станет… и с пола будет есть…». Сестра поверила! Жалостливая, как и я: «Он со мной человеком станет». Я с ними на похоронах всю ночь у гроба матери просидела. И он с сестрой по-хорошему так, ласково, я даже позавидовала. Через десять дней получаю телеграмму: «Тетя Тома, приезжайте. Умерла мама. Аня». Это девочка ее, одиннадцать лет, нам телеграмму прислала. Один гроб вынесли, уже новый ждет… (Плачет.) Он ее по пьянке приревновал. Ногами топтал, вилкой исколол. Изнасиловал мертвую… Напился или накурился… не знаю… А утром на работе сказал, что жена умерла, ему дали на похороны деньги. Отдал их дочке, а сам явился в милицию с повинной. Девочка сейчас у меня живет. Учиться она не хочет, у нее что-то с головой, ничего не запоминает. Пугливая… из дому боится выйти… А ему… Ему присудили десять лет, он еще к дочке вернется. Папочка!
С первым мужем я развелась и думала, что никогда больше мужчина в мой дом не войдет. Не впущу! Надоело плакать, ходить в синяках. Что милиция? Один раз приедут по звонку, а в другой: «У вас семейные разборки». Этажом выше… в нашем же доме… Муж убил жену, тогда они понаехали на машинах с мигалками, протокол составили, в наручниках его увели. А он десять лет над ней издевался… (Бьет себя в грудь.) Не люблю мужчин. Боюсь. Как я второй раз вышла замуж, сама не пойму. Он вернулся из Афганистана, контуженный, дважды раненый. Десантура! Тельняшку до сих пор не снимает. Жил он со своей матерью в доме напротив. У нас общий двор. Выйдет и сидит с гармошкой, или магнитофон включит. Песни «афганские», жалобные… Я часто думала про войну… все время боялась этого гриба проклятого… атомного… Мне нравилось, когда молодые – жених и невеста – после загса шли к Вечному огню с цветами. Любила это! Торжественно так! Один раз подсела к нему на скамейку: «Что такое война?» – «Война – это когда жить хочется». Мне стало его жалко. Отца у него никогда не было, мать – инвалид детства. Был бы отец, так его бы и в Афганистан не послали. Отец бы заступился, откупил, как другие. А у них с матерью… Зашла в квартиру: кровать и стулья, афганская медаль на стене висит. Пожалела его, а о себе не подумала. Начали мы жить. Пришел он ко мне с полотенцем и с ложкой. Медаль свою принес. И гармошку.
Я себе придумала… нафантазировала, что он герой… защитник… Я сама надела на него корону и внушила детям, что он царь. Живем с героем! Он исполнил свой солдатский долг, пострадал сильно. Обогрею его… спасу… Мать Тереза! Я не глубоко верующий человек, я прошу только: «Господи, прости нас». Любовь – это болячка такая… Жалеть начинаешь… если любишь, то жалеешь… Первое дело… Во сне он «бегал»: ноги сами не двигались, а мышцы были в движении, как у бегущего человека. Иногда всю ночь так бегал. По ночам кричал: «Душары! Душары!» (это «духи» – афганские моджахеды). Звал командира, друзей: «Обходи с фланга!», «Гранаты к бою!», «Ставь дымовую завесу…». Однажды чуть меня не убил, когда я его стала будить: «Коля! Коля! Проснись!». Правда… я даже полюбила его… Выучила много афганских слов: зиндан, бочата, дувал… барбухайка… «Худо Хафез!» – «Прощай, Афганистан!» Год хорошо мы жили. Это – правда! Появлялись деньги, приносил тушенку – любимое блюдо. С Афгана. Шли они в горы, брали с собой тушенку и водку. Учил нас, как оказывать первую медицинскую помощь, какие растения съедобные и как ловить животных. Черепаха, говорил, сладкая. «Ты что, по людям стрелял?» – «Там выбирать не приходится: или ты, или тебя». Все ему прощала за его страдания… Сама пристегнула себе этот горб…
А теперь… Приволокут дружки ночью и положат у порога. Без часов и рубашки… лежит до пояса голый… Соседи звонят: «Забери, Тамара! Богу душу от холода отдаст». Втяну в дом. Плачет, ревет, катается по полу. Ни на одной работе он не задерживается: охранником был, сторожем… Ему то выпить надо, то похмелиться. Ну все пропил… Никогда не знаешь: будет дома что пожрать или нет? Отхуярит или сядет перед телевизором. У соседей квартирант, он армянин… Что-то он сказал, и моему не понравилось. Валялся тот на земле в крови с выбитыми зубами и поломанным носом. Восточных людей не любит. На базар с ним боюсь ходить, там же одни узбеки и азербайджанцы торгуют. Чуть что… одна у него поговорка: «На каждую крученую задницу есть болт с резьбой». Они цены ему сбрасывают, не связываются. «А-а… “афганец”… бешеный… Черт!» Детей бьет. Малый его любит, лезет к нему, а он его подушкой душит. Так тот теперь, когда он открывает дверь, бежит скоренько в свою кровать и – спать, глаза закрывает, чтобы не бил, или все подушки под диван попрячет. Мне или плакать… или… (Показывает свою забинтованную руку.) В день десантника… соберутся друзья… все, как и он, в тельняшках… Напьются в хлам! Обоссут мне все в туалете. У них что-то с головой… Мания величия: мы были на войне! Крутые! Первый тост: «Весь мир – говно, все люди – бляди, а солнце – ёбаный фонарь». И так до самого утра: «за упокой», «за здравие», «за орден», «чтоб все сдохли». Жизнь у них не сложилась… Я вам не скажу почему – из-за водки или из-за войны. Злые, как волки! Кавказцев все ненавидят и жидов. Жидов ненавидят за то, что Христа убили и дело Ленина погубили. Дома им уже невесело: проснулся, умылся, покушал. Скукота! Они бы и сейчас – позови только! – мигом бы собрались в Чечню. Погеройствовать! Какая-то у них обида осталась, обида на всех: на политиков и на генералов, на тех, кто там не был. На этих особенно… в первую очередь… Никакой специальности у многих, как и у моего, нет. У них у всех одна специальность – ходить с пистолетом. Говорят, что пьют от обиды… Ой-ой! И там они пили, не скрывают этого: «Без ста грамм русский солдат до победы не доживет», «Брось нашего человека в пустыню, через два часа он пьяный, а воды не найдет». Метиловый спирт употребляли, тормозную жидкость… По дури, по пьяни подрывались… Приехали домой: кто-то повесился, кого-то застрелили в разборках, одного так избили, что стал инвалидом… еще один повредился в уме, закрыли в психушке… Это то, что мне известно. Хрен его знает, что еще… Капиталисты… ну эти, новые русские… их нанимают, проплачивают, чтобы они помогали им друг у друга долги выбивать. Стреляют они легко, никого не жалко. Молокососу двадцать лет, у него – сумасшедшие деньги, а у них – медали. Малярия, гепатит… Разве они будут его жалеть? Их же никто не пожалел… Им стрелять хочется… Ты это не записывай… Я боюсь… Разговор у них короткий: сразу – к стенке! В Чечню они хотят поехать, потому что там свобода, там русских обижают… и мечтают женам шубы привезти. Золотые колечки. И мой рвался туда, только пьяниц не берут. Здоровых мужиков хватает. Каждый день одно слышу: «Дай денег». – «Не дам». – «К ноге, сука!» И врежет. А потом сидит и плачет. На шею вешается: «Не бросай меня!». Я долго его жалела…(Плачет.)
Подлюка-жалость… Я уже не дам ей ходу… На жалость не дави! Хлебай свою блевоту своей ложкой. Сам расхлебывай! Прости меня, Господи, если ты и вправду есть. Прости!
Возвращаюсь вечером с работы… Его голос. Учит сына. Я уже все наизусть знаю: «Стоп! Запоминай: ты швырнешь гранату в окно – кувырк сюда. На землю. А другой – за колонну…». Мать-перемать! «Четыре секунды – и ты на ступеньках, ногой вышибаешь дверь – автомат налево. Первый падает… Второй пробегает мимо… Третий прикрывает… Стоп! Стоп!» Стоп… (Кричит.) Страшно мне! Как сына спасти? Бегу к подругам… Одна: «Надо тебе в церковь. Молись». Другая к знахарке повела… А куда еще идти? Больше не к кому. Бабка была старая, как Кощей Бессмертный. Она сказала, чтобы я пришла на следующий день и принесла ей бутылку водки. Походила она по квартире с этой бутылкой, пошептала над ней, руками поводила и отдала мне: «Водка заговоренная. Будешь два дня ему по рюмке наливать, а на третий он не захочет». И правда, месяц не пил. А потом опять: ввалится ночью пьяный в сопли, гремит на кухне кастрюлями, дай ему пожрать… Нашла другую знахарку… Та гадала мне на картах, лила раскаленный свинец в чашку с водой. Научила простеньким заговорам – на соль, на жменьку песка. Ничего не помогло! От водки и от войны не вылечишь… (Качает больную руку.) Ох, как я устала! Никого не жалко… ни детей, ни себя… Мать не зову, а она приходит ко мне во сне. Молодая, веселая. Всегда она молодая и смеется. Я ее прогоняю… А то сестра приснится, она серьезная, всегда спрашивает у меня одно и то же: «Ты думаешь, что ты себя можешь выключить, как лампочку?» (Останавливается.)
Все – правда… Ничего красивого я в жизни не видела. И уже не увижу. Вчера в больницу ко мне заявился: «Я ковер продал. Дети голодные». Мой любимый ковер. Одна хорошая вещь у нас в доме была… осталась… Целый год деньги копила, собирала. По копейке. Так хотела этот ковер… вьетнамский… А он сходу пропил. Девчата с моей работы прибегали: «Ой, Томка, возвращайся домой скорей. Надоел ему малый – бьет. А старшую (девочка сестры), ей уже двенадцать лет… Сама знаешь… по пьянке…»
Я лежу ночью. Не сплю. А потом как упаду в яму, куда-то лечу. И неизвестно, какая я утром проснусь. У меня страшные мысли…
На прощание – неожиданно обнимает.
Запомни меня…
Через год она предприняла еще одну попытку самоубийства. На этот раз удачную. У мужа, как я узнала, скоро появилась другая женщина. Я позвонила ей. «Жалею его, – сказала она. – Не люблю, а жалею. Одна беда, что опять пить начал, а обещал, что бросит».
Вы догадываетесь, что я услышала дальше?
О небрезгливости мертвых и тишине пыли
Олеся Николаева – младший сержант милиции, 28 лет.
Из рассказа матери
– Я скоро умру от своих рассказов… Зачем я рассказываю? Ничем вы мне не поможете. Ну напишете… напечатаете… Хорошие люди прочтут и поплачут, а плохие… главные… они не будут читать. Им – зачем?
Я много раз уже это рассказывала…
23 ноября 2006 года…
Передали по телевизору… Уже все соседи знали. Город гудел…
А мы с Настенькой, с внучкой, были дома. Телевизор у нас не работал, давно сломался из-за старости. Ждали: «Вот Олеська приедет – новый купим». Затеяли уборку. Стирку. Нам почему-то весело-весело, в этот день смеялись и смеялись. Пришла моя мама… наша бабушка… с огорода: «Ой, девочки, что-то вы сильно веселые. Смотрите, как бы плакать не пришлось». У меня упало сердце… Как там Олеська? Но вот только вчера мы ей звонили, был праздник – День милиции: ей вручили значок «За отличную службу в МВД». Мы поздравили. «Ой, я вас так всех люблю, – сказала она. – Скорее хочу увидеть родную землю». Половина моей пенсии уходила на телефонные звонки: услышу ее голос и как-то проживу еще два-три дня. До следующего звонка… «Мама, ты не плачь, – успокаивала она меня. – Я ношу оружие, но не стреляю. С одной стороны – война, а с другой – спокойная обстановка. Утром я слышала, как мулла поет, это у них молитва такая. Горы тут живые, а не мертвые – до самых вершин в траве и в деревьях». В другой раз: «Мама, чеченская земля вся пропитана нефтью. Копай в каждом огороде – всюду нефть».
Зачем их туда послали? Они там воевали не за Родину, а за нефтяные вышки. Капля нефти теперь стоит как капля крови…
Забежала одна соседка… через час другая… «Чего они, – думаю, – разбегались?» Прибегали-то без дела. Посидят и уходят. А по телевизору уже несколько раз передали…
До утра мы ничего не знали. Утром позвонил сын: «Мама, ты дома будешь?» – «А что ты хочешь? Я собираюсь в магазин». – «Ты подожди меня. Я приеду, когда ты отправишь Настю в школу». – «Пусть дома сидит. Кашляет». – «Если температуры нет, отправляй в школу». У меня упало сердце, меня всю заколотило. Колотун напал. Настенька убежала, а я вышла на балкон. Вижу: сын идет не один, а с невесткой. Я ждать уже не могла, еще две минуты – мне через край! Выскочила на лестничную площадку и кричу вниз: «Что с Олеськой?». Видно, я так кричала… таким утробным голосом… что и они мне в ответ закричали: «Мама! Мама!». Вышли из лифта и стоят. Ни слова. «Она в больнице?» – «Нет». У меня закружилось все перед глазами. Завертелось. Потом плохо… мало помню… Откуда-то набралось много людей… Все соседи пооткрывали двери, поднимают меня с цемента, уговаривают. А я ползаю по полу и хватаю их за ноги, ботинки целую: «Люди добрые… миленькие… не могла она бросить Настеньку… свое солнышко… свет в окне… Ми-и-и-ле-еньки-и-и-е…». Я билась лбом о пол. В первые минуты не веришь, хватаешься за воздух. Не умерла, а вернется калекой. Без ног… слепая… Ничего, будем с Настенькой ее за руки водить. Главное – живая! Кого-то хочется об этом попросить… на коленках вымолить…
Много-много людей… полный дом чужих людей… Наколют лекарствами – я лежу, очнусь – опять вызывают «скорую». У меня в доме война… А у людей своя жизнь. Никто чужое горе не понимает, дай Бог свое понять. У-у-у… Все думали: я сплю, а я лежала и слушала. Горько мне, горько…
«…У меня двое сыновей. Еще в школе учатся. Собираю деньги, чтобы откупить их от армии…»
«…Наш народ терпеливый – это точно. Человек – мясо… война – работа…»
«…Евроремонт нам влетел в копеечку. Хорошо, что итальянскую плитку раньше купили, еще по старой цене. Пластиковые окна себе поставили. Бронированные двери…»
«…А дети растут… Порадуешься, пока они маленькие…»
«…Там война и тут война… Каждый день стреляют. Взрывают. Едешь в автобусе – страшно, в метро боишься войти…»
«…У соседа сын был безработный. Пьянствовал. Завербовался в контрактники. Через год вернулся из Чечни с чемоданом денег: машину купил, жене шубу и золотое кольцо. Съездили семьей в Египет… Сейчас без денег ты – ноль. А где их заработать?»
«…Разворовывают… рвут Россию на куски… Большой пирог!»
Эта война поганая! Была она где-то далеко… далеко… И пришла ко мне в дом. Я Олеське крестик повесила… Не сберег. (Плачет.)
Через день нам ее привезли… Все текло… гроб мокрый… Обтирали простынями. Начальство: скорей… скорей… скорее надо хоронить. «Не открывайте. Там – студень». А мы открыли. Всё надеялись, что ошибка. По телевизору передали: Олеся Николаева… двадцать один год… Возраст неверный. Вдруг это другая Олеся? Не наша. «Там – студень…» Выдали нам справку: «…преднамеренное самоповреждение выстрелом из табельного оружия в правую часть головы…». Что мне бумажка! Я сама хочу посмотреть, потрогать. Погладить своими руками. Когда открыли: лицо было живое, хорошее… и маленькая дырочка на левой стороне… Такая маленькая… совсем… ну, карандаш войдет. Опять неправда, как и с возрастом, дырочка на левой стороне, а пишут – на правой. Уехала она в Чечню со сводным отрядом милиционеров со всей Рязани, а помогали нам хоронить из отделения милиции, где она служила. Ее товарищи. И все они в один голос: какое это самоубийство? Это не самоубийство, а выстрел примерно с двух-трех метров… Выстрел?! А начальство торопило. Помогали, толкали. Привезли ее поздно вечером, а утром следующего дня, в двенадцать часов, уже похоронили. На кладбище… У-у-у… Сила у меня была… у человека не может быть такой силы… Крышку гроба прибьют, а я оторву, зубами бы гвозди грызла. Начальства на кладбище не было. Отказались все от нас… государство первое… В церкви не захотели отпевать: грешница… Бог такую запутавшуюся душу не примет… Ну как так… Как же так? Я теперь в церковь хожу… свечку поставлю… Подошла один раз к батюшке: «Разве Бог только красивые души любит? Если так, то зачем Он тогда?». Рассказала ему все… Я много раз уже это рассказывала… (Молчит.) Батюшка у нас молодой… Заплакал: «Как вы еще живы и не в сумасшедшем доме? Дай ей Господь Царствие небесное!». Помолился за мою девочку… А люди всяко говорили: из-за мужика девка стрельнула. По пьянке. Всем известно, что пьют они там беспробудно. И мужики, и бабы. Хватила я горя… полным ртом…
Она собирала чемодан… А мне хотелось все топтать, рвать. Руки себе кусала, хоть свяжи руки. Не могла спать. Ломало все кости, судороги по телу. Не сплю… и вижу сны какие-то… Вечный лед, вечная зима. Все в серебристо-голубом цвете… А то будто они с Настенькой идут и идут по воде, и никак не доберутся до берега. Одна вода… Настеньку вижу, а Олеська скоро пропала с глаз… Нет ее и нет… И во сне я испугалась: «Олеська! Олеська!» – зову. Появляется. Но не как живая, а как портрет… фотография… и на левой стороне у нее синяк. Как раз в том месте, где пуля прошла… (Молчит.) Это она еще только чемодан складывала… «Мама, я еду. Я уже рапорт написала». – «Ты одна воспитываешь ребенка. Они не имеют права тебя посылать». – «Мама, меня уволят, если я не поеду. Ты же знаешь: у нас все добровольно-принудительно. Но ты не плачь… Там уже не стреляют, а строят. А я буду охранять. Поеду и заработаю, как другие». Девчонки ихние уже ездили, все было нормально. «В Египет тебя свожу, пирамиды посмотрим» – это мечта у нее была. Порадовать хотела маму. Бедно мы жили… с копейки… Выйдешь в город – всюду реклама: купи машину… возьми кредит… Покупай! Только бери! В любом магазине стоит посреди зала – стол, а то и два – оформляй кредиты. Возле столов всегда очередь. Люди устали от нищеты, всем захотелось пожить. А я в другой раз не знала, чем их накормить, картошка и та кончится. И макароны. На троллейбусный билет не хватало. После техникума поступила она в педагогический институт на психолога, год проучилась – денег нет платить. Отчислили. У моей мамы пенсия – сто долларов, и у меня – сто долларов. Наверху… они там нефть качают и газ… но это не нам доллары текут, а им в карман. Простые люди, как мы, ходят по магазинам и только смотрят, как по музеям ходят. А по радио, как вредительство какое-то, специально, чтобы народ разозлить – любите богатых! Богатые нас спасут! Дадут работу… Показывают, как они отдыхают, что едят… Дома с бассейнами… Свой садовник, свой повар… Как когда-то у помещиков… при царе… Посмотришь вечером телевизор: какая гадость – и ложишься спать. Раньше много людей голосовало за Явлинского и за Немцова… Я общественницей была, на все выборы бегала. Патриотка! Мне Немцов нравился, что молодой и красивый. А потом все увидели – демократы тоже хотят хорошо жить. Про нас забыли. Человек – пыль… пылинка… Народ опять повернул к коммунистам… При них ни у кого миллиардов не было, у всех было понемногу, всем этого хватало. Каждый чувствовал себя человеком. Я была как все.
Я – советский человек, и моя мама – советский человек. Строили социализм с коммунизмом. Детей воспитывали: торговать стыдно, и не в деньгах счастье. Будь честным, а жизнь отдай Родине – это самое дорогое, что у нас есть. Всю жизнь гордилась, что я советский человек, а теперь вроде как стыдно, вроде ты уже неполноценная какая-то. Были идеалы коммунизма – теперь идеалы капитализма: «Не щади никого, ибо тебя не пощадят». «Мама, – говорила Олеська, – ты живешь в стране, которой давно нет. Ты ни в чем мне не можешь помочь». Что с нами сделали? Что с нами… (Останавливается.) Так много хочу вам сказать! Так много! Но главное-то что? После смерти Олеськи… Нашла я ее школьную тетрадку с сочинением: «Что такое жизнь?». «Я рисую себе идеал человека… – писала она. – Цель жизни – это то, что заставляет тебя подниматься вверх…» Я ее этому учила… (Рыдает.) Поехала на войну… она не способна была убить мышь… Все было не так, как должно быть, а как было – я не знаю. От меня скрывают… (Кричит.) Погибла моя девочка бесследно. Так нельзя! Моей маме в Отечественную войну было двенадцать лет, их эвакуировали в Сибирь. Дети… они там работали на заводе по шестнадцать часов в сутки… как и взрослые. За талон в столовую, где дадут миску макарон и кусочек хлеба. Хлебушка! Изготавливали снаряды для фронта. Умирали возле своих станков от того, что еще маленькие. Зачем люди тогда убивали друг друга – она понимала, а зачем сейчас убивают – не понимает. Никто не понимает. Эта война поганая! Аргун… Гудермес… Ханкала… Услышу – выключаю телевизор…
Справочка у меня на руках: «…преднамеренное… выстрелом из табельного оружия…». И Настенька осталась… девять лет Настеньке… Я теперь и бабушка, и мама. Вся больная, хирургами порезанная. Три операции. Здоровья нет, никакого здоровья нет, а откуда ему быть? Выросла я в Хабаровском крае. Тайга, тайга. Жили в бараках. Апельсины и бананы видели только на картинке. Ели макароны… Сухое молоко и макароны… изредка тушенка в банках… Мама завербовалась на Дальний Восток после войны, когда молодежь позвали Север осваивать. Звали, как на фронт. На великие стройки ехали одни голодранцы, как мы. У кого ни кола ни двора. «За туманом и за запахом тайги» – это из песен… из книжек… а мы от голода пухли. Голод нас погнал на подвиги. Я малость подросла и тоже пошла на стройку… Строила с мамой БАМ. И у меня есть медаль «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и пачка грамот. (Молчит.) Зимой морозы под пятьдесят градусов, земля замерзала на метр. Белые сопки. Такие белые под снегом, что их уже не видно и в хорошую погоду. Не различишь. Сопки я на все сердце полюбила. У человека есть большая Родина и маленькая родинка. Так вот там моя родинка. В бараках стенки тоненькие, туалет на улице… Но – молодость! Верили в будущее, всегда верили… Жизнь, и правда, с каждым годом улучшалась: то ни у кого не было телевизоров, ни у кого! – и вдруг они появились. Жили в бараках… И вдруг стали давать отдельные квартиры. Пообещали: «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Это я… я буду жить при коммунизме?! (Смеется.) Поступила на заочное отделение в институт, выучилась на экономиста. Денег за учебу не надо было платить, как сейчас. Кто бы меня выучил? За это я благодарна советской власти. Работала в райисполкоме в финансовом отделе. Купила себе мутоновую шубу… хороший пуховый платок… зимой закутаешься – один нос торчит. По колхозам ездила с проверками, в колхозах разводили соболей, песцов, норок. Уже неплохо мы жили. Я маме тоже шубу купила… Тут объявили нам капитализм… Пообещали, что коммунисты уйдут и всем будет хорошо. Народ у нас недоверчивый. Горем наученный. Люди сразу побежали покупать соль и спички. «Перестройка» звучало, как «война». На наших глазах стали разворовывать колхозы… заводы… А потом скупили их за копейки. Мы всю жизнь строили, а все пошло за пятачок. Народу дали ваучеры… обманули… Лежат они у меня и сейчас в серванте. Справочка на Олеську… и эти бумажки… Капитализм это или что? На русских капиталистов я насмотрелась, не все они были русские, и армяне были, и украинцы. Брали большие кредиты у государства и денег не возвращали. У этих людей блестели глаза. Как у зэков. Характерный такой блеск, мне отлично знакомый. Там всюду лагеря и проволока. Кто Север осваивал? Зэки и мы, беднота. Пролетариат. Но мы про себя тогда так не думали…
Моя мама решила… Выход был один – возвращаемся в Рязань. Туда, откуда мы родом. Под окнами уже стреляли – СССР делили. Хапали… рвали… Бандиты стали хозяевами, а умные – дураками. Мы все построили и этим бандитам отдали… Так получается? Сами уехали с пустыми руками, со своим домашним барахлишком. А им заводы оставили… рудники… Ехали на поезде две недели, везли с собой: холодильник, книжки, мебель… мясорубку, посуду… все такое… Две недели я в окно смотрела: нет русской земле ни конца, ни края. Слишком «великая и обильная» Россия-матушка, чтобы навести в ней порядок. Это было в девяносто четвертом году… Уже при Ельцине… Что нас ждало дома? Дома учителя у азербайджанцев-ларечников подрабатывали, фрукты продавали, пельмени. В Москве рынок – от вокзала до Кремля. Нищие откуда-то сразу появились. А мы все советские! Советские! Всем было долго стыдно. Неловко.
…На городском рынке я разговорилась с одним чеченцем… Пятнадцать лет, как у них война, и они тут спасаются. Расползаются по России… по разным углам… А вроде война… Россия с ними воюет… «спецоперация»… Что это за война такая? Молодой был чеченец: «Я, мамаша, не воюю. У меня жена – русская». А я слышала историю… могу и вам рассказать… Чеченская девушка полюбила русского летчика. Красивого парня. По обоюдному согласию, они договорились – выкрал он ее у родителей. Увез в Россию. Поженились. Все как положено. Родили мальчика. Но она плакала и плакала, ей было жалко своих родителей. И они написали им письмо: простите, мол, нас… мы любим друг друга… Привет от русской мамы передали. А все эти годы родные братья эту чеченку искали, хотели убить, потому что она опозорила их семью – вышла замуж за русского, мало что он русский, так он еще их бомбил. Убивал. По адресу на конверте они нашли быстро… Один брат ее зарезал, а второй потом приехал, чтобы домой забрать. (Молчит.) Эта война поганая… эта беда… пришла ко мне в дом. Я теперь все собираю… все про Чечню читаю, где найду. Расспрашиваю… Я хотела бы туда поехать. И чтобы меня там убили. (Плачет.) Я была бы счастливая. Такое мое счастье материнское… Знаю одну женщину… От сына ботинка не нашли, снаряд прямо в него попал. «Я была бы счастлива, – призналась она мне, – если бы он в родной земле лежал. Хотя бы кусочек…» Это уже для нее было бы счастьем… «Мамаша, у тебя есть сын?» – спросил меня этот чеченец. «У меня сын есть, но у меня дочь погибла в Чечне». – «Русские, я хочу вас спросить, что это за война? Вы убиваете нас, калечите, а потом лечите в своих больницах. Бомбите и грабите наши дома, а потом их строите. Уговариваете, что Россия – наш дом, а мне каждый день из-за моей чеченской физиономии надо дать милиции взятку, чтобы они меня не забили насмерть. Не ограбили. Я их убеждаю, что не пришел сюда убивать и не хочу взорвать их дом. Меня могли убить в Грозном… но могут убить и здесь…»
Пока бьется мое сердце… (В отчаянии.) Я буду искать. Хочу знать, как погибла моя дочь. Я никому не верю.
Открывает дверцу серванта, где рядом с хрустальными рюмочками лежат документы и фотографии. Берет и раскладывает их на столе.
Девка у меня была красивая… Заводила в школе. Любила на коньках кататься. Училась посредственно… нормально… В десятом классе влюбилась в Ромку… Я, конечно, против, он старше ее на семь лет. «Мама, а если это любовь?» Любовь была безумная, он ей не звонит, так она сама… «Зачем ты звонишь?» – «Мама, а если это любовь?» Только Ромка, один он у нее в глазах. Про маму забыла. Сегодня выпускной бал, а назавтра они уже расписались. Уже ребеночек. Ромка пил, дрался, а она плакала. Я его ненавидела. Год они так пожили. Резал вещи на ней хорошие, ревновал. Возьмет за волосы, намотает на руки – и головой об стенку. Терпела она, терпела… Маму не слушалась. Пока… Все-таки… Не знаю как… Все-таки она убежала от него. Куда? К маме… «Мама, спаси!» Так он взял и пришел к нам жить. Ночью проснулась… всхлипы какие-то… Открываю ванную, а он стоит над ней с ножом… Я схватила этот нож, порезала себе руки. В другой раз достал какой-то пистолет, газовый, думаю, не настоящий. Я от него Олеську оттягиваю, а он на меня этот пистолет: «Сейчас ты замолчишь!» Плакала и плакала, пока они не разошлись. Я его выгнала… (Молчит.) Прошло… ну полгода не прошло… Возвращается с работы: «Ромка женился». – «А ты откуда знаешь?» – «Подвез меня в городе». – «И что?» – «А ничего». Женился он быстро. А у нее это была детская любовь. Незабываемая. (Берет листок из стопки документов.) Судмедэксперт написал: выстрел в правую часть головы, а дырочка была на левой стороне. Маленькая дырочка… Может быть, он ее мертвую и не видел? Ему приказали так написать. Хорошо заплатили.
Я надеялась… Ждала, когда вернется ее отряд. Расспрошу их… восстановлю картину… Дырочка на левой стороне, а пишут – на правой. Мне надо знать… Уже зима. Снег. Когда-то я любила снег. И Олеська моя любила, достанет заранее коньки, смажет жиром. Когда-то давно… давно-давно это было. Горько мне, горько… Смотрю в окно: люди готовятся к Рождеству, бегут с подарками, игрушками. Несут елки. А у меня на кухне постоянно работает приемник. Слушаю наше радио. Местные новости. Жду. Наконец, дождалась – сообщение: «Рязанские милиционеры вернулись из служебной командировки в Чечню», «наши земляки с честью выполнили свой солдатский долг», «не посрамили»… Их торжественно встретили на вокзале. Оркестр, цветы. Вручили награды и ценные подарки. Кому – телевизор, кому – ручные часы… Герои… Герои вернулись! Об Олеське ни слова, никто не вспомнил… Я жду… держу приемник у самого уха… Должны вспомнить! Началась реклама… реклама стирального порошка… (Заплакала.) Пропала моя девочка бесследно. Так нельзя! Олеська… Она была первая… первый «чеченский» гроб в городе… Через месяц привезли еще два гроба – один милиционер постарше, другой совсем молодой. С ними народ прощался в театре… в городском театре имени Есенина. Почетный караул. Венок от общественности, от мэра… Речи. Похоронили их на аллее Героев, где «афганские» мальчики лежат… теперь и «чеченские»… На кладбище у нас две аллеи – аллея Героев и еще одна – люди ее называют аллеей бандитов. Бандиты воюют между собой, постреливают. Перестройка – перестрелка. У бандитов самые лучшие места на кладбище. Гробы из красного дерева, инкрустированные под золото, с электронным холодильником. Не памятники, а курганы славы. Героям памятники ставит государство. Солдатские – ну, скромные памятники. И то не всем. Контрактникам – отказ. Знаю, что одна мать пошла в военкомат, ей отказали: «Твой сын за деньги воевал». Моя Олеська… она лежит отдельно от всех, она же простая самоубийца… У-у-у… (Не может говорить.) Наша Настенька… Пенсию за маму ей назначили полторы тысячи рублей – пятьдесят долларов в месяц. Где правда? Справедливость? Пенсия маленькая, потому что ее мама – не герой! Вот если бы мама убила кого-то, подорвала гранатой… А мама убила саму себя, больше никого она не убила… Не герой! Как это объяснить ребенку? Что я ей скажу? В одной газете написали будто бы Олеськины слова: «Моей дочке не будет стыдно за меня…». Первые дни после похорон… Настенька сидела отрешенно, как будто ее нет или она не знает, где она. Никто не мог решиться… Это я ей сказала: «Олеськи… мамочки твоей нет…». Она стояла и как будто не слышала меня, я плакала, а она не плакала. И потом… я вспомню что-нибудь об Олеське… а она как не слышит. Долго так продолжалось, меня это даже начало злить. Водила ее к психологу. Сказали: нормальный ребенок, но сильно потрясенный. Были мы и у ее папы. Спрашиваю у него: «Ты забираешь ребенка?» – «А куда я ее заберу?» У него уже там, в другой семье, ребенок. «Тогда отказывайся». – «Как это? А вдруг мне в старости что-то нужно будет. Копейка какая…» Такой у нас папочка… Помощи нам от него нет. Одни Олеськины друзья навещают… В день рождения Настеньки всегда соберут и принесут немного денег. Компьютер купили. Друзья помнят.
Долго я ждала звонка. Отряд вернулся – и командир, и те ребята, с кем она там была. Позвонят… Обязательно! Молчит телефон… И я сама начала искать фамилии, номера телефонов. Командир отряда Климкин… Прочитала в газете его фамилию. Все! Все газеты про них писали – русские богатыри! Рязанские витязи. И даже в одной газете была его статейка, что он благодарит отряд за хорошую службу. Выполнили, мол, долг с честью… Еще и с честью… Звоню в отдел милиции, где он работает: «Пригласите, пожалуйста, майора Климкина» – «Кто его спрашивает?» – «Людмила Васильевна Николаева… мать Олеси Николаевой…» – «Нет на месте… Занят… В отъезде…». Ты командир… Ты сам приди к матери и расскажи, как там было. Утешь. Поблагодари. Я так понимаю… (Плачет.) Плачу, но слезы мои злые… Я Олеську не пускала, просила не ехать, а моя мама: «Раз надо, пускай едет». Надо! Я теперь ненавижу это слово! Уже я не та… А за что мне Родину любить? Нам обещали, что демократия – это когда всем хорошо. Везде справедливо. Честно. Обман все это… Человек – пыль… пылинка… Одно, что сейчас в магазинах всего полно. Бери! Бери! При социализме этого не было. Конечно, я – простая советская женщина… Никто меня уже не слушает, потому что денег у меня нет. Были бы деньги – другой разговор. Они бы меня боялись… начальнички… Сейчас деньги правят…
Олеська уезжала… Радовалась: «Вместе с Кормчей едем». Они вдвоем были, две женщины в отряде. Ольга Кормчая… Я ее видела на вокзале, когда прощались. «Это – моя мама», – сказала Олеська. Был момент на проводах… Может быть, сейчас я этому придаю значение. После всего. Автобусы вот-вот тронутся… Заиграли гимн – все заплакали. Я стояла с одной стороны и чего-то перебежала на другую, что-то Олеська мне через окно крикнула, и я поняла ее так, что они будут поворачивать. И я перебежала, чтобы еще раз ее увидеть. Помахать рукой. А они поехали прямо, и я ее не увидела. Защемило сердце. Ручка от сумки у нее оторвалась в последний момент… Может быть, это я сейчас так себя накручиваю… Кровинушка моя… (Плачет.) Нашла по справке телефон Кормчей… Звоню: «Я – мама Олеси… Хочу с вами встретиться». Она долго молчала, а потом даже с какой-то обидой, с каким-то злом: «Я столько пережила… Когда вы все отстанете от меня!». Положила трубку. Второй раз звоню: «Прошу! Мне надо знать… Умоляю!» – «Хватит меня мучить!» Еще раз позвонила, наверное, через месяц… К телефону подошла ее мама: «Дочки нет дома. Уехала в Чечню». Опять! В Чечню?! Понимаете, и на войне кто-то может хорошо устроиться. Кому как повезет… Человек о смерти не думает, умереть сегодня страшно, а когда-нибудь – ничего. Все они за те полгода, что там были, получили по шестьдесят тысяч рублей. На бэушный автомобиль хватит. Ну и зарплата сохранилась. А Олеська взяла перед отъездом в кредит стиральную машину… мобильник… «Приеду и расплачусь», – говорила. Теперь нам платить. Из чего? Приходят квитанции… складываем… У Настеньки старые кроссовки, они ей маленькие, вернется из школы и плачет, пальчики болят. Складываем, складываем с мамой свои пенсии, деньги считаем, считаем, и ничего к концу месяца не остается. А мертвого не дозовешься…
Два человека были с ней в последний момент… Два свидетеля. Контрольно-пропускной пункт… ка-пэ-пэ… будочка – два на два с половиной метра. Ночное дежурство. Их было трое. Первый… «Ну пришла она, – рассказал по телефону, – поговорили две-три минуты…» И он вроде отлучился, то ли по нужде, то ли его кто-то позвал. Услышал за дверью – хлопок, даже сначала не подумал, что выстрел. Вернулся, а она лежит. Настроение? Какое у нее было настроение? Настроение было хорошее… нормальное было настроение… «Привет». – «Привет». Посмеялись. Хи-хи… ха-ха… Второй свидетель… И этому звоню на работу… на личную встречу не пришел, а меня к нему не допустили… Он был рядом, когда она стреляла, но будто бы в тот самый момент отвернулся. В ту секунду… Будочка – два на два с половиной метра, а он ничего не видел. Вы поверите? Я вымаливала у них: скажите… мне надо знать… Я больше никуда с этим не пойду. Заклинаю! Бегали от меня как ошпаренные. Им приказали молчать. Защищать погоны. Заткнули им рты долларами… (Рыдает.) С самого начала, когда она пошла на работу в милицию, мне не нравилось: моя Олеська – милиционер? Ну не нравилось! Никак не нравилось… Тут такое… Образование у нее – техникум и один курс института. Долго не могла трудоустроиться. А в милицию ее сразу брали. Мне было страшно… Милиция – это бизнес… мафия… Милиционеров люди боятся, в каждой семье кто-то пострадал от милиции. И пытают в нашей милиции, и калечат. Боятся их, как бандюгов. Не дай бог! В газетах читаешь: оборотни в погонах… там изнасиловали… там убили… Такого… в советское время… Вы что? А если и было… Так многого не говорили… не писали… И мы чувствовали себя защищенными. (Задумалась.) Половина милиционеров воевали. Или в Афгане, или в Чечне. Убивали. Психика у них потревоженная. Воевали там они и с мирным населением. Теперь такие войны: солдаты не только между собой воюют, но и с гражданскими. С обыкновенными людьми. Для них все – враги: мужчины, женщины, дети. И тут, уже дома, убьют человека, а потом удивляются, что это надо объяснять. В Чечне объяснять не надо было… «Мама, – спорила со мной Олеська, – ты не права. Все зависит от человека. Девушка-милиционер – это красиво. Синяя рубашка, погоны».
В последний вечер пришли к ней друзья попрощаться… Сейчас вспоминаю… все я сейчас вспоминаю… Всю ночь они проговорили…
«…Россия – великая страна, а не газовая труба с краником…»
«…Крыма нет… отдали… Чечня воюет… Татарстан шевелится… Я хочу жить в большой стране. Наши “МИГи” будут в Риге…»
«…Мордой об стол Россию! А чеченские бандиты – герои… Права человека?! А там: приходили в русский дом с автоматами – или убьем, или уходи. Хороший чеченец тот, кто сначала говорит: “Уходи!”, а потом убивает, плохой убивает сразу. Чемодан, вокзал, Россия. Надписи на заборах: “Не покупайте квартиры у Маши, они все равно будут наши”, “Русские, не уезжайте – нам нужны рабы”».
«…Двое русских солдат и офицер попали к чеченам в плен. Солдатам отрезали головы, а офицера отпустили: “Иди и сходи с ума”. Я на кассетах видел… Обрезают уши, пальцы отрубают… В подвалах – русские рабы-пленники. Звери!»
«…Поеду! Мне на свадьбу деньги нужны. Хочу жениться. Девчонка красивая… долго ждать не будет…»
«…У меня друг… Мы с ним в армии вместе служили. Жил он в Грозном. Сосед – чеченец. В один прекрасный день он ему говорит: “Прошу тебя – уезжай!” – “Почему?” – “Потому что мы вас скоро резать будем”. Оставили они там трехкомнатную квартиру, живут сейчас в Саратове в общежитии. Ничего не дали им увезти: “Пускай Россия, – кричали, – вам все новое купит. А это – наше!”»
«…Пала на колени Россия, но еще не добита. Мы – русские патриоты! Надо долг Родине отдать! Анекдот: товарищи солдаты и офицеры, если вы хорошо проявите себя в Чечне, то Родина пошлет вас “на отдых” в Югославию. В Европу… твою мать!»
Сын терпел, терпел и не выдержал. Стал меня ругать: «Мама, ничего ты не добьешься, кроме инсульта». Отправил в санаторий. Силой, можно сказать, со скандалом. В санатории я подружилась с хорошей женщиной, у нее дочь рано умерла от аборта, мы вместе плакали. Стали подругами. Недавно позвонила ей – она умерла. Заснула и умерла. Я знаю, что от тоски она умерла… Почему я не умираю? Я счастлива была бы умереть, но я не умираю. (Плачет.) Вернулась из санатория… «Деточка, они тебя посадят, – первые мамины слова. – Не простят, что правды добиваешься». Что было… Только я отъехала, ей звонят из милиции: «В двадцать четыре часа явиться в кабинет такой-то… За неявку – штраф… пятнадцать суток ареста…». Мама – человек напуганный, у нас все люди напуганные. Найдите мне старого не напуганного человека. И не только это… Приходили и опрашивали соседей: что мы за люди… какое поведение… Про Олеську допытывали: видел ли ее кто-нибудь пьяной? А наркотики… Из поликлиники затребовали наши медицинские карточки. Проверяли: не состоял ли кто на учете в психдиспансере? Меня обида за душу взяла! И злость! Беру трубку… Звоню в милицию: «Кто угрожал моей маме?.. человеку девятый десяток… По какому вопросу вызывали?». Кончилось это тем, что через день они мне прислали повестку: «В кабинет такой-то… фамилия следователя…». Мама в слезах: «Тебя посадят». Мне уже ничего не страшно. Тьфу на них! Надо, чтобы Сталин из гроба встал! Я прошу его встать из гроба! Это моя молитва… Мало он наших начальничков сажал и расстреливал. Мало! Мне их не жалко. Я хочу их слез! (Плачет.) Пришла я в этот кабинет… фамилия Федин… Рубанула с порога: «Что вы от меня хотите? Дочь в мокром гробу привезли… Мало вам?». – «Вы – безграмотная женщина. Не понимаете, где вы находитесь. Тут вопросы задаем мы…» Сначала он был один… потом вызвал Олеськиного командира… Климкина… Наконец и я его увижу! Он заходит… Я – к нему: «Кто убил мою дочь? Скажите мне правду…» – «Дур-ра ваша дочь… Сумасшедшая!» Ой, не могу! Не могу… Налился весь кровью… Кричал, топал. Ой! Провоцировали меня… Добивались, чтобы я заорала или царапалась, как кошка. Значит, я сумасшедшая, и дочь у меня сумасшедшая. Их цель – закрыть мне рот… У-у-у…
Пока сердце мое бьется… буду искать правду… Никого не боюсь! Я уже не тряпка половая, не букашка. Меня назад в коробочку не загонишь. Мне дочь в мокром гробу привезли…
…Ехала в пригородной электричке… Сел напротив мужчина: «Ну что, мать, едем? Давай знакомиться…». Представился: «Бывший офицер, бывший предприниматель-одиночка, бывший “яблочник”. Теперь безработный». А у меня о чем кто не спросит, я о своем: «А у меня дочь погибла в Чечне… младший сержант милиции…». Он попросил: «Расскажи мне…». Я много раз уже это рассказывала… (Молчит.) Послушал и про свое начал…
«…Я сам там был. Вернулся, и жизнь у меня тут не получается. Не могу запихнуть себя в эти рамки. На работу не хотят брать: “А-а-а… из Чечни?”. Я боюсь других людей… меня тошнит от других людей… А встречу воевавшего в Чечне – он мне брат…
…Стоит старый чеченец и смотрит: нас полная машина дембелей. Смотрит и думает: нормальные русские парни, а только что были автоматчики, пулеметчики… снайперы… Куртки на нас новенькие, джинсы. На что купили? На то, что здесь заработали. Работа какая? Война… Стреляешь… А там и дети, и красивые женщины. Но забери у солдат оружие, переодень их в гражданское… это уже трактористы, водители автобусов, студенты…
…Жили за проволокой… Вокруг вышки и минные поля. Тесный закрытый мир. Зона. Выйти нельзя – убьют. Смерть оккупантам! Пили все, напивались до скотского состояния. Изо дня в день видишь разбитые дома, как тащат вещи, убивают людей. И из тебя вдруг такое прет! Расширяется все… все, что ты можешь… Можно многое себе позволить… Ты – пьяная скотина и у тебя оружие в руках. В голове – один сперматозоид…
…Работа палаческая… Умирали за мафию, которая нам еще и не платила. Обманывала. Но я же не здесь, не на улице убивал людей, а на войне. Я видел русскую девчонку, которую эти шакалы изнасиловали. Прижигали сигаретой грудь, чтобы сильнее стонала…
…Привез деньги… Попил с друзьями водки, купил подержанный “мерседес”…» (Уже не вытирает слез.) Так вот где моя Олеська была… Куда попала… Эта война поганая… Была она где-то далеко-далеко, а сейчас в моем доме. Два года… Стучусь в двери, хожу по разным инстанциям. Пишу в прокуратуру… районную, областную… Генеральному прокурору… (Показывает на стопку писем.) Получаю отписки… Гора отписок! «По факту гибели вашей дочери сообщаем…» И все врут: погибла тринадцатого ноября, а на самом деле одиннадцатого, группа крови первая, а у нее третья, то она была в военном обмундировании, то в гражданском платье. Дырочка на левой стороне возле виска, а они пишут – на правой… Написала запрос нашему депутату в Госдуму – я его выбирала, я за него голосовала. Я верила нашей власти! Добилась к нему на прием. Стою на первом этаже в Госдуме… И глаза у меня делаются по кулаку! Вижу ювелирный ларек: золотые кольца с бриллиантами, золотые и серебряные пасхальные яйца… и подвески… За всю жизнь я столько не заработала, сколько там стоит самое маленькое колечко с бриллиантом. Одно колечко… Наши депутаты… народные… откуда у них такие деньги? Пачка грамот за честную работу у меня… и у мамы… А у них акции Газпрома… У нас – бумажки, а у них – деньги. (Зло молчит.) Зря я туда ходила… зря там плакала… Сталина верните… Народ ждет Сталина! Забрали у меня дочь и привезли гроб. Мокрый гроб… И никто не хочет поговорить с матерью… (Плачет.) Я теперь сама в милиции могу работать… Осмотр происшествия, протокол преступления. Если это самоубийство, то на пистолете остается кровь… на руках порох… Я все теперь знаю… Новости по телевизору не люблю. Вранье! А детективы… убийства… ну, такое все… не пропускаю. Утром, бывает, встать не могу, ноги, руки отнимаются – лежала бы… Вспомню Олеську… Поднимаюсь и иду…
По кусочкам собрала… по словцу… Кто-то по пьяни проболтался, их же там было семьдесят человек, кто-то знакомым шепнул. Город наш небольшой… не Москва… Сегодня я уже представляю картину… что там происходило… Была у них грандиозная пьянка в честь Дня милиции. Набухались до беспамятства и устроили бардак. Если бы Олеська поехала со своими ребятами… из своего отдела, а то все чужие… Сводный отряд. Попала она к гаишникам. Гаишники – короли, денег у них полные карманы. Стоят на дорогах с автоматами и снимают дань. Все им платят. Золотое место! Мальчики любят порезвиться… Убить, напиться и трахнуть – три радости на войне. В дупель они напились, набрались до колючей проволоки в глазах… озверели… И вроде там всех девчонок насиловали. Своих девчонок. А Олеська то ли не далась, то ли она им потом пригрозила: «Я вас всех посажу». И ей не дали уйти.
Говорят и другое… Стояли они на посту, пропускали машины. Там все крутятся, вертятся, бегают как ненормальные, чтобы заработать. Любыми средствами. Кто-то провозил контрабанду, что и откуда – не скажу, врать не стану. Наркотики или… Но все у них было договорено. Оплачено. Это была машина «Нива»… все какую-то «Ниву» вспоминают… А Олеська уперлась… почему-то она эту машину не пропускала… И в нее выстрелили. Перекрыла она большие деньги, кому-то помешала. Вроде к этому делу причастен высокий чин…
И моей маме во сне «Нива» приснилась… К ясновидящей я пошла… положила на стол вот эту фотографию… (Показывает.) «Вижу – сказала она, – какую-то “Ниву”»…
…Разговорилась с одной женщиной… Она – медсестра. Не знаю, какая она была, когда поехала в Чечню, может, веселая. А сейчас – злая, как и я, злая. Сейчас много людей обиженных, они молчат, но они обижены. Все мечтали выиграть в новой жизни, а мало кто выиграл, вытянул счастливый билетик… Никто не готовился упасть на дно. С обидой теперь люди живут, у многих обида. (Молчит.) А может, и Олеська бы другая приехала… незнакомая… У-у-у… (Молчит.) Эта женщина была со мной откровенна…
«…За романтикой ехала! Надо мной долго все там хихикали. А если честно – из-за несчастной любви все дома бросила. Мне было все равно – чеченец меня застрелит или я от тоски умру.
…Кто с трупами не сталкивался, думает, что они молчат. Беззвучные. А там все время какие-то звуки. Где-то воздух вышел, где-то кость внутри треснула. Какой-то шорох. С ума можно сойти…
…Я не видела там мужчин, которые не пьют и не стреляют. Напьются и стреляют – куда хочешь. Зачем? Никто не ответит.
…Он был хирург… Я думала: у нас любовь. Перед тем, как нам ехать домой, он заявил мне: “Не звони и не пиши. Если дома гулять, то с красивой женщиной, с которой не стыдно попасть на глаза жене”. Я – не красавица. Но мы с ним по трое суток в операционной стояли. Это такое чувство… сильнее, чем любовь…
…Я теперь мужчин боюсь… С теми, кто пришел с войны, я ничего не могу… Козлы они! Все козлы! Собиралась домой… и то хочу с собой взять, и это… Магнитофон, ковер… “А я, – сказал начальник госпиталя, – все тут оставлю. Не хочу везти войну домой”. Мы войну не с вещами, а в душе привезли…»
Передали нам Олеськины вещи: бушлат, юбочку… Отдали золотые сережки, цепочку. В кармане бушлата лежали орешки и две маленькие шоколадки. К Рождеству, видно, собирала и хотела с кем-то домой передать. Горько мне, горько…
Ну напишете вы правду… А кому от этого страшно? Власть, она сейчас недоступная… Одно нам осталось: ружье и забастовка. Лечь на рельсы. Но нет предводителя… люди давно поднялись бы… Пугачева нет! Если мне дадут оружие, я знаю, в кого стрелять… (Показывает газету.) Читали? Есть туристический тур в Чечню. На военных вертолетах везут и показывают разрушенный Грозный, сожженные села. Там война и стройка идут одновременно. Стреляют и строят. И показывают. Мы еще плачем, а кто-то уже торгует нашими слезами. Страхом. Торгуют, как нефтью.
Через несколько дней мы опять встретились.
Раньше я понимала нашу жизнь… то, как мы жили… А сейчас не понимаю… нет…
О тьме лукавой и «другой жизни, которую можно сделать из этой»
Елена Раздуева – рабочая, 37 лет
Для этой истории я долго не могла найти себе «проводника», рассказчика или собеседника, – даже не знаю, как мне называть тех, с чьей помощью путешествую по человеческим мирам. По нашей жизни. Все отказывались: «этот случай – для психиатра», «из-за своих больных фантазий мать бросила троих детей – тут суд должен разбираться, а не писатель». «А Медея? – спрашивала я. – Как же Медея, которая убила собственных детей ради любви?» – «Это – миф, а у вас реальные люди». Но реальность – это не гетто для художника. Это тоже свободный мир.
Потом я узнала, что о моей героине уже снят фильм «Страдания» (студия «Фишка-фильм»). Мы встретились с режиссером фильма Ириной Васильевой. Разговаривали, прокручивали кассету с фильмом, снова разговаривали.
Из рассказа кинорежиссера Ирины Васильевой
– Мне рассказали… И мне эта история не понравилась, я испугалась. Меня убеждали, что это будет потрясающий фильм о любви, надо ехать и немедленно снимать. Очень русская история! Женщина, у которой муж и трое детей, влюбилась в зэка, да еще в «вечника», осужденного за особо жестокое убийство на пожизненное заключение, ради него она бросила все – мужа, детей, дом. Но что-то меня останавливало…
На Руси каторжников испокон веков любят – они грешники, но и страдальцы тоже. Им нужно ободрение и утешение. Целая культура жалости, она бережно сохраняется, особенно в деревнях и маленьких городках. Там живут простые женщины, у них нет интернета, но они пользуются почтой. Старинным способом. Мужики пьют, дерутся, а они сидят вечерами и пишут друг другу письма, там, в этих конвертах, бесхитростные истории жизни и ерунда всякая – какой-нибудь фасончик, рецептик, и в конце обязательно будут адреса заключенных. У кого-то брат сидит, сообщил о товарищах, у кого-то сосед или одноклассник. Передают по сарафанному радио… Своровал, погулял, сел в тюрьму – вышел и опять сел. Обычная история! В деревнях, как послушаешь, половина мужиков или уже сидела, или еще сидит. А мы же христиане, должны помогать несчастным. Есть женщины, которые выходят замуж за этих многократных сидельцев и даже убийц. У меня нет высокомерия, чтобы взять и объяснить вам, что это такое… Это сложно… Но у мужиков нюх на этих барышень. Чаще всего это женщины с неудачной судьбой, не реализовавшие себя. Одинокие. А тут они сразу становятся нужными, кого-то опекают. Один из способов что-то изменить в своей жизни. Лекарство какое-то…
В конце концов, мы все-таки поехали снимать фильм. Мне захотелось рассказать, что в наш прагматичный век есть люди, у которых другая логика существования. И как они беззащитны… Мы много говорим о своем народе. Одни его идеализируют, а другие держат за быдло. За совок. А на самом деле, мы его не знаем. Между нами пропасть… Я всегда снимаю историю, в любой истории есть все. Там всегда есть две главные вещи – любовь и смерть.
Это в Калужской области, в глухой деревне… Едем туда… Смотрю в окно: все бесконечно – и поля, и лес, и небо. На холмах белеют храмы. Сила и покой. Что-то древнее. Едем, едем… С магистрали свернули на обычную шоссейку… О-о-о! Русские дороги – эксклюзив, не всякий танк, бывает, проедет. Две-три ямы на каждые три метра, это еще хорошая дорога. А по сторонам – деревни… Кривые, косые избы с поломанными заборами, по улицам бродят куры и собаки. С утра уже очередь алкоголиков возле закрытого еще магазина. Все до спазма в горле знакомое… В центре как стоял, так и стоит гипсовый памятник Ленину… (Молчит.) Было время… уже не верится, что оно было, и что мы такие были… Когда пришел Горбачев, все мы бегали ошалевшие от радости. Жили в мечтах, в иллюзиях. Отводили душу на кухнях. Хотели новую Россию… Через двадцать лет до нас дошло: а откуда ей взяться? Ее не было и нет. Кто-то точно заметил: за пять лет в России может поменяться все, а за двести – ничего. Просторы необъятные, и при этом психология рабов… На московских кухнях Россию не переделаешь. Герб вернули царский, а гимн остался сталинский. Москва русская… капиталистическая… А Россия как была, так и осталась советской. Там демократов в глаза не видели, а если бы увидели, то разорвали бы. Большинство хочет пайку и вождя. Дешевая паленая водка течет рекой… (Смеется.) Я чувствую, что мы с вами из «кухонного» поколения… Начали говорить о любви, а через пять минут уже обсуждаем, как обустроить Россию. Ну а России до нас дела нет, она живет своей жизнью…
Пьяненький мужичок показал, где живет наша героиня. Вышла из избы… Сразу мне понравилась. Синие-синие глаза, статная. Можно сказать, красавица. Русская красавица! Такая женщина будет сверкать и в бедной крестьянской избе и в шикарной московской квартире. И представьте себе, она невеста какого-то убийцы, мы его еще не видели, у него пожизненный срок, он болен туберкулезом. Услышала зачем мы приехали – смеется: «Это мой сериал». Я хожу и думаю, как мне сказать, что мы будем ее снимать. Вдруг она боится камеры? А она мне говорит: «Я такая дурочка, что каждому встречному-поперечному свою историю рассказываю. Одни плачут, другие проклинают. Если хотите, я и вам расскажу…» Рассказывает…
О любви
– Я не собиралась замуж, но, конечно, мечтала. Мне было восемнадцать лет. Он! Он! Какой будет он? Однажды приснился сон: я иду по лугу к реке, она у нас за деревней, и впереди вдруг появляется высокий красивый парень. Берет меня за руку и говорит: «Ты – моя невеста. Моя невеста перед Богом». Проснулась и думаю: надо не забыть его… его лицо… Оно у меня в памяти осталось, как программа какая-то. Год прошел… два… я такого парня не встречаю. А за мной долго ухаживал Леша, он был сапожник. Звал замуж. Я ему честно отвечала, что я его не люблю, а люблю и жду того парня, которого видела во сне. Когда-нибудь я его встречу, не может быть, чтобы я его не встретила, просто невозможно. Леша смеялся… и папа с мамой смеялись… Убедили меня, что надо выйти замуж, а любовь придет потом.
Что улыбаетесь? Все надо мною смеются, я знаю… Если живешь так, как чувствует твое сердце, так ты ненормальная. Говоришь правду – тебе не верят, а когда врешь – вот это да! Идет знакомый парень, я как раз в огороде копалась: «Ой, слушай, Петя, я тебя тут недавно во сне видела». – «Ой, не надо! Только не это!» Отскочил от меня, как от чумной. Я не такая как все, сторонятся меня… Никому не хочу нравиться, внимание на тряпки не обращаю и не крашусь. Не умею флиртовать. Умею только разговаривать. Одно время хотела уйти в монастырь, а потом прочитала, что монахиней можно быть и вне монастыря. Даже дома. Это образ жизни.
Вышла замуж. Боже мой, какой Алеша хороший, он такой сильный, он брал кочергу и гнул. Как я его полюбила! Родила ему сына. После родов со мной что-то случилось, может, послеродовый шок, меня оттолкнуло от мужчин. У меня есть ребенок, зачем мне еще муж? Я могла с ним разговаривать, стирать ему, варить еду, стелить постель, но быть с ним я не могла… как с мужчиной… Я кричала! Я билась в истерике! Так мы промучились два года, и я ушла, взяла ребенка на руки и ушла. А идти мне было некуда. Мама и папа умерли. Сестра где-то на Камчатке… Был у меня друг Юра, он меня еще со школы любил, но никогда мне в своей любви не признавался. Я – большая, высокая, а он маленький, намного ниже меня. Он пас коров и читал книжки. Знал всякие истории, быстро разгадывал кроссворды. Я пришла к нему: «Юра, мы с тобой друзья. Можно я поживу у тебя? Я буду в твоем доме, только ты не подходи ко мне. Пожалуйста, не трогай». И он сказал: «Хорошо».
Так мы жили, жили… И я себе думаю: он меня любит, так красиво себя ведет, ничего от меня не требует – что же я мучаю человека? Пошли с ним и расписались. Он хотел, чтобы мы в церкви повенчались, тогда я ему призналась, что в церкви не могу… и рассказала про свой сон, про то, что жду свою любовь… Юра тоже надо мной посмеялся: «Ты – как ребенок. Веришь в чудо. Но никто не будет тебя любить так, как я». Родила я ему двух сыновей. Пятнадцать лет мы с ним жили и пятнадцать лет ходили, держась за руки. Люди удивлялись… Многие живут без любви, видят любовь только в телевизоре. Кто человек без любви? Как цветок без воды…
У нас это заведено… Девчонки и молодые женщины пишут письма в тюрьму. Все мои подружки и я… мы со школы писали… Я сотни писем таких написала и сотни ответов получила. И в тот раз… Все было как всегда… Почтальонша кричит: «Ленка, тебе казенное». Я бегу… Беру письмо: тюремный штемпель, закрытый почтовый адрес. Вдруг мое сердце начинает сильно-сильно биться. Еще только почерк увидела, но он такой мне родной – от волнения ничего прочесть не могу. Я – мечтательница, но реальность тоже понимаю. Не первое же такое письмо… Текст простой: сестра, спасибо тебе за хорошие слова… конечно, ты мне не сестра, но как сестра… Пишу в тот же вечер: пришли фотографию, хочу видеть твое лицо.
Приходит ответ и фотография. Смотрю: это тот парень… тот, кого я видела во сне… Моя любовь. Двадцать лет я его ждала. Никому не могу ничего объяснить – получается сказка. Мужу сразу призналась: «Нашлась моя любовь». Он плакал. Просил. Уговаривал: «У нас трое детей. Надо их растить». И я плакала: «Юра, я знаю, что ты хороший человек, дети не пропадут с тобой». Соседи… подруги… моя сестра… Все меня осудили. Я теперь одна.
На вокзале покупала билет… Стояла рядом со мной женщина, разговаривали. Она меня спрашивает: «Куда едешь?» – «К мужу» (он еще не был мне мужем, но я знала, что будет). – «А где твой муж?» – «В тюрьме». – «А что он сделал?» – «Человека убил». – «А-а-а. Надолго посадили?» – «На всю жизнь». – «А-а-а… бедная ты…» – «Не жалейте меня. Я люблю».
Любого человека кто-то должен любить. Хотя бы кто-то один. Любовь – это… Я вам расскажу, что это такое… Он болеет туберкулезом, они все в тюрьме болеют туберкулезом. От плохой еды, от тоски. Мне подсказали, что надо собачий жир. Ходила по деревне, спрашивала. Нашла. Потом узнала, что барсучий жир лучше помогает. Купила в аптеке. Дорогущий! Нужны еще ему сигареты, тушенка… Я устроилась на хлебозавод, там зарплата получше, чем была у меня на ферме. Работа тяжелая. Старые печи так раскаляются, что мы снимаем с себя все, ходим в лифчиках и трусах. Таскаю мешки с мукой по пятьдесят килограмм, носилки с хлебом по сто килограмм. Пишу ему письма каждый день.
– Вот она такая… – продолжает Ира Васильева. – Мгновенный, стремительный человек… У нее внутри клокочет, ей всего быстрее хочется. Все чрезмерно, бьет через край. Мне соседи рассказывали… Шли через деревню таджикские беженцы, у них очень много детей, они голодные, раздетые, так она вынесла им из дома все, что могла: одеяла, подушки… ложки… «У нас слишком все хорошо, а у людей ничего нет». А у самой в избе: стол, стулья… Можно сказать, нищета. Питаются с огорода – картошка, кабачки. Пьют молоко. «Ничего, – успокаивала она мужа и детей, – осенью дачники уедут, оставят нам что-нибудь». Там летом живут москвичи, места же обалденные, много художников, артистов, все брошенные дома раскуплены. За дачниками подбирают все, вплоть до полиэтиленовых пакетов. Деревня нищая, стариковская, спивающаяся… Еще был случай… У подруги родился ребеночек, а холодильника нет. Лена отдала им свой: «У меня дети уже выросли, а тут младенец». Все! Забирай! У человека ничего нет, а получается, много чего можно отдать. Это тот русский тип… тот русский человек, про которого Достоевский писал, что он широк, как русская земля. Не изменил его социализм, не изменит и капитализм. Ни богатство, ни бедность. Сидят под магазином мужики, сообразили на троих. За что пьют? Тост: «Севастополь – русский город! Севастополь будет наш!». Гордятся, что русский может выпить литр водки и не окосеть. Про Сталина помнят одно, что при нем они были победители…
Все это хотелось снять… Я сама себя останавливала, боялась, что куда-нибудь утянет так, что не выберешься… Каждая судьба – голливудская история! Готовый сюжет для фильма. Например, о ее подруге Ире… Бывшая учительница математики, она ушла из школы из-за нищенской зарплаты. У нее трое детей, они просили: «Мамочка, пойдем к хлебозаводу. Понюхаем хлебушка». Ходили вечером, чтобы люди не видели. Теперь Ира работает на хлебозаводе, как и Лена, и она рада, что ее дети хотя бы хлеба вдоволь поедят. Воруют… Все там воруют, только благодаря этому выживают. Жизнь чудовищная, нечеловеческая, а душа живет. Послушали бы вы, о чем эти женщины говорят… Не поверили бы! Они говорят о любви. Без хлеба можно прожить, а без любви – никак… конец… Ира читала письма, которые приходили Лене от ее зэка, и сама загорелась. Нашла в ближайшей тюрьме какого-то карманника. Тот быстренько освободился… Дальше история развивалась по законам трагедийного жанра… Клятвы в любви до гроба. Свадьба. Скоро этот Толя… Толян… запил. У Иры уже было трое детей, она еще двоих от него родила. Он буянит, гоняет ее по деревне, а утром протрезвеет и бьет себя пяткой в грудь. Кается. Ира… она тоже красавица! Умница! Но все равно мужик наш так устроен, что он – царь зверей…
А теперь надо рассказать вам о Юре… Это муж Лены… В деревне его зовут «читающий пастух», он пасет коров и читает. Я видела у него много книг русских философов. С ним можно поговорить о Горбачеве и о Николае Федорове, о перестройке и о человеческом бессмертии… Другие мужчины пьют, а он читает. Юра – мечтатель… созерцатель по натуре… Лена гордится, что он кроссворды молниеносно разгадывает. Но Юра маленького роста… В детстве он очень сильно рос… Когда он был в шестом классе, мама повезла его в Москву. Там ему сделали какой-то неудачный укол в позвоночник. И он расти совсем перестал – один метр пятьдесят сантиметров. Правда, красивый мужчина. Но рядом с женой он – карлик. В фильме мы старались, чтобы зрители этого не заметили, я просила, умоляла оператора: «Ради бога, придумай что-нибудь!». Нельзя было дать обывателю простой разгадки – от карлика она ушла к красавцу-супермену. Обыкновенная баба! А Юра… он мудрый, он знает, что у счастья много красок. Он согласен, чтобы Лена была рядом с ним на любых условиях, пусть она уже не жена, но друг. С письмами из казенного дома к кому она бежит? К нему… Вместе эти письма читают… У Юры сердце кровью обливается, но он слушает… Любовь долго терпит… любовь не завидует… не ропщет и не мыслит зла… Все, конечно, не так красиво, как я сейчас рассказываю… Их жизнь – не розовый пузырь… Юра хотел застрелиться… уйти куда глаза глядят… Там были реальные сцены с кровью и плотью. Но Юра ее любит…
О созерцании
– Я ее всегда любил… Со школы. Она вышла замуж и уехала в город. А я ее любил.
Это было утром… Мы с мамой сидели за столом, пили чай. Вижу в окне: Лена идет с младенцем на руках. И я маме говорю: «Мама, вот моя Лена пришла. Мне кажется, что она пришла ко мне навсегда». С того дня я стал веселый и счастливый, и даже… красивый… Когда поженились, я был на седьмом небе от счастья. Целовал свое обручальное кольцо, которое на следующий же день и потерял. Удивительно, оно так хорошо сидело на пальце, но, работая, я отряхнул рукавицу, а когда стал надевать ее, то увидел, что кольца нет – искал и не нашел. А Лена свое обручальное кольцо носила, оно так легко сидело, но она ни разу его не обронила, пока не сняла…
Всюду вдвоем… Вот как мы жили! Любили к роднику ходить вместе, я несу ведра, а она рядом: «Давай я тебе пожужжу». Что-то рассказывает… С деньгами было не шибко, но деньги – это деньги, а счастье – это счастье. Как только начиналась весна, у нас в доме все время стояли цветы, сначала я один носил, потом дети подросли, мы вместе носили. Все любили маму. Мама у нас была веселая. Играла на пианино (в музыкальной школе училась). Пела. Сказки сочиняла. У нас одно время был телевизор, нам подарили. Ребята прилипли к экрану, оторвать невозможно, и какие-то они стали агрессивные, чужие. Так она взяла и залила его водой, как аквариум. Телевизор сгорел. «Дети, смотрите лучше на цветы, на деревья. С папой и мамой разговаривайте». Наши дети не обиделись, потому что мама сказала…
Развод… Судья спрашивает: «Почему разводитесь?» – «Разные взгляды на жизнь». – «Муж пьет? Бьет?» – «Не пьет и не бьет. И вообще, мой муж – замечательный человек». – «А почему разводитесь?» – «Любви нет». – «Неуважительная причина». Дали нам год на размышление, чтобы мы подумали…
Мужики надо мной смеялись. Советовали выгнать из дома, сдать в психиатрическую больницу… И чего ей не хватает? С любым человеком такое бывает. Тоска, как чума, нападает на всех. Едешь в поезде, смотришь в окно – и тоска. Красота вокруг, глаз не отвести, а слезы катятся, и не знаешь, что с собой делать. Да, русская тоска… Даже если у человека вроде как все есть, все равно чего-то не хватает. И живут. Как-то терпят все. А она: «Юра, ты очень хороший, ты мне самый лучший друг. А он половину жизни провел в тюрьме, но он мне нужен. Я его люблю. Не отпустишь – умру. Я буду делать все как положено, но буду мертвая». Судьба, она такая штука…
Бросила нас и уехала. Дети скучали, долго плакали, особенно маленький. Наш Матвейка… Ждали все маму и сейчас ждут. И я жду. Написала нам: «Не продавайте только пианино». Единственная дорогая вещь в нашем доме, от родителей ей досталось. Любимое пианино… Всей семьей сядем вечером, а она нам играет… Разве я могу ради денег его продать? И она не сможет выкинуть меня из своей судьбы, оставив там пустое место, это же невозможно. Пятнадцать лет прожили вместе, у нас дети. Она хорошая, но она другая. Какая-то неземная… Легкая она… легкая… А я человек земной. Я из этих… кто на земле…
Написали о нас в местной газете. Потом позвали в Москву на телевидение. Там так: ты сидишь, как будто на сцене, и рассказываешь о себе, а в зале зрители. Потом обсуждение. Как все Лену ругали, особенно женщины: «Маньячка! Сексоманка!». Готовы были камнями ее закидать. «Это патология, это неправильно». Ко мне вопросы… Нокаут за нокаутом… «Эта похотливая сука, которая бросила вас и детей, она не стоит вашего мизинца. Вы – святой. Кланяюсь вам в самые ножки от всех русских женщин…» Я хочу ответить… начинаю… А мне: «Ваше время истекло». Я заплакал. Все решили, что мои слезы от обиды, от злости. А я плакал от того, что они такие умные, образованные, живут в столице и ничего не понимают.
Я буду ждать ее сколько надо. Сколько она захочет… Не могу представить рядом другую женщину. А иногда… вдруг подступит желание…
Из деревенских разговоров
– Лена – ангел…
– Раньше таких жен сажали в чулан или вожжами…
– Если бы она ушла к богатому, все было бы понятно. У богатых жизнь интереснее. А какие могут быть отношения с бандитом? Да еще с «вечником». Два свидания в год – и все. Вся любовь.
– Романтическая натура. Пусть покатается.
– Это у нас в крови – жалеть несчастненьких. Убийц и забулдыг. Человека убьет, а глаза как у младенца. И его жалко.
– Я вообще не верю мужчинам, а зэкам тем более. Им в тюрьме скучно. Развлекаются. Катают под копирку: лебедь моя белокрылая, мечтаю о тебе, свет в окошке… Какая-нибудь дура поверит и бросается его спасать: таскает передачи в неподъемных баулах, посылает деньги. Ждет. Он освобождается, приезжает к ней – поел, попил, денежки выманил – и в один прекрасный день куда-то испарился. И – чао! Чао!
– Девочки, это такая любовь! Как в кино!
– Пошла замуж за убийцу, а доброго мужа оставила. Потом же дети у нее… трое пацанов… Просто вот билет взять, ей же на конец света к нему надо ехать – где она эти деньги берет? Она все время у детей кусок отнимает. Зайдет в магазин, и у нее проблема: купить им булочку или не купить?
– Жена да убоится мужа своего… Они вдвоем идут ко Христу. А просто так… так просто – зачем? Если без этой цели, то зачем?
– Без Меня, говорит Господь, вы не можете творить. А она пытается творить от своего ума. Гордыня это. Там, где нет смирения, всегда есть какая-то другая сила. Бес способствует.
– Ей надо в монастырь, искать путь к спасению. Человек спасается в скорби. Скорбь надо даже искать…
Продолжаем наш разговор с Ирой Васильевой:
– Я у нее тоже спрашивала: «Лена, ты понимаешь, что у тебя будут только два свидания в год?» – «Ну и что? Мне хватит. Я буду с ним в мыслях. В чувствах».
Ехать к нему надо далеко на Север. На Огненный остров. В четырнадцатом веке ученики Сергия Радонежского шли и осваивали северные леса. Продираясь сквозь чащу, они увидели озеро, а посредине озера – огненные языки. Это дух им так явился. Возили землю на лодках… Насыпали на этом месте остров и построили на нем монастырь. Толщина стен полтора метра. В этом древнем монастыре сейчас тюрьма для самых страшных убийц. Для «смертников». На двери каждой камеры висит табличка со злодеяниями преступника: зарезал ножом Аню, шесть лет… Настю, двенадцать лет… Прочитаешь – жуть берет, а зайдешь внутрь – вроде обыкновенный человек с тобой здоровается. Сигарету просит, и ты даешь. «Что там на воле? Тут мы не знаем даже, какая там погода». Живут в камне. Вокруг леса и болота. Никто ни разу не сбежал…
Первый раз Лена приехала туда, не думая о том, что свидание могут не разрешить. Постучалась в окошко, где выдают паспорта, никто даже слушать ее не стал: «Вон начальник тюрьмы идет. Разговаривайте с ним». Она бросилась к начальнику: «Разрешите мне свидание». – «С кем?» – «Я к Володе Подбуцкому приехала». – «Разве вам не известно, что тут сидят особо опасные преступники? У них строжайший режим: два свидания в год по три дня и три кратковременных – по два часа. Пускаем только ближайших родственников: мать, жену, сестру. А вы – кто ему?» – «Я его люблю». Ну все ясно, клиника. Начальник хочет уйти, а она держит его за пуговицу: «Понимаете, я его люблю». – «Вы абсолютно чужой ему человек». – «Тогда дайте мне просто взглянуть на него». – «А вы что, его не видели?» Уже всем смешно, тут и охранники подошли, что за дурочка такая? Ха-ха… А она давай им рассказывать про сон, который ей приснился в восемнадцать лет, про мужа и троих детей и про то, что она всю жизнь любит этого человека. Ее искренность и чистота любую стену пробивают. Рядом с ней человек осознает, что что-то не так в его правильной жизни – он груб, и слух его не тонок. Начальник тюрьмы не молодой мужик, работа у него такая… всего повидал… И он входит в ее положение: «Раз вы приехали так издалека, я дам вам шесть часов на встречу, но с вами будет охранник». – «Хоть два! Я все равно никого кроме него видеть не буду…»
Все, что есть в ней чрезмерного, максималистского, она опрокинула на этого Володю: «Ты понимаешь, как я счастлива… Я всю жизнь тебя ждала, и наконец мы вместе». Тот, конечно, был к этому не готов. К нему уже приезжает какая-то баптистка, у него с ней роман. Там все понятно – обычная молодая баба с неудачной судьбой. Ей мужик нужен, штамп в паспорте, что она замужем. Тут же такой напор, такой порыв! Когда тебя вот так хотят захватить, любой испугается. У него в мозгах зашкаливало… «Я прошу тебя, – говорит Лена, – разреши мне выйти за тебя замуж. Чтобы меня к тебе пускали, и я могла тебя видеть. Больше мне ничего не надо». – «Так ты же замужем?» – «А я разведусь. Я одного тебя люблю». У нее с собой была сумка его писем, разрисованных вертолетиками, цветочками. Она ни на минуту не могла с ними расстаться. Это апогей ее счастья, потому что она хотела всю жизнь абсолюта, а абсолют может существовать только в письменном виде, только на бумаге может быть полная реализация. На земле, в постели этого нет. Абсолюта там не найти. Все, что связано с другими людьми: семья, дети – это компромисс…
Как будто ее кто-то ведет… Что за сила? Какой природы этот сон?
…Мы тоже побывали на Огненном острове. Для этого потребовалось много бумаг и разрешений с круглыми печатями. Звонков. Приехали… А Володя встретил нас в штыки: «Зачем это шоу?». Много лет он прожил в одиночестве, отвык от людей. Стал подозрительным, не доверял никому. Хорошо, что с нами была Лена, она брала его за руку: «Володенька». И он становился шелковым. Вместе мы его уговорили, а может, он сам подумал, парень сообразительный: через двадцать пять лет в исключительных случаях бывает амнистия, если снимут фильм, он будет местной знаменитостью, это ему потом поможет… Там все они хотят жить… там не любят разговаривать о смерти…
С этого и начали…
О Боге
– Я сидел в одиночке, ждал расстрела. Много думал… Ну кто тебе поможет в четырех стенах? Время не существовало, какая-то абстракция. Я испытал такую пустоту… И однажды у меня вырвалось: «Если ты есть, Господи, помоги! Не оставь меня! Я не прошу о чудесах, помоги разобраться во всем, что со мной произошло». Упал на колени. Молился. Господь не заставляет долго ждать тех, кто к Нему обращается…
Почитайте мое дело – я убил человека. Мне было восемнадцать лет. Я только окончил школу, писал стихи. Хотел поехать в Москву учиться. Учиться на поэта. Мы жили с мамкой вдвоем. Денег в доме не было, на учебу я должен был заработать. Устроился в автомастерские. По вечерам в деревне танцы… Ну и влюбился в одну красивую девчонку. Втрескался без памяти. Возвращаемся с танцев… Зима… снег… Уже елки в окнах светятся, скоро Новый год. Пьяным я не был. Идем, разговариваем. Ха-ха… хи-хи… Она спрашивает: «Ты меня и вправду любишь?» – «Люблю больше жизни». – «А что ты можешь ради меня сделать?» – «Я могу себя убить». – «Себя, понятно. А можешь ли ты убить ради меня первого встречного человека?» То ли это шутка у нее была такая… то ли стерва попалась… Я ее уже не помню, даже лицо забыл, она ни разу мне в тюрьму не написала. Можешь убить? Сказала так – и смеется. А я же герой! Мне надо доказать свою любовь. Вытащил из забора кол… Ночь. Темень. Стою и жду. И она ждет. Долго никто не появлялся, наконец какой-то человек идет нам навстречу. И я ему – по голове. Бац! Один раз ударил, второй… Он упал. Я его еще добил на земле… этим колом… А это был наш учитель…
Сначала меня приговорили к расстрелу… Через полгода расстрельную статью заменили на пожизненное заключение. Мать от меня отказалась. Сестра одно время писала, потом перестала. Я давно один… Вот в этой камере под замком я отсидел уже семнадцать лет. Семнадцать лет! Дерево взять или любое животное – они ничего о времени не знают. За них Господь мыслит. Так и я… Поспал, поел, вывели на прогулку… Небо видишь только через решетку. В камере – кровать, табуретка, кружка, ложка… Другие живут воспоминаниями… А что мне вспоминать? У меня ничего не было, я и пожить-то не успел. Оглянусь назад – там постоянная темнота, иногда где-то лампочка горит. Чаще всего мамку вижу… то она у плиты, то у окна на кухне… А дальше везде темнота…
Начал читать Библию… не мог оторваться… Меня всего трясло. Я с Ним разговаривал: «За что Ты меня так наказал?». Человек благодарит Господа за радость, а когда беда, он вопит: «За что?». Нет, чтобы понять смысл посланного притеснения. Вручить свою жизнь Ему…
И вдруг приехала Лена… Приехала и говорит: «Я тебя люблю». Передо мной открылся мир… Я мог представить себе все что угодно… Семью, детей… Из полной темноты я попал в самый яркий свет… я был окружен светом… Ситуация, правда, ненормальная: у нее муж, трое детей, а она признается чужому мужчине в любви, пишет письма. Если бы я был на месте ее мужа… Да я бы! «Ты что – блаженная?» – «Любовь не бывает без самопожертвования. Какая же это любовь?» Я не знал. …Откуда я мог знать, что такие женщины есть? В тюрьме – как? Есть люди, есть суки – и все. А тут попался человек, из-за которого ночью не можешь сомкнуть глаз… Приедет – и плачет, и смеется. И всегда красивая.
Скоро мы расписались. А потом решили повенчаться… в тюрьме есть молельная комната… Вдруг ангел-хранитель посмотрит в нашу сторону…
До встречи с Леной я ненавидел всех женщин, я думал, что любовь – лишь гормоны. Желание тела… А она не боится этого слова, часто его употребляет: «Люблю! Люблю!». Я тогда сижу, не шевелюсь. А все это… как вам сказать… Я не привык к счастью. Иногда я ей верю. Хочу верить, что это правда – меня можно полюбить, разница между мной и остальными людьми только в том, что они считают себя хорошими, но человек себя не знает, познал бы – испугался. Разве я думал о себе, что я могу… Что из меня зверь может выскочить… Никогда! Я думал, что я хороший. Где-то у мамки хранятся тетрадки с моими стихами, если не сожгла. В другой раз… Мне страшно… Слишком долго я жил один, застрял в этом состоянии. Далеко от меня нормальная жизнь. Я стал злой и дикий… Чего я боюсь? Боюсь, что наша история – это кино, а кино мне не надо. Я, может, только жить начал… Хотели ребеночка… Она забеременела. И был выкидыш. Господь напомнил мне о моих грехах…
Страшно… Так страшно, что я хочу то себя убить, то… «Я боюсь тебя», – говорит она. И не уходит… Вот вам кино! Вот вам…
Из тюремных разговоров
– Бред! Бред! Дамочку к психологу надо…
– Я про таких женщин раньше только в книжках читал, про жен декабристов… Литература! А в жизни… Лена единственный такой человек, которого я встретил. И естественно, поначалу и я не верил: «Может, она ненормальная?». А потом вот что-то во мне перевернулось… Иисуса тоже считали сумасшедшим. Да она нормальнее всех нормальных!
– Один раз всю ночь из-за нее не спал. Вспомнил, что у меня тоже была женщина, которая меня сильно любила…
– Это ее крест. Она взяла его и несет. Настоящая русская баба!
– Знаю я Володьку… Жениха! Такой же ублюдок, как и я. Мне страшно за нее. Она не тот человек, который расписался и все, а ты там живи, как хочешь, она будет стараться быть женой. А что он может ей дать? У нас нет возможности чего-то дать. Кровавые мальчики в глазах. У нас единственная возможность есть – не брать, не принимать никакой жертвы. Весь смысл жизни у нас сейчас – не брать. Ну а если ты берешь, то ты опять кого-то грабишь…
– Да она счастливый человек. И она не боится быть счастливой.
– Вот в Библии… Бог не назван ни добротой, ни справедливостью… Он назван любовью…
– Даже батюшка… Приходит и подает мне руку через решетку и как можно скорее ее убирает, ему незаметно, а я это вижу. Все понятно – на моих руках кровь… А она стала женой убийцы, доверилась ему, хочет разделить с ним все. И каждый из нас теперь думает: значит, не все кончено. Если бы я о ней не узнал, насколько бы мне было тяжелее здесь.
– Какое их ждет будущее? Ни одной гадалке не дам ломаного гроша…
– Уроды! Какие могут быть чудеса? Жизнь – это не белый корабль с белыми парусами. Это куча говна в шоколаде.
– То, чего она ищет, чего ей надо, ни один человек на земле не даст – только Бог.
Их венчали в тюрьме. Все было как Лена себе и представляла: блеск свечей, золотые колечки… Церковный хор пел: «Исаия ликуй…».
Священник: «Имеешь ли ты, Владимир, свободное и доброе желание и твердое намерение взять себе в жены сию Елену, которую здесь видишь перед собой?»
Жених: «Имею, честный отче».
Священник: «Не обещался ли другой невесте?»
Жених: «Не обещался, честный отче».
Священник: «Имеешь ли ты, Елена, свободное и доброе желание и твердое намерение взять себе в мужья сего Владимира, которого видишь перед собой?»
Невеста: «Имею, честный отче».
Священник: «Не обещалась ли ты другому мужу?»
Невеста: «Не обещалась, честный отче».
Господи, помилуй…
Через год мы с Ирой Васильевой снова встретились.
Ее рассказ
– Наш фильм показали по центральному телевидению… Пришли письма от зрителей. Я обрадовалась, но… Что-то не так с миром, в котором мы живем. Как в том анекдоте: люди-то у нас добрые, а народ злой. Запомнилось: «Я – за смертную казнь, за утилизацию человеческих отбросов», «Таких уродов, как ваш герой, супермен-убийца, публично четвертовать надо на Красной площади, а в промежутках рекламу сникерса вставлять», «На органы их… пусть на них новое лекарство и химию испытывают…». Если заглянуть в словарь Даля, слово «доброта» от слова «добровать» – жить в обилии, добре… это когда есть прочность и достоинство… А всего этого у нас нет. Зло не от Бога. Слова святого Антония Великого: «Бог не есть виновник зла. Он даровал человеку разум, способность различать добро и зло…». Правда, были… помню и прекрасные письма, как это: «После вашего фильма я поверила в любовь. Кажется, Бог все-таки есть…».
Документ – это интрига… и ловушка… Для меня в документальном жанре есть один, я бы сказала, врожденный изъян: фильм снят, а жизнь продолжается. Мои герои не выдуманные, они живые, реальные люди, и они не зависят от меня – от моей воли, моих представлений или моего профессионализма, мое присутствие в их жизни случайно и временно. Я не свободна так, как они. Если бы могла… Я бы всю жизнь снимала одного человека. Или одну семью. Изо дня в день. Вот ведут ребенка за руку… едут на дачу… пьют чай и разговаривают, сегодня об одном, а завтра о другом… поссорились… купили газеты… сломалась машина… кончилось лето… кто-то плачет… Мы в этом пребываем, но многое происходит без нас. Помимо нас. Поймать момент или проследить какой-то отрезок времени – мне этого мало. Мало! Я не могу… не умею расставаться… Дружу со своими героями, пишу им, звоню. Встречаемся. Еще долго я «доснимаю» материал, перед моими глазами прокручиваются новые картинки. Так у меня «сняты» десятки фильмов.
Один из этих фильмов о Лене Раздуевой. Есть у меня блокнот с записями. Что-то вроде сценария фильма, которого не будет…
…Она страдает из-за того, что это делает, но не делать не может.
…Прошло несколько лет, прежде чем она решилась взять и прочитать его дело. Но она не испугалась: «Это ничего не отменяет, все равно я его люблю. Теперь я его жена перед Богом. Он убил человека, потому что тогда меня не было рядом с ним. Мне надо взять его за руку и вывести оттуда…»
…Там же на Огненном острове сидит бывший районный прокурор, вместе с братом зарубивший топором двух женщин – бухгалтера и кассира. Пишет книгу про себя. Даже на прогулки не выходит, жалеет время. Похитили они совсем небольшую сумму денег. Зачем? Не знает… Или слесарь, убивший жену и двоих детей… Ничего, кроме гаечного ключа, в руках до этого не держал, а сейчас вся тюрьма обвешана его картинами. Каждый из них обременен своими бесами, хочет выговориться. Убийство для палачей такая же тайна, как и для жертв…
…Подслушанный там разговор… «Ты думаешь, что Бог есть?» – «Если Он есть, то смерть – это еще не конец. Я не хочу, чтобы Он был».
…Что это – любовь? Володя – высокий, красивый, а Юра – карлик… Призналась мне, что как мужчина Юра даже больше ее устраивает… Только она должна… Вот муж у нее такой, с ним беда случилась. Надо держать его за руку…
…Первое время она жила в деревне с детьми. Два раза в год ездила на свидание. Он стал требовать, чтобы она бросила всех и уехала к нему: «Ты мне изменяешь, я чувствую, что ты мне изменяешь». – «Володенька, как я уйду от детей? Матвейка совсем маленький, я еще физически ему нужна». – «Ты христианка… Ты должна быть покорной, слушаться мужа». Повязала черный платок и живет рядом с тюрьмой. Работы нет, но ее батюшка в местной церкви приютил. Убирает там. «А Володя рядом… Я слышу… слышу, что он рядом… “Ты не бойся, – пишу ему, – я с тобой…”». Уже семь лет она пишет ему каждый день…
…Как только поженились, Володя стал требовать, чтобы она писала во все инстанции: он многодетный отец, ему надо заботиться о детях. Это его шанс вырваться на свободу. А Лена чистая… Сядет писать и не может: «Он же человека убил. Тяжелее греха нет». Тогда он устраивает ей дикие скандалы. Ему другая женщина нужна. Побогаче и со связями. Эта блаженная ему уже надоела…
…Сел он в восемнадцать лет… Тогда еще был Советский Союз и советская жизнь. И советские люди. Был социализм. Он понятия не имеет, что за страна сейчас. Если он выйдет, как он шмякнется об эту новую жизнь! Как она его ударит – профессии нет, родные отвернулись. А он – злой. Однажды в тюрьме поспорил с напарником и чуть горло ему не перегрыз. Лена понимает, что ей надо будет увезти его куда-нибудь подальше от людей. Она мечтает, что они будут работать в лесхозе. Жить в лесу. Как она говорит, среди деревьев и безмолвных зверей…
…Не раз она мне говорила: «Глаза у него стали такие холодные, такие пустые. Когда-нибудь он меня убьет. Я знаю, с какими глазами он будет меня убивать». Но ее тянет туда, ее бездна эта тянет. Почему? Разве я сама не замечала в себе этих проявлений? В темноту тянет…
…В последний раз, когда мы встретились, я услышала от нее: «Не хочу жить! Больше не могу!». Она была как в коме – ни жива и ни мертва…
Решаем поехать к Лене вместе. Но она вдруг исчезла. Не отзывается. Ходят слухи, что сейчас она живет в глухом монашеском скиту. С наркоманами, больными СПИДом… Многие там дают обет молчания.
Таня Кулешова – студентка, 21 год
Хроника событий
19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы. Честных выборов никто не ожидал, результат был заранее известен: победит президент Лукашенко, который правит страной уже шестнадцать лет. В мировой прессе над ним смеются: «картофельный диктатор», «мировой моська», но собственный народ оказался у него в заложниках. Последний диктатор Европы… Он не скрывает своих симпатий к Гитлеру, того тоже долго не принимали всерьез и называли «капральчиком» и «богемским ефрейтором».
Вечером на Октябрьскую площадь (главная площадь Минска) вышли десятки тысяч людей, протестуя против фальсификации выборов. Демонстранты требовали признать недействительными объявленные результаты и провести новые выборы без Лукашенко. Мирная акция протеста была жестоко подавлена спецназом и ОМОНом. В лесах возле столицы стояли в боевой готовности войска…
Всего было арестовано 700 демонстрантов, среди них – семь экс-кандидатов в президенты, на которых еще распространялась неприкосновенность…
После выборов белорусские спецслужбы трудятся день и ночь. По всей стране начались политические репрессии: аресты, допросы, обыски на квартирах, в редакциях оппозиционных газет и офисах правозащитных организаций, изъятие компьютеров и другой оргтехники. Многим из тех, кто сидит в тюрьме на Окрестино и в изоляторе КГБ, грозит от 4 до 15 лет тюрьмы за «организацию массовых беспорядков» и «попытку государственного переворота» – так сегодня белорусская власть классифицирует участие в мирной акции протеста. Опасаясь преследований и укрепления диктатуры, сотни людей бегут из страны…
Хроника чувств
«…шли весело, шли несерьезно»
– Фамилию я называю не свою, а моей бабушки. Я боюсь… конечно… Все ждут каких-то героев, а я не героиня. Я не была к этому готова. В тюрьме я думала только о маме, о том, что у нее больное сердце. Что будет с ней? Пусть мы победим, об этом напишут в учебниках истории… А слезы наших близких? Их страдания? Идеи – сильнейшая вещь, страшная, это сила нематериальная, ее нельзя взвесить. Нет веса… это другая материя… Что-то становится важнее, чем мама. Тебе надо выбирать. А ты не готова… Теперь я знаю, что такое войти в свою комнату, когда кагэбисты покопались в твоих вещах, книгах… прочли твой дневник… (Молчит.) Собиралась сегодня к вам, и в это время позвонила моя мама, я сказала ей, что встречаюсь с известной писательницей, она стала плакать: «Молчи. Ничего не рассказывай». Поддерживают меня незнакомые люди, а родные, близкие – нет. Но они любят меня…
Перед митингом… Собирались вечером в общежитии и спорили. О жизни и на эту тему: кто идет на митинг – кто не идет? Вспомнить, да? О чем говорили? Примерно так…
– Пойдешь?
– Не пойду. Отчислят из института и забреют в армию. Буду бегать с автоматом.
– А меня, если выгонят, отец сразу выдаст замуж.
– Хватит болтать, пора что-то делать. Если все будут бояться…
– Ты хочешь, чтобы я стал Че Геварой? (Это слова моего уже бывшего бой-френда, я о нем тоже расскажу.)
– Глоток свободы…
– Я пойду, потому что надоело жить при диктатуре. Держат нас за быдло без мозгов.
– Ну а я не герой. Хочу учиться, книжки читать.
– Анекдот про «совка»: злой, как собака, а молчит, как рыба.
– Я маленький человек, от меня ничего не зависит. Я никогда не хожу на выборы.
– Я революционер… я пойду… Революция – кайф!
– Какие у тебя революционные идеалы? Новое светлое будущее – капитализм? Да здравствует латиноамериканская революция!
– В шестнадцать лет я осуждал родителей, они все время чего-то боялись, потому что у папы карьера. Я думал: они тупые, а мы – крутизна такая! Мы выйдем! Мы скажем! Теперь я такой же, как они, конформист. Настоящий конформист. Согласно теории Дарвина выживают не сильные, а наиболее приспособленные к среде обитания. Выживает посредственность и продолжает род.
– Пойти туда – значит быть дураком, не пойти – еще хуже.
– Кто вам, тупым баранам, сказал, что революция – это прогресс. Я – за эволюцию.
– Мне что «белые», что «красные»… Все пофиг!
– Я – революционер…
– Бесполезно! Приедут военные машины с бритоголовыми ребятами, и ты получишь по башке дубинкой, вот и все. Власть должна быть железной.
– Пошел он на х…, товарищ маузер. Я никому не обещал быть революционером. Хочу закончить институт и начать свой бизнес.
– Взрыв мозга!
– Страх – это болезнь…
Шли весело, шли несерьезно. Много смеялись, пели песни. Все жутко нравились друг другу. Приподнятое было настроение. Кто с плакатом идет, кто с гитарой. Друзья звонили нам на мобильники и сообщали, что пишут в интернете. Мы были в курсе… Так узнали: дворы в центре города забиты военной техникой с солдатами и милицией. К городу подтянули войска… В это верилось и не верилось, настроение колебалось, но страха никакого не было. Вдруг страх исчез. Ну во-первых, вон сколько людей… Десятки тысяч! Самые разные люди. Никогда нас не было так много. Я не помню… А во-вторых, мы у себя дома. В конце концов, это наш город. Наша страна. В Конституции записаны наши права: свобода собраний, митингов, демонстраций, шествий… Свобода слова… Есть законы! Первое непуганое поколение. Небитое. Нестреляное. А если посадят на пятнадцать суток? Подумаешь! Будет о чем написать в ЖЖ. Пусть власть не думает, что мы стадо, которое слепо идет за пастухом! Вместо мозгов у нас телевизор. На всякий случай у меня была с собой кружка, потому что я уже знала: в тюремной камере одна кружка на десять человек. Еще положила в рюкзак теплый свитер и два яблока. Шли и фотографировали друг друга, чтобы запомнить этот день. В рождественских масках, со смешными заячьими ушками, которые светились… Китайские такие игрушки. Рождество вот-вот… Падал снег… Какая же красотень! Пьяных не видела ни одного. Если у кого-нибудь появлялась в руках банка пива, ее тут же отбирали и выливали. На крыше одного дома заметили человека: «Снайпер! Снайпер!». Все развеселились. Ему махали: «Давай к нам! Прыгай!». Прикольно так. Раньше у меня апатия была к политике, я никогда не думала, что есть такие чувства и я смогу их испытать. Я такое переживала, только слушая музыку. Музыка – это для меня все, это вещь незаменимая. Было безумно интересно. Со мной рядом шла женщина… Почему я не спросила у нее фамилию? Вы бы о ней написали. Я была занята другим – вокруг весело, все новое для меня. Эта женщина шла с сыном, ему на вид лет двенадцать. Школьник. Милицейский полковник ее увидел и обругал в мегафон чуть ли не матом, что она плохая мать. Сумасшедшая. А все стали ей и сыну аплодировать. Спонтанно получилось, никто не сговаривался. Это так важно… так важно знать… Потому что нам все время стыдно. У украинцев был Майдан, у грузин – «революция роз». А над нами смеются: Минск – коммунистическая столица, последняя диктатура Европы. Теперь я живу с другим чувством: мы вышли. Не побоялись. Это главное… это самое главное…
Вот стоим: мы и они. Тут один народ, там другой. Это странно выглядело… Одни с плакатами и портретами, а другие – в боевом порядке и в полной экипировке, со щитами и дубинками. Стояли плечистые парни. Красавцы реальные! Ну как это они начнут нас бить? Меня бить? Мои ровесники, поклонники. Факт! Среди них есть знакомые мальчики из моей деревни, они, конечно, тут. У нас много кто уехал в Минск и служит в милиции: Колька Латушка, Алик Казначеев… Нормальные ребята. Такие же, как и мы, только с погонами. И они пойдут на нас? Не верилось… Ну никак… Смеялись, заигрывали с ними. Агитировали: «Что, ребята, будете с народом воевать?». А снег идет и идет. И тут… Ну, вроде как на параде… Раздалась военная команда: «Рассекайте толпу! Держите строй!». Мозг не включался в реальность, не сразу… потому что такого не может быть… «Рассекайте толпу…» На какой-то момент тишина. И тут же грохот щитов… ритмичный грохот щитов… Они пошли… Шеренгами шли и стучали дубинками по щитам, так охотники гонят зверя. Добычу. Шли, шли и шли. Никогда я не видела такого количества военных, только по телевизору. Я потом узнала от своих деревенских ребят… Их учат: «Самое страшное, если вы увидите в демонстрантах людей». Натаскивают, как собак. (Молчит.) Крики… плач… Крики: «Бьют! Бьют!» Я увидела – бьют. Знаете, они с азартом били. С удовольствием. Я запомнила, что били с удовольствием… как будто на тренировке… Девчоночий визг: «Что ты делаешь, урод!». Высокий-высокий голос. Сорвался. Было так страшно, что я на какой-то момент закрыла глаза. На мне белая куртка, белая шапочка. Стою вся в белом.
«Мордой в снег, сука!»
Автозак… Чудо-машина. Я впервые ее там увидела. Это специальный фургон для перевозки заключенных. Все обшито сталью. «Мордой в снег, сука! Одно движение – убью!» Я лежу на асфальте… Я лежу не одна, все наши тут… пустота в голове… мыслей нет… Единственное реальное ощущение – холод. Пинками и дубинками нас поднимают и запихивают в автозаки. Больше всего достается ребятам, их стараются бить по промежности: «Ты по яйцам его бей, по яйцам! По ебалу!», «Бей в кость!», «Мочи их!». Били и по ходу дела философствовали: «Пиздец вашей революции!», «За сколько долларов ты продал Родину, гад?» Автозак – два на пять метров – рассчитан на двадцать человек, сказали знающие люди, нас утрамбовали больше пятидесяти. Держитесь, сердечники и астматики! «В окна не смотреть! Головы вниз!» Мат… мат… Из-за нас, «придурков недоделанных», которые «продались америкосам», они сегодня не успели на футбол. Их целый день держали в крытых машинах. Под брезентом. Мочились в целлофановые пакеты и презервативы. Выскочили голодные, злые. Может, они сами по себе неплохие люди, но они работают палачами. Нормальные с виду ребята. Маленькие винтики системы. Бить – не бить, решают не они, но бьют они… Сначала бьют, а потом думают, а может, и не думают. (Молчит.) Долго куда-то ехали, то вперед, то разворачиваемся назад. Куда? Полная неизвестность. Когда открыли двери, на вопрос: «Куда нас везут?» – получили ответ: «В Куропаты» (место массовых захоронений жертв сталинских репрессий). Такие у них садистские шуточки. Нас долго возили по городу, потому что все тюрьмы были переполнены. Ночевали в автозаке. На улице двадцать градусов ниже нуля, а мы в железном ящике. (Молчит.) Я должна их ненавидеть. А я никого не хочу ненавидеть. Я к этому не готова.
За ночь охрана несколько раз менялась. Лиц не помню, они в форме все одинаковые. А одного… Я его и сейчас узнала бы на улице, я узнала бы его по глазам. Не старый и не молодой, мужчина как мужчина, ничего особенного. Что он делал? Он распахивал двери автозака настежь и долго держал их открытыми, ему нравилось, когда мы начинали дрожать от холода. Все в курточках, сапоги дешевые, мех искусственный. Смотрел на нас и улыбался. У него не было такого приказа, он сам действовал. По своей инициативе. А другой милиционер сунул мне «Сникерс»: «На, возьми. И чего ты поперлась на эту площадь?». Говорят, чтобы это понять, надо читать Солженицына. Когда я училась в школе, я брала в библиотеке «Архипелаг ГУЛАГ», но он у меня тогда не пошел. Толстая и нудная книга. Страниц пятьдесят прочитала и бросила… Что-то далекое-далекое, как Троянская война. Сталин – истрепанная тема. Я, мои друзья – мы мало им интересовались…
Первое, что с тобой происходит в тюрьме… Из твоей сумочки вываливают на стол все вещи. Ощущение? Как будто тебя раздевают… И в буквальном смысле раздевают тоже: «Снять нижнее белье. Раздвинуть ноги на ширину плеч. Присесть». Что они искали у меня в анусе? Обращались с нами, как с зэками. «Лицом к стенке! Смотреть в пол!» Все время приказывали смотреть в пол. Им страшно не нравилось, когда смотришь в глаза: «Лицом к стенке! Я ска-а-за-а-л – лицом к стенке!». Всюду строем… И в туалет водили строем: «Построиться в колонну в затылок друг другу». Чтобы все это выдержать, я поставила барьер: тут – мы, а тут – они. Допрос, следователь, показания… На допросе: «Ты должна написать: “Полностью признаю свою вину”». – «А в чем я виновата?» – «Ты что, не понимаешь? Ты участвовала в массовых беспорядках…» – «Это была мирная акция протеста». Начинается прессуха: исключат из института, маму уволят с работы. Как она может работать учительницей, если у нее такая дочь? Мама! Я все время думала о маме… Они это поняли, и каждый допрос начинался со слов: «Мама плачет», «Мама в больнице». И опять: назови фамилии… Кто шел с тобой рядом? Кто раздавал листовки? Подпиши… назови… Обещают, что никто не будет об этом знать и сразу отпустят домой. Надо выбирать… «Я ничего вам не подпишу». А ночами я плакала. Мама в больнице… (Молчит.) Предателем стать легко, потому что маму любишь… Не знаю, выдержала бы я еще месяц. Они смеялись: «Ну что, Зоя Космодемьянская?». Молодые ребята, веселые. (Молчит.) Мне страшно… Мы с ними ходим в одни магазины, сидим в одних кафе, ездим в одном метро. Всюду вместе. В обычной жизни нет четкой границы между «нами» и «ими». Как их узнать? (Молчит.) Раньше я жила в добром мире, его уже нет, и его не будет.
Целый месяц в камере… За все это время ни разу не видели зеркала. У меня было маленькое, но оно после досмотра вещей исчезло из сумочки. И кошелек с деньгами пропал. Пить все время хотелось. Невыносимая жажда! Пить давали только во время еды, а в остальное время: «Пейте из туалета». Ржут. Сами пьют фанту. Мне казалось, что я никогда не напьюсь, на воле забью холодильник минералкой. Мы все вонючие… помыться негде… У кого-то нашелся маленький флакончик духов, передавали друг другу и нюхали. А где-то наши друзья пишут конспекты, сидят в библиотеке. Сдают зачеты. Вспоминалась почему-то всякая ерунда… Новое платье, которое я ни разу не надела… (Засмеялась.) Узнала, что радость приносит такая мелочь, как сахар и кусочек мыла. В камере на пять человек – тридцать два квадратных метра – нас сидело семнадцать. Надо было научиться жить на двух метрах. Особенно тяжело было ночью, дышать нечем. Долго не спали. Разговаривали. Первые дни о политике, а потом только о любви.
«…не хочется думать, что они делают это добровольно»
(разговоры в камере)
«…Все происходит по тому же сценарию… По кругу все вертится. Народ – это стадо. Стадо антилоп. А власть – львица. Львица выбирает из стада жертву и убивает ее. Остальные жуют себе траву, косясь на львицу, которая выбирает очередную жертву, все облегченно вздыхают, когда львица жертву завалит: “Не меня! Не меня! Можно жить дальше”».
«…Я любила революцию в музее… Романтично была настроена. Играла в сказку. Меня никто не звал, я сама пошла на площадь. Интересно было увидеть, как революция делается. Получила за это дубинкой по мозгам и по почкам. На улицы вышла молодежь, это была «революция детей» – так ее назвали. Так теперь говорят. А родители наши остались дома. Сидели на кухнях и говорили о том, что мы пошли. Переживали. Им страшно, а у нас нет советских воспоминаний. Мы о коммунистах только в книжках читали, у нас страха не было. В Минске живет два миллиона человек, сколько нас вышло? Тысяч тридцать… А тех, кто смотрел, как мы шли, было больше: стояли на балконах, сигналили из машин, подбадривали: давайте, мол, ребята! Давайте! Всегда больше тех, кто сидит с банкой пива у телевизора. Так вот и все… Пока на улицах только мы, интеллигентные романтики, это не революция…»
«…Думаете, что на страхе все держится? На милиции и дубинках? Ошибаетесь. Палач с жертвой может договориться. Это осталось у нас с коммунистических времен. Существует молчаливое согласие. Контракт. Большая сделка. Люди все понимают, но молчат. За это они хотят получать приличную зарплату, купить хотя бы подержанную “Ауди” и отдыхать в Турции. Попробуй заговори с ними о демократии, о правах человека… Китайская грамота! Те, кто жил в советское время, сразу начинают вспоминать: “Наши дети думали, что бананы растут в Москве. А посмотри, что сейчас… Сто сортов колбасы! Какая еще свобода нужна?”. Многие и сегодня хотят в Советский Союз, но чтобы колбасы было навалом».
«…А я случайно сюда попала… Оказалась на площади с друзьями за компанию, захотелось потусоваться среди плакатов и шариков. А если честно… мне один парень там понравился. На самом деле, я безразличный зритель. Выбросила из головы всякую политику. Блин, надоела эта борьба добра и зла…»
«…Пригнали нас в какой-то барак. Ночь стояли на ногах лицом к стенке. Утром: “На колени становись!”. Стояли на коленях. Команда: “Встать! Руки вверх!”. То руки за голову, то сто приседаний. То стоять на одной ноге… Зачем они это делали? Для чего? Спроси их – не ответят. Им разрешили… они почувствовали власть… Девчонок тошнило, в обморок падали. Первый раз вызвали на допрос, я смеялась следователю в лицо, пока он не сказал: “Я тебя сейчас, детка, оттрахаю во все дырки и брошу в камеру к уголовникам”. Я не читала Солженицына, и следователь, думаю, его не читал. Но мы все знали…»
«…Мой следователь – образованный человек, окончил тот же университет, что и я. Выяснилось, что мы одни книжки любим: Акунин, Умберто Эко… “Откуда, – говорит он, – ты взялась на мою голову? Я занимался коррупционерами. Милое дело! С ними все понятно. А с вами…” Нехотя он делает свое дело, со стыдом, но делает. Таких тысячи, как он: чиновники, следователи, судьи. Одни бьют, другие врут в газетах, третьи арестовывают, выносят приговоры. Так мало нужно для запуска сталинской машины».
«…В нашей семье хранится старая общая тетрадь. Дед написал для детей и внуков историю своей жизни. Рассказал, как пережил сталинское время. Его посадили в тюрьму и пытали: надевали противогаз на голову и перекрывали кислород. Раздевали и железным прутом или дверной ручкой в анус… Я училась в десятом классе, когда мама дала мне эту тетрадку: “Ты уже взрослая. Должна это знать”. А я не понимала – зачем?»
«…Если вернутся лагеря, вертухаи найдутся. Да их будет навалом! Одного хорошо помню… Смотрю ему в глаза – нормальный парень, а у него пена изо рта. Как во сне они двигались, в трансе. Молотили налево-направо. Один мужчина упал, они накрыли его щитом и танцевали на нем. Амбалы… под два метра… Восемьдесят или сто килограммов в каждом, их откармливают до боевого веса. ОМОН и спецназ – это специальные ребята… как опричники Ивана Грозного… Не хочется думать, что они делают это добровольно, изо всех сил не хочется так думать. Из самых последних сил. Им кушать надо. Пацан… У него за плечами только школа и армия, а он получает больше университетского преподавателя. Потом… это будет, как всегда… это обязательно… Потом они будут говорить, что выполняли приказ, ничего не знали, они ни при чем. Они и сегодня находят тысячу оправданий: “А кто мою семью будет кормить?”, “Я давал присягу”, “Я же не мог выйти из строя, даже если б хотел”. С любым человеком можно это сделать. Во всяком случае, со многими…»
«…Мне только двадцать лет. Как жить дальше? Мне кажется, что я выйду в город и буду бояться поднять глаза…»
«…это у вас там революция, а у нас советская власть»
Выпустили нас ночью. Журналисты, друзья – все ждали возле тюрьмы, а нас вывезли в автозаке и разбросали по окраинам города. Меня оставили где-то в Шабанах. Возле каких-то камней, возле новостроек. Реально было страшно. Постояла в растерянности и пошла на огни. Денег нет, мобильник давно разрядился. В кошельке лежала только квитанция, нам всем выдали такие квитанции, чтобы мы оплатили свое содержание в тюрьме. Это моя месячная стипендия… Даже не знаю… Мы с мамой еле перебиваемся с деньгами. Папа умер, когда я училась в шестом классе, мне было двенадцать лет. Отчим свою зарплату пропивает-прогуливает благополучно. Алкаш. Я его ненавижу, он испортил нам с мамой жизнь. Я постоянно стараюсь подработать: разношу по почтовым ящикам всяческие рекламки, летом фруктами с лотка торгую или мороженым. Шла с этими мыслями… Какие-то собаки бегали… людей нигде не видно… Жутко обрадовалась, когда возле меня остановилось такси. Назвала адрес своего общежития, но говорю: «У меня денег нет». Таксист почему-то сразу догадался: «А-а-а, декабристка!» (арестовали нас в декабре). Садись. Уже одну такую подобрал и отвез домой. И чего это вас ночью выпускают?». Вез и учил уму-разуму: «Дурь все это! Дурь! Я в девяносто первом учился в Москве и тоже бегал на демонстрации. Нас было больше, чем вас. Мы победили. Мечтали, что каждый откроет фирму и станет богатым. И – что? При коммунистах я работал инженером, а сейчас баранку кручу. Одних сволочей прогнали, другие пришли. Черные, серые, оранжевые – все они одинаковые. У нас власть любого человека портит. Я – реалист. Верю только в себя и в свою семью. Пока очередные идиоты устраивают очередную революцию, я вкалываю. В этом месяце надо дочкам на куртки заработать, а в следующем – жене на сапоги. Ты – девчонка красивая. Найди хорошего парня и выходи лучше замуж». Въехали в город. Музыка. Смех. Парочки целуются. Город жил как будто нас не было.
Я очень хотела поговорить со своим другом. Не могла дождаться. Мы уже три года были вместе. Строили планы. (Молчит.) Он обещал мне, что будет на митинге, но не пришел. Я ждала объяснений. Ну вот явился – не запылился. Прибежал. Девочки оставили нас вдвоем в комнате. Какие объяснения!? Смешно! Я, оказывается, «просто дура», «яркий экземпляр», «наивная революционерка». Он меня предупреждал – забыла? Он меня учил, что не рационально париться о вещах, на которые не можешь повлиять. Есть такая позиция – жить ради других, но ему она не близка, он не хочет умирать на баррикадах. Не его это призвание. У него главная цель – карьера. Он хочет много денег. Дом с бассейном. Надо жить и улыбаться. Сегодня столько возможностей… глаза разбегаются… Можешь путешествовать по миру, офигенные круизы, но они стоят дорого, покупай хоть дворец, но он стоит дорого, можешь заказать в ресторане черепаший суп… Только плати за все. Денежки! Денежки! Как учил нас преподаватель физики: «Дорогие студенты! Помните, что деньги решают все, даже дифференциальные уравнения». Суровая правда жизни. (Молчит.) Ну а идеалы? Ничего такого, выходит, нет? Может, вы мне что-нибудь подскажете? Вы же книги пишете… (Молчит.) На общем собрании меня отчислили из института. Все подняли руку «за», кроме моего любимого старого профессора. Из института его увезли в этот день на «скорой». Подружки утешали в общежитии, когда никто не видел: «Ты, мол, не обижайся, декан пригрозил, что выгонит из общаги, если что… А-а-а-а!». Героини!
Взяла билет домой. В городе я скучаю по своей деревне. Правда, я не знаю, по какой деревне скучаю, наверное, я скучаю по своей «детской» деревне. По той деревне, где папа брал меня с собой, когда доставал из ульев тяжеленные рамки с медом. Сначала он окуривал их дымом, чтобы пчелы улетели и нас не жалили. Маленькая, я была смешная… Я думала, что пчелы – это тоже птички… (Молчит.) Люблю ли я деревню сейчас? Живут тут как раньше, из года в год. Копают лопатой картошку на своих огородах, ползают на коленках. Варят самогон. Вечером трезвого мужика не встретишь, они пьют каждый день. Голосуют за Лукашенко и жалеют о Советском Союзе. О непобедимой Советской армии. В автобусе рядом со мной сел наш сосед. Пьяный. Говорил про политику: «Каждому уроду-демократу я сам бы морду набил. Мало вам дали. Ну честное слово! Стрелять таких надо. У меня б рука не дрогнула. Америка за все платит… Хиллари Клинтон… Но мы народ крепкий. Пережили перестройку, переживем и революцию. Я от одного умного человека слышал, что революцию придумали жиды». Весь автобус его поддерживал: «Не было бы хуже, чем сейчас. Включишь телевизор – всюду бомбят, стреляют».
Вот и дом. Открыла дверь. Мама сидела на кухне и чистила клубни георгин, они подмерзли и загнили в погребе, потому что капризные. Боятся мороза. Я стала помогать. Как в детстве. «Что там у вас в столице? – первый вопрос мамы. – По телевизору показали море людей, все кричали против власти. Божечка милый! Страх! Мы тут боялись, что война начнется: у одних сыновья в ОМОНе служат, у других – студенты, вышли на площадь и кричали. В газетах пишут, что это террористы и бандиты. Наши люди газетам верят. Это у вас там революция, а у нас советская власть». В доме пахло валерьянкой.
Я узнала деревенские новости… За Юркой Шведом, фермером, ночью приехала машина и двое в штатском, как в тридцать седьмом за нашим дедом. Весь дом перерыли. Компьютер забрали. Уволили медсестру, Аню Н. – она ездила в Минск на митинг, записалась в оппозиционную партию. У нее ребеночек маленький. Мужик напился и побил: оппозиционерка! А матери ребят, которые служат в минской милиции, хвастаются, что их сыновья большие премии получили. Привезли подарки. (Молчит.) Разделили народ на две половины… Я пошла в клуб на танцы, за весь вечер меня никто не пригласил танцевать. Потому что… террористка… Меня боялись…
«… он может превратиться в красный цвет»
Встретились случайно через год в поезде «Москва – Минск». Все уже давно спали, а мы говорили.
– Учусь в Москве. Хожу на московские митинги с друзьями. Клево так! Мне нравятся лица людей, которые я вижу там. Я помню такие лица у нас, когда мы вышли на площадь в Минске. Я не узнавала свой город, людей не узнавала. Это были другие люди. Скучаю по дому, сильно скучаю по дому.
Сяду в белорусский поезд и никогда не могу уснуть. Полусон… полуявь… То я в тюрьме, то в общежитии, то… Все вспоминается… Мужские и женские голоса…
«…Ставили на растяжку, ноги заводили за голову…»
«…Положили лист бумаги на почки, чтобы не осталось следов, и били пластиковой бутылкой с водой…»
«…Он надевал мне на голову целлофановый пакет или противогаз. Ну а дальше… сами понимаете, через пару минут я терял сознание… А у него дома жена и дети. Хороший муж. Хороший отец…».
«…Бьют, бьют, бьют, бьют… сапогами, ботинками, кроссовками…»
«…Ты думаешь, что их учат только прыжкам с парашютом, десантироваться по канату с зависшего вертолета? Их учат по тем же учебникам, что и при Сталине…»
«…В школе нам говорили: “Читайте Бунина, Толстого, эти книги спасают людей”. У кого спросить: почему это не передается, а дверная ручка в анус и целлофановый пакет на голову – передается?»
«…Им повысят зарплату в два-три раза… Боюсь, они будут стрелять…»
«…В армии я понял, что люблю оружие. Профессорский мальчик, выросший среди книг. Я хочу иметь пистолет. Красивая вещь! За сотни лет его хорошо приспособили к руке. Держать приятно. Мне нравилось бы его доставать, чистить. Смазывать. Люблю этот запах».
«…Как ты думаешь, революция будет?»
«…Оранжевый – это цвет собачьей мочи на снегу. Но он может превратиться в красный…»
«…Мы идем…»
– Что вспомнить? Живу как все. Была перестройка… Горбачев… Почтальонша открыла калитку: «Слыхала, коммунистов уже нет». – «Как нет?» – «Партию закрыли». Никто не стрелял, ничего. Теперь говорят, что была великая держава и все пропало. А что у меня пропало? Я как жила в домике без всяких удобств – без воды, без канализации, без газа – так и живу. Честно работала всю жизнь. Пахала, пахала, привыкла пахать. И всегда получала копейки. Как ела макароны и картошку, так и ем. Шубу донашиваю советскую. У нас тут – снега!
Самое хорошее у меня воспоминание, как я замуж выходила. Любовь была. Помню, возвращались из загса, и цвела сирень. Сирень цвела! В ней, вы поверите, пели соловьи… Я так помню… Дружно пожили мы пару лет, девочку родили… А потом Вадик запил и сгорел от водки. Молодой мужик, сорок два года. Так и живу одна. Дочка уже выросла, вышла замуж и уехала.
Зимой нас засыпает снегом, весь поселок в снегу – и дома, и машины. Бывает, что неделями не ходят автобусы. Что там в столице? От нас до Москвы – тысяча километров. Смотрим московскую жизнь по телевизору, как кино. Путина и Аллу Пугачеву знаю… остальных никого… Митинги, демонстрации… А мы тут – как жили, так и живем. И при социализме, и при капитализме. Нам что «белые», что «красные» – одинаково. Надо дождаться весны. Картошку посадить… (Долго молчит.) Мне шестьдесят лет… Я в церковь не хожу, а поговорить с кем-нибудь надо. Поговорить о другом… О том, что стареть неохота, стареть совсем не хочется. А умирать будет жалко. Видели, какая у меня сирень? Выйду ночью – она сияет. Постою, посмотрю. Давайте я вам наломаю букет…
Светлана Алексиевич: «Социализм кончился. А мы остались»
Разговор ведет Наталья Игрунова
Цикл книг о великой Утопии и рожденном ею человеке Светлана Алексиевич задумала почти три десятка лет назад. Как вспоминают студенческие друзья – заняла у Василя Быкова, Янки Брыля и Алеся Адамовича пять тысяч рублей (огромные по тем временам деньги), взяла в журнале, где работала, творческий отпуск, купила катушечный магнитофон (других тогда не было) и поехала по городам и весям Советского Союза записывать воспоминания фронтовичек. Так появилась книга, название которой стало идиомой: «У войны не женское лицо». С тех пор были написаны «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва». Светлана Алексиевич стала известным писателем, лауреатом престижнейших российских, европейских и американских литературных премий. А страны, попытавшейся воплотить Утопию в жизнь, больше нет. Новая, завершающая «пятикнижие» работа: «Время секонд хэнд» – прощание с эпохой.
Вот уже двадцать лет мы ведем со Светланой разговор о ее книгах и о том, как меняется мир и меняемся мы.
Н. И.: Ты своей книгой попадаешь в главный нерв сегодняшней мировоззренческой полемики. Прошло больше двадцати лет после СССР, а российское общество по-прежнему делится по этому разлому: «за» или «против». Самые яростные дискуссии на политических ток-шоу, вообще в СМИ, новые законодательные инициативы думских депутатов – о том, нужно ли выносить Ленина из мавзолея, о Сталине, переоценке событий Великой Отечественной войны, о роли Горбачева и Ельцина, о том, как новая и новейшая история должна трактоваться в школьных учебниках.
С. А.: Это от страха. От страха перед новой реальностью, которая нам открылась, к которой мы не готовы и перед которой беспомощны. И поэтому лучшая защита, как нам представляется, – составить кубики не из событий прошлого даже, а из наших мифов. Нас выбросило из собственной истории в общее время. Сначала нам казалось, что мы легко встроимся в этот мир. Массовое сознание надеялось: у нас будут такие же витрины, такие же магазины. Интеллектуалы думали, что они вот так, с ходу, окажутся на уровне мировой элиты. А выяснилось, что все не так просто. Что это огромная работа, это требует свободных людей, которыми мы не были, и свободного мышления, которым мы не обладали. И мы пошли не в мир, а от мира.
Н. И.: Недавно опубликован свежий «левадовский» соцопрос об отношении к лидерам страны. Лучше всего относятся к Брежневу (56 %), Ленину (55 %), Сталину (50 %). К Горбачеву и Ельцину отношение отрицательное (66 и 64 % соответственно).
С. А.: Разочарование в произошедшем огромнейшее. Это говорит о том, что элиты не сделали свою работу.
Н. И.: У тебя один из героев книги сетует: «Ничего еще не поняли о нашем недавнем мире, а живем в новом. Целая цивилизация на свалке». Может, проблема как раз в том, что мы пытаемся не разобраться, что произошло, а оценить – хорошо или плохо? Твои книги, давая высказаться самым разным людям, описывают время.
С. А.: Я описываю не идею как таковую, а метафизическую трагедию человеческой жизни, которая оказалась в этих жерновах. И никого не сужу. Эта идея утопическая пожирала лучших, красивейших людей, которые бросились в новую жизнь с верой, что они осчастливят человечество, выстроят эту жизнь правильно, хорошо. Я встречала еще таких людей. Хотя никогда, уже тысячи лет на развалинах ничего хорошего не получается, а всегда надо настраиваться на медленную, долгую работу.
Н. И.: Так проблема в идее или в ее воплощении и «исполнителях»?
С. А.: Об ответственности идеи тоже нужно говорить. Я уверена: надо не людей убивать, а бороться с идеями. Я долго жила в Европе – нигде писатели, театралы, художники не замыкаются в своих высших сферах или гламурных играх. Идет непрерывная дискуссия о том, что происходит в обществе. Особенно в немецком, которое в данной ситуации наиболее похоже на наше. Там четко поняли, что человеческую природу нужно бояться: громадный зверь убит, но монстрики, которые одолевают человека, оказались еще страшнее, чем это чудовище. А практики борьбы с этими монстриками человеческими не имеют ни литература, ни интеллектуалы.
Н. И.: Как ты сама оцениваешь эти семьдесят лет нашей истории – что это был за опыт? Что такое коммунизм, социализм? Ты в своей книге говоришь про «вирус», «заразу». Было это какое-то массовое «заболевание», или светлый, недостижимый идеал, или, может быть, что-то третье?
С. А.: На сегодняшний момент это, конечно, недостижимый идеал. Человечество на пути к справедливому обществу, но где-то в отдаленной перспективе.
Н. И: Большинство «простых» людей все, что произошло после развала Советского Союза, воспринимают как огромную несправедливость.
С. А.: А то, что произошло в России, и есть огромная несправедливость. Я в последнее время объездила с десяток российских городов, опросила сотни людей. Они не отрицают жестокости Сталина, репрессий, но они говорят, что советская власть была справедливей к простому человеку, что человек с деньгами не был так нагл, как сегодняшние «капиталисты» в первом поколении, не было такой коррупции. Для старшего поколения главной была утрата человека доброго, с какой-то общей жизнью, равной, с опекой государства. Многие из моего поколения, особенно интеллигенты, по-прежнему выброшены из жизни, ввергнуты в нищету. Молодые люди сильнее, многие смогли устроиться. Но это в крупных городах, в провинции проблема молодежи не решена, больше всего они страдают оттого, что образование стало фактически платным. Отсюда настроения опять все начать сначала – особенно у молодых.
Если бы мы тогда выбрали социал-демократический путь, возможно, все пошло бы иначе. Но что теперь гадать. А в 90-е был очень сильный удар, которого мы не ожидали. Интеллигенции казалось: мы знаем, чего хотим, мы звали новое время. Мы хотели перемен. А люди всего лишь хотели лучшей жизни. Кстати, мои герои на эти вопросы гораздо интересней отвечают.
Я не готова рассуждать как политик или экономист. Я просто хотела организовать весь этот хаос. Общество распалось, атомизировалось, множество разных идей работает на этом пространстве. Моя задача была выбрать главные направления жизненных энергетических потоков и как-то оформить их словесно, сделать это искусством. Мне хотелось, чтобы каждый прокричал свою правду. У меня все говорят – и палачи, и жертвы. Мы привыкли ощущать себя обществом жертв. А меня всегда интересовало: почему молчат палачи? Почему уравновесились добро и зло?
Н. И.: Ты считаешь, наше общество поляризовано именно так: палачи и жертвы?
С. А.: Разделение, конечно, значительно сложнее. В «хоре» есть сюжет о том, что мы росли среди палачей и жертв и видели, как все перемешалось и насколько это опасно. Перемены требовали чистоты и какого-то другого мировоззрения, и неожиданно этого не оказалось. Все размыто, все в каких-то начатках, набросках, прекраснодушных мечтаниях, только раньше мечтали на кухне, а теперь на площадях. Действовать начали конкретные ребята, которые стали делить эту огромную страну. Делить, пилить и вывозить.
Н. И.: Кто-то из твоих героев говорит: «Социализм умирал на наших глазах. И пришли эти мальчики железные». Смотри, как поразительно сошлись два образа: твои «цинковые мальчики» советские, посланные в Афган и там погибшие, и такие вот «железные» – безжалостные «братки» из постсоветских 90-х – готовые ради денег на заказные убийства… Переадресую тебе из твоей же книжки вопрос: «Разве уже надо рассказывать о социализме? Кому? Еще все свидетели».
С. А.: Кто-то прожил в той стране большую часть жизни, кто-то из детства что-то запомнил и учился у людей, которые жили при социализме, и по учебникам, которые писали люди из социализма. Социализм еще во всех нас, он везде, им все нашпиговано.
Н. И.: По соцопросам какой-то очень большой процент молодежи, в том числе родившейся после СССР, жалеет о его развале. Боюсь ошибиться, но, помнится, Мариэтта Чудакова очень жестко сформулировала: мол, так будет, пока не вымрут советские бабушки, которые рассказывают внукам о своей жизни.
С. А.: Я бы не была так жестока к бабушкам, они не так уж неправы. Многое из того, что потеряно, жалко. Достоинство прежде всего. Вот это достоинство маленького человека. Я не считаю, что нужно возвратить все в том виде, как было, но то, в каком виде все получилось, мне, как и многим моим героям, не так уж и нравится. Мечты не сбылись.
Н. И.: А какую цель ты ставила перед собой, задумывая цикл книг об Утопии? Как выбирала болевые, опорные точки? Как вообще выработались этот жанр и эта внутренняя конструкция – монологи-исповеди, вырывающиеся из безымянного многоголосия, перекрывающие хор?
С. А.: Я тридцать с лишним лет писала эту «красную» энциклопедию. Все началось со встречи с Алесем Адамовичем. Я долго искала свой жанр – чтобы писать так, как слышит мое ухо. И когда прочитала книгу «Я из огненной деревни», поняла, что это возможно. Меня всегда мучило, что правда не умещается в одно сердце, в один ум. Что она какая-то раздробленная, ее много и она рассыпана в мире. Как это собрать? И тут я увидела, что это можно собрать. Так родилась книга «У войны не женское лицо». А война всегда почему-то стоит в центре нашей жизни. Тогда, в 80-е, книгу не печатали – существовало табу: можно было только восхвалять этих людей, от генералиссимуса до рядовых, и их действия, иначе – одни эвфемизмы. И военная литература, ты знаешь не хуже меня, потихоньку пробивала эту стену, пытаясь рассказывать о войне другим языком. Хотя, видишь, как получается: мы немногого добились, те же стереотипы и страхи остались и сегодня, и не только у политиков наверху. Все эти взаимные обвинения в искажении правды о войне возникают потому, что общество боится правды о себе, боится внутренней работы. Если бы у нас было осознанное будущее, если бы мы четко знали, чего хотим, если бы мы действительно строили новое общество, шли бы в открытый мир, мы бы так не боялись своего прошлого.
Н. И.: А нас ждет кто-то в этом открытом мире? Такое ощущение, что по крайней мере Европа начинает «капсулироваться».
С. А.: Никто нигде никого не ждет. Но существуют некое общее интеллектуальное и политическое пространство, логика развития, общее направление, ну кроме исламского мира, о котором сложно что-то говорить, и мы должны были бы идти туда, напрячь свой потенциал, свои возможности. Новые люди подрастают, они ездят и видят мир, говорят на многих языках, они более открыты, более мобильны, они бы могли обустроить это новое время. Но они не востребованы. Социальные лифты не работают. А что значат десять-пятнадцать лет для интеллектуального человека, когда он бездействует, не востребован, парализован в своей главной специальности… Приехав через десять лет в Минск, я была поражена тому, сколько друзей умерло. Они умерли оттого, что у них украли время. Законсервировали в прошлом. Сначала украли вообще Время, а потом и их личное время.
Н. И.: Помнишь, тебе старуха какая-то говорит: социализм кончился, а мы остались. Причем невостребованными оказались те, кто привык что-то значить в обществе.
С. А.: Конечно. Это подпитывало какой-то энергией. А так люди просто погружались в пустоту. У меня в книге вторая часть как раз называется «Обаяние пустоты». Нам попытались внушить, что главное в этой жизни – обладание и гламур. Но, слава богу, многие быстро поняли, что это пустое дело, пустота, за этим ничего не стоит.
Н. И.: Пустоту же чем-то надо заполнить.
С. А.: Все кричат, что нужна национальная идея, а заполняют барахлом. У частного человека появились новые возможности. У меня один из героев признается: когда упал железный занавес, мы думали, все бросятся читать Солженицына, а люди кинулись кушать разное, чего не пробовали никогда, ездить в те места, которые могли увидеть только по телевизору…
Н. И.: В поездках по стране наверняка встречаешь людей не сломавшихся, деятельных, успешных, с позитивной установкой, их все-таки немало и в среднем поколении, и среди молодых. Не думала включить такие истории в книгу?
С. А.: Получилась бы чистая журналистика, «положительный пример». Я прошла в этой книге по самому болевому и показала, что за всем этим стоит.
Н. И.: Ты не раз говорила, что мы люди беды и страданий. Может, пока мы не перестанем так о себе думать, ничего и не изменится?
С. А.: Я не знаю, как будет. То, что мы люди беды и страданий – глубокая, давняя русская культура. Поезжай в деревню и поговори в любой хате: про что будут говорить? – только про беду.
Все дело в том, какая людям дается установка. У нас установка на то, что ты или должен жертвовать собой во имя чего-то, как в недавнем прошлом, или, как сейчас – живи одним днем, выживай, как можешь. А установка должна быть, как я понимаю, такая человеческая: на осмысление того, зачем ты этот путь проходишь… Это гораздо сложнее, чем отрицательный и положительный заряд. У нас нет культуры счастья, радостной жизни. Культуры любви. Следующая книга, которую я буду писать – о любви: рассказы о любви сотен людей. Я не могу найти у русских писателей рассказов о счастливой любви, все кончается или смертью, или ничем, очень редко – замужеством. У нас не было такой жизни – откуда же взяться такой литературе, такому кино? Страдания, борьба и война – опыт нашей жизни и нашего искусства.
У меня нет легких ответов на твои вопросы. Я сама перед этой многоярусностью, перед этим многоголосием жизни замерла, и есть ощущение, что мы не управляем этим потоком – куда же нас вынесет? Ощущение, что – это вот у Аверинцева хорошо – мы строили мосты над реками невежества, а они сменили русло. Будущее стало совершенно непрогнозируемым, как мы говорили с тобой в одном из прошлых интервью. Мы здесь копошимся в своих проблемах, а человечество, мир настолько изменились, что, по-моему, все в полном изумлении перед этим множеством жизней, которое вдруг открылось.
Я считала своей задачей поставить вопросы.
Н. И.: По этой книге заметно, что сегодня люди уже рассказывают по-другому и во многом о другом, чем тридцать, двадцать лет назад.
С. А.: Они откровеннее рассказывают о своих чувствах, мироощущении, гораздо шире захват происходящего. Исчез канон, по которому принято рассказывать. Когда я писала «У войны не женское лицо», был канон войны. А уже с чернобыльской книжкой – ситуация совершенно новая, канона не было, и человек вынужден был решать, что и как он будет рассказывать, сам. Так же и сейчас, при работе над книгой «Время секонд хэнд».
Н. И.: А кстати – откуда, почему это б/у время в названии?
С. А.: Потому что все идеи, слова – всё с чужого плеча, как будто вчерашнее, ношенное. Никто не знает, как должно быть, что нам поможет, и все пользуются тем, что знали когда-то, что было прожито кем-то, прежним опытом. Пока, к сожалению, время секонд хэнд. Но мы начинаем приходить в себя и осознавать себя в мире. Никому же не хочется вечно жить на развалинах, хочется что-то из этих обломков построить.
Н. И.: Вопрос – что построить и почему именно это. Я не считала, но такое ощущение, что человек десять недобрым словом поминают в книге эту несчастную колбасу, символ капиталистического благополучия, ради которой отказались и от идеи, и, в результате, от страны. Образ мощный – прежде всего в силу незамысловатости притязаний.
С. А.: В той стране был другой опыт. Когда-то Шаламов говорил, что лагерный опыт нужен только в лагере. Мы оказались именно в такой ситуации.
Н. И.: Многие поколения опирались на литературу, на русскую классику. Теперь этот опыт тоже перестает работать, уходит, чтение перестает быть главным параметром культурного уровня человека – и это качественная перемена. Вот на твой взгляд – можно считать культурным человека не читающего?
С. А.: Человек нашего круга ответит – нельзя. Но у понятия высокой культуры наполнение тоже может быть очень разным. Я однажды была свидетелем такой сценки: хозяин дома, москвич, очень известный человек, который занимался космосом, душа компании весь вечер сыплет примерами из русской классики, стихи наизусть читает – и к нему подходит один из гостей, его западный коллега и спрашивает: вы специально выучили стихи наизусть? Тоже ученый с мировым именем. Вот это меня больше всего поражало на Западе – гуманитарный диапазон необязателен. Профессиональная заостренность есть, а широты нет.
Н. И.: Может, виноваты сами писатели, уйдя в 90-е от разговора о проблемах, волновавших людей? Ты читала в последнее время что-то, о чем сказала бы: «О! Это нельзя пропустить»?
С. А.: Ну вот Ольгу Седакову читала много. В такое темное время, как сейчас, нам очень нужны проповедники, и ее присутствие в современной жизни для меня, как фонарик.
Н. И.: Ты говоришь – темное время. В 80-е годы, в перестройку, Лихачев пророчил: ХХ век принес страшный опыт тоталитаризма и прорывной опыт научных знаний, а новый век будет веком культуры.
С. А.: Думаю, это у нас уже не получится, как не получилось в ХХ веке жить по законам XIX-го. Будет что-то другое.
Н. И.: Тот синтез литературы документальной и художественной, который ты когда-то открыла для себя, сегодня превратился буквально в тренд. Процветает жанр документального романа, появляются автобиографические книги под вымышленным именем, или, наоборот, человек пишет под собственным именем и как бы мемуары, но это «маска», имитация, и там могут сталкиваться реальные люди и выдуманные персонажи, или литературные персонажи обсуждают истории реально существующих людей…
С. А.: Это попытки подступиться к реальности.
Н. И.: Конечно. Причем в ситуации, когда человек доверяет документу и факту, а не их интерпретации.
С. А.: В документе и факте оказалось гораздо больше тайн и неожиданностей, чем мы думали. Нам казалось, документ – простая, прямолинейная, голая вещь, А он точно так же светится временем, личностью. Сегодня расширились границы обращения с документом. Раньше то и дело одергивали: это трогать нельзя, туда не ходи… Меня всегда удивляло: почему нельзя писать о личном, сокровенном моих героев?.. Просто нужно их хорошо защитить.
Н. И.: Светлана, а чем отличалось восприятие твоих книг у нас и на Западе?
С. А.: У меня уже вышло 125 книг на разных языках. Интерес к этой стране, к этой идее огромный, и, видимо, мне удалось найти ту форму, которая позволяет их лучше донести, раскрыть. Дело не в том, что это, как кто-то тут сказал, коллекции ужасов; почитайте книги о том, что было в Руанде, на западном рынке вообще множество книг о таких ужасах современной жизни, что мои рядом с ними – детские сказки. Есть еще одна причина, по которой мои книги были приняты сразу. Скажем, «Цинковые мальчики» во Франции – они через мою книгу об Афгане заговорили о своей алжирской войне. У «Чернобыльской молитвы» во Франции был тираж тысяч триста или четыреста, поставлены десятки спектаклей. И это связано не только с тем, что на их территории много атомных станций – что-то в нашем мировоззрении, в нашем понимании любви, жертвы во имя любви в экстремальных обстоятельствах было им близко и понятно.
Н. И.: А в Японии после Фукусимы?
С. А.: После Фукусимы переиздали «Чернобыльскую молитву». У них на острове Хоккайдо есть атомная электростанция, она называется «Тамара». Помню, я приехала, когда там впервые вышла книга, глянула из окна – она такая красивая, как какой-то неземной космический объект. И на встрече с читателями работники этой станции были абсолютно уверены, что такая авария могла случиться только у безалаберных русских, а у них ничего подобного невозможно, у них все просчитано. И вот вдруг землетрясение всего на балл сильнее, чем было заложено для сейсмобезопасности – и все, от всего этого прогресса остался мусор… После 11 сентября «Чернобыльскую молитву» и «Цинковых мальчиков» стали больше читать американцы. Нам все чаще приходится задумываться над тем, что мы не властны над этим миром, как нам казалось, что есть некие другие законы, некие другие силы…
Н. И.: А почему ты все-таки не завершила книгу о любви, над которой столько лет работала? Мне кажется, без нее этот цикл о советском человеке неполон. Это ведь было и время каких-то очень романтических порывов, светлой любви…
С. А.: Нет, этот цикл на сегодняшний день закончен. В него вошло пять книг: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд хэнд». «Красный» цикл. Все. А книги о любви и о старости и смерти – это уже совершенно иные книги. Их будет писать немного другой человек.
Н. И.: Какой?
С. А.: Я пока не знаю. Но другой. Человек, который сейчас больше изумляется жизни, чем раньше. Раньше меня больше интересовали общие идеи и неподвластные человеку стихии: война, Чернобыль. Сегодня меня прежде всего интересует то, что происходит на пространстве одинокой человеческой души. Мне кажется, что мир смещается сюда.