Книга: Раневская. Фрагменты жизни
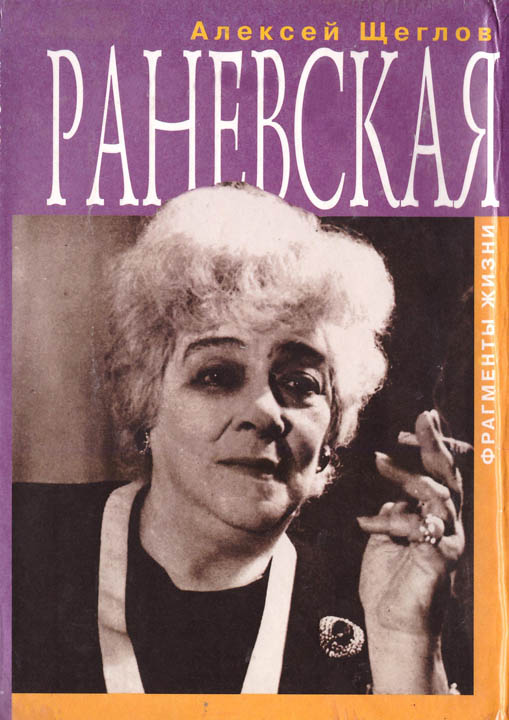
Раневская. Фрагменты жизни
У меня хватило ума глупо прожить жизнь…
Автор признателен:
Всем друзьям Фаины Георгиевны — за помощь, воспоминания и любовь к Раневской. Сотрудникам Российского Государственного архива литературы и искусства — за содействие в работе с материалами архива. Иосифе Давыдовичу Кобзону — за внимание, проявленное к работе над этой книгой. Ирине Евгеньевне Богат — за доброжелательность и профессиональную помощь.
Фаина Георгиевна Раневская уничтожила свою книгу воспоминаний.
Потом много раз возвращалась к ней, мучилась невозможностью все восстановить, начинала и останавливалась.
Как-то к ней обратились в очередной раз с просьбой написать книгу о своей жизни. Был заключен договор и даже получен аванс. Первая фраза, которую написала тогда Фаина Георгиевна, была:
«Мой отец был небогатый нефтепромышленник…»
Дело не шло. Аванс Раневская вернула.
«Было много страшного, чего нельзя забыть до смертного часа и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит не сказать ничего. Потому и порвала книгу».
Раневская пообещала все восстановить. Книга ее жизни, разделенная по разным адресам, лежит в библиотеках, в архивах, в частных домах, в сотнях ее рукописей, пометках, в ее письмах друзьям, воспоминаниях современников. Многое известно, многое нигде не опубликовано. Там есть все, что она не могла напечатать в своей жизни, собрать в книгу. Теперь собрать это попробовал я, ее «эрзац-внук».
Ее талант связал любимый ею девятнадцатый и Серебряный век с нашими днями.
Еще в юности Фаина Георгиевна волей обстоятельств была разлучена со своими родными и нашла другую семью — семью своего первого театрального педагога Павлы Леонтьевны Вульф, моей бабушки, и ее дочери Ирины Сергеевны Анисимовой-Вульф, моей мамы. До последних своих дней Фаина Георгиевна оставалась для меня близким, родным человеком.
К столетию Фаины Георгиевны в 1996 году я написал и издал 500 экземпляров небольшой книжечки личных воспоминаний «О Фаине Георгиевне Раневской». Книжка эта была хорошо принята, и нынешний издатель обратился ко мне с предложением написать большую биографическую книгу о Раневской.
Я не профессиональный литератор, не искусствовед. Единственная возможность рассказать о Фаине Георгиевне — вспомнить все, что я знаю о ее жизни, все, что связано с нашей семьей, ставшей родной для Раневской, вместе с читателем прочесть ее записи, ее черновики — яркие, непосредственные, не испытавшие неизбежного влияния предстоящей публикации. Везде, где можно, я старался давать не пересказ, а прямые цитаты.
Я также старался избежать отточий и купюр, сохранить ее орфографию, ее неповторимую пунктуацию.
Эта прозрачная, порой мучительная исповедь, часто без надежды быть услышанной, дорога своим существованием в наши дни, открывшие второе столетие со дня рождения Раневской.
Восемьдесят восемь лет Фаины Георгиевны, дошедшие до нас — в рукописях, написанных ее драгоценным крупным почерком, в воспоминаниях ее друзей, — мы проживем вместе с вами — по адресам ее жизни.
Там проходили ее дни, рождались незабываемые роли. Там были дорогие ей люди.
Им выпало счастье ее видеть и любить.
1896–1915
…Море меня никогда не волновало, хотя я родилась у моря. А лес люблю…
27 августа 1896 года — Таганрог, Николаевская 12 — В семье — Детство и театр — Двор — Музыка — Чехов — Толстой — Гимназия — Летние каникулы — Алиса Коонен — Павла Вульф — Разрыв с семьей
Фаина Георгиевна Раневская родилась в Таганроге 27 августа 1896 года и всю жизнь гордилась тем, что в ее любимом городе родился Чехов и провел свои последние дни император Александр I.
Это была большая благополучная еврейская семья. Отдыхали у моря, в Крыму, бывали за границей — в Австрии, Швейцарии.
Отец — Гирши Фельдман, — уважаемый, богатый, известный в Таганроге человек с твердым и сильным характером.
Девичья фамилия матери — Валова. Мать — человек тонкой, изысканной души — страстно любила музыку и передала эту любовь Фаине вместе с редкой музыкальностью. Она была необычайно кротким, ранимым человеком. Ее авторитет был для Фаины непререкаем.
Их большой двухэтажный дом на Николаевской, 12 — из красного кирпича, с балконом, — сохранился. Кафельная печь с изразцовой картинкой.
Позади дома — большой длинный двор. В доме много людей, дети: братья Фаины и старшая сестра Белла — Белка.
Новый год, игрушки, елка, которую Фаина не любила. Не любила потому, что Беллу наряжали в чудесное платье, оно ее делало еще красивей. Все восхищались. Чудная, грустная Белла. А маленькая Фаина стояла в стороне, лишенная похвал.
Самые ранние воспоминания Фаины:
«…Испытываю непреодолимое желание повторять все, что говорит и делает дворник. Верчу козью ножку и произношу слова, значение которых поняла только взрослой. Изображаю всех, кто попадается на глаза. „Подайте Христа ради“, — прошу вслед за нищим; „Сахарная мороженая“, — кричу вслед за мороженщиком; „Иду на Афон Богу молиться“, — шамкаю беззубым ртом и хожу с палкой скрючившись, а мне 4 года».
«…У дворника на пиджаке медаль, мне очень она нравится, я хочу такую же, но медаль дают за храбрость — объясняет дворник. Мечтаю совершить поступок, достойный медали. В нашем городе очень любили старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали бы медаль, как у нашего дворника. Эти мечтания не давали мне покоя».
Когда Фаине было пять лет, умер младший братик. Она горько плакала, но — отвела траурный занавес с зеркала: «Какая я в слезах?»
«Я вижу двор узкий и длинный, мощенный булыжником, во дворе сидит на цепи лохматая собака с густой свалявшейся шерстью, в которой застрял мусор и даже гвозди, — по прозвищу Букет. Букет всегда плачет и гремит цепью. Я люблю его. Я обнимаю его за голову, вижу его добрые, умные глаза, прижимаюсь лицом к морде, шепчу слова любви. От Букета плохо пахнет, но мне это не мешает. В черном небе — белые звезды, от них светло, и мне видно из окна, как со двора волокут нашу лошадь „Васю“, она неподвижна, ее втаскивают на подводу. Я люблю нашего рыжего Васю, он возит нас детей к морю, возит на дачу, почему он лежит на подводе. Я кричу: „Что с Васей?“ И мне отвечают: „Везем на живодерню“. Я не знаю, что такое живодерня, потому что мне 5 лет».
«Несчастной я стала в 6 лет. Гувернантка повела в приезжий „Зверинец“. В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человечьими глазами, рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина, вошли пьяные шумные оборванцы и стали тыкать палкой в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь…»
«Я стою в детской на окне и смотрю в окно дома напротив, нас разъединяет узкая улица и потому мне хорошо видно все, что происходит напротив в комнате. Там танцуют, смеются, визжат… Мне лет 7, я не знаю слов пошлость, мещанство, но мне очень не нравится все, что вижу в окне дома на втором этаже напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать. Там чужие, они мне не нравятся, но я смотрю на них с интересом. Потом офицеры и их дамы уехали и напротив поселилась учительница географии — толстая важная старуха, у которой я училась, поступив в гимназию. Она ставила мне двойки и выгоняла из класса, презирая меня за мое невежество в области географии. В ее окна я не смотрела, там не было ничего интересного…»
«Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну немку. Ночью молила бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем. Над книгой, где кого-то обижали, плакала навзрыд, тогда отнимали книгу и меня ставили в угол. Училась плохо, арифметика была страшной пыткой. В семье была не любима. Мать обожала, отца боялась и не очень любила. Писать без ошибок так и не научилась, считать — тоже, наверное потому и по сию пору всегда без денег».
Как-то старший брат, гимназист, сказал ей, очевидно, под влиянием демократических настроений: «Наш отец — вор, и в дому у нас все ворованное». Удрученная Фаина воскликнула: «И куколки мои тоже ворованные?!» «Да», — безжалостно ответил брат. Фаина представила, как ее любимая мама стоит на «полундре», а папа с большим мешком грабит магазин детских игрушек. Вероятно, для брата понятия «вор» и «эксплуататор» не различались по смыслу. Младшая сестра ему безгранично верила, и они решили бежать из дома. Подготовились основательно: купили один подсолнух. По дороге на вокзал поделили его пополам и с наслаждением лузгали семечки. Тут их нагнал городовой, отвез в участок, где ждали родители.
Дома была порка.
Фаина фантастически непрактична. Однажды удачно обменяла свои ручные часы на великолепные старые ножницы, коварно предложенные ей сыном дворника. Дома ей крепко досталось.
«Всегда завидовала таланту: началось это с детства. Приходил в гости к старшей сестре гимназист, читал ей стихи, флиртовал. Читал наизусть. Чтение повергло меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломал руки. Стихи назывались „Белое покрывало“. Кончалось чтение словами: „Так могла солгать — лишь мать“, — и зарыдал. Я была в экстазе. Подруга сестры читала стихи: „Увидя почерк мой, Вы верно удивитесь, я не писала Вам давно и думаю, Вам это все равно“, — подруга сестры тоже и рыдала и хохотала, и опять мой восторг и зависть, и горе, потому что у меня не выходило, когда я пыталась им подражать…»
«Первое свидание в ранней молодости было неудачным. Гимназист, поразивший мое сердце, обладал фуражкой, где над козырьком был герб гимназии, а тулья по бокам была опущена и лежала на ушах. Это великолепие сводило меня с ума. Придя на свидание, я застала на указанном месте девочку, которая попросила меня удалиться, т. к. я уселась на скамью, где у нее свидание. Вскоре появился герой, нисколько не смутившийся при виде нас обеих. Герой сел между нами и стал насвистывать. А соперница требовала, чтобы я немедленно удалилась. На что я резонно отвечала: „На этом месте мне назначено свидание, и я никуда не уйду“.
Соперница заявила, что не сдвинется с места. Я сделала такое же заявление. Каждая из нас долго отстаивала свои права. Потом герой и соперница пошептались. После чего соперница подняла с земли несколько увесистых камней, стала в меня их кидать. Я заплакала… Пришлось уступить… Вернувшись на поле боя, я сказала: „Вот увидите, вас накажет бог“, и ушла полная достоинства».
«Петрушка» — потрясение № 1. Каким-то образом среди игрушек оказались персонажи «Петрушки» — городовой, цыган, дворник и еще какие-то куклы. Я переиграла все роли, говорила, меняя голос, городовой имел неописуемый успех. Была и ширма, и лесенка, на которую становилась. Сладость славы переживала за ширмой. С достоинством выходила раскланиваться. Как могло случиться, что в детстве я увидела цветной фильм, возможно, изображали сцену из «Ромео и Джульетты». Мне лет 12. По лестнице взбирался на балкон юноша неописуемо красивый, потом появилась девушка неописуемо красивая, они поцеловались, от восхищения я плакала, это было потрясение № 2. Возвратясь домой, я кинулась к моему богатству — копилке в виде фарфоровой свиньи, набитой мелкими деньгами (плата за рыбий жир). В состоянии опьянения от искусства, дрожащими руками схватила свинью и бросила ее на пол, по полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям. В ту ночь я не спала.
Это был американский фильм 1908 года фирмы «Вайтограф» «Ромео и Джульетта» режиссера Джеймса Стюарта Блэктона. Виктор Семенович Листов, написавший о кинематографе много интересного, недавно объяснил мне: действительно фильм мог тогда показаться Фаине цветным — это была еще не цветная натура, а пленка, искусно вирированная в разные оттенки.
Жаркий Таганрог, сухой летний воздух, аллеи городского сада, спуск к морю, зеленые, с акацией из-за забора, улицы. Окна раскрыты. Из окон несется музыка.
«В Таганроге было множество меломанов, во многих домах стояли фортепьяно. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтоб играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина, у рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть, и тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверно, его концерт втянул, втолкнул душу мою в музыку… В нашем городе гастролировал пианист Гофман, игравший Шопена как никто больше. Так мне тогда казалось. В театре в нашем городе гастролировали прославленные артисты. И теперь еще я слышу голос и вижу глаза Павла Самойлова в „Привидениях“ Ибсена: „Мама, дай мне солнца“ — я, помню, рыдала. Театр был небольшой, любовно построенный с помощью меценатов города. Первое впечатление было в детстве очень страшным. Я холодела от ужаса, когда кого-то убивали и при этом пели, я громко кричала и требовала, чтоб меня увели в оперу, где не поют. Кажется, это напугавшее меня зрелище называлось „Аскольдова могила“. А когда убиенные выходили раскланиваться и при этом улыбались, я чувствовала себя обманутой и еще больше возненавидела оперу».
Фаина вспоминала с гордостью, что лечила зубы у племянника Антона Павловича Чехова.
«Мама знала многих, с кем он был знаком, у кого бывал. Я бегала к домику, где он родился, и читала там книги, сидя на скамье в саду.
На даче под Таганрогом, утро, очень жарко, трещат цикады, душно пахнут цветы в палисаднике, я уложила кукол спать и прыгаю через веревочку, я счастливая, не надо готовить уроки, не надо играть гаммы — я обрезала палец. К дому подъехала двуколка, из города приехал приказчик, привез почту, привез много свертков, привез вкусности. Я счастливая, я очень счастливая. Почему вскрикнула мама? Я бегу в дом, через спущенные жалюзи в спальне полоска спета, она блестит золотом, мама уронила голову на ручку кресла, она плачет — я мучительно крепко люблю мать, я спрашиваю, почему она плачет: она указала на пол, где лежала газета с напечатанной в ней фотографией, в черной рамке был крестик и сообщение о том, что в Баденвайлере скончался Антон Павлович Чехов. Я вспомнила, что видела книги, где на корешках было „А. П. Чехов“, взяла одну из них. Мне попалась „Скучная история“. — На этом кончилось мое детство».
Летом 1910 года Фаина в Крыму, в Евпатории, — каникулы. По соседству, в большом тенистом саду, в белом одноэтажном домике, увитом виноградом, — семья Станислава Андреева, главного врача местного туберкулезного санатория. Его дочь Нина, позже — бессменная подруга Фаины Георгиевны Нина Станиславовна Сухоцкая, вспоминала в своей книге это жаркое лето:
«Каждое утро из дома выходят две девочки — дочери Андреева — и с ними сестра его жены — молодая актриса Художественного театра Алиса Коонен, приехавшая в отпуск. Все трое знают, что у калитки в сад, как всегда, их ждет обожающая Алису Коонен Фаина — девочка-подросток с длинной рыжеватой косой, длинными руками и ногами и огромными лучистыми глазами, неловкая от смущения и невозможности с ним справиться…
Обняв Фаину, Алиса направляется к морю. За ними в больших соломенных панамках, как два грибка, идут девочки. Это я и моя старшая сестра Валя, тоже „обожающая“ свою молодую тетю Алю и ревнующая ее к Фаине. Мне было в то время четыре года, Фаине — пятнадцать лет».
Осенью — в ноябре — умер Лев Толстой.
«Смерти нет, а есть любовь и память сердца», — повторяла Фаина его слова.
«Я впитала любовь к Толстому не с молоком, а со слезами матери. Второй раз мать рыдала над газетным сообщением в 1910 году. Она говорила, что не знает, как жить дальше: „Погибла совесть, совесть погибла“».
Весной 1911 года гимназистка Фаина Фельдман в переполненном зале маленького Таганрогского театра в гастрольных спектаклях театра Ростова-на-Дону впервые увидела Павлу Вульф — известную провинциальную актрису — в ее лучших ролях: Лиза («Дворянское гнездо»), Нина Заречная («Чайка»), Аня («Вишневый сад»).
Павла Леонтьевна Вульф, моя бабушка — друг и поклонница таланта замечательной Веры Федоровны Комиссаржевской, ее ученица, — сыграла в жизни Фаины Фельдман свою, может быть, самую яркую и незабываемую роль.
Три коротких весенних сезона Ростовского театра на гастролях в Таганроге, все — семья, дом, фонтан на площади, гора Юнгфрау в Швейцарии, шляпные коробки из Вены, — все теряет смысл. Сейчас — только Театр.
В казенной автобиографии Раневская напишет потом:
«По окончании гимназии решила идти на сцену. Решение уйти на сцену послужило поводом к полному разрыву с семьей, которая противилась тому, чтобы я стала актрисой. В 1915 году я уехала в Москву с целью поступить в театральную школу».
«Господи, мать рыдает, я рыдаю, мучительно больно, страшно, но своего решения я изменить не могла, я и тогда была страшно самолюбива и упряма… И вот моя самостоятельная жизнь началась».
1915–1916
…Я так любила вас весь вечер…
Экзамены в Москве — Гельцер — «Мои университеты» — Цветаева — Шаляпин — Станиславский — Качалов — Мандельштам — Маяковский — Лето в Малаховке — Садовская — Певцов — Актерская биржа — Керчь — Феодосия — Кисловодск — Эмиграция семьи
Поехала в Москву. Ее никто не знал. Средств к существованию не было. Поступала всюду — в театральные школы, показывалась в театры. На экзаменах от волнения стала заикаться.
«Ни в одну из лучших театральных школ принята не была, как неспособная».
Таганрогский знакомый отца, узнав в Москве о ее нужде, сказал: «Дать дочери Фельдмана мало — я не могу, а много — у меня уже нет…»
Отец все-таки прислал перевод. Держа в руках деньги, Фаина вышла на улицу. Ветер вырвал бумажки из ее рук, они полетели по улице, а Фаина остановилась, вздохнула: «Как жаль — улетели…». «Я ненавижу деньги до преступности, я их бросаю, как гнойные, гнилые тряпки. Это правда. Так было всегда».
Кто-то из друзей, узнав об этом, горько заметил: «Ну, посыпались… Это же Раневская, „Вишневый сад“, только она так могла. Ты — Раневская!»
Чехов подарил нам ее имя. С этого времени она стала Раневской.
Приобрела сценический гардероб, деньги кончились.
«Неудачи не сломили моего решения быть на сцене: с трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки».
Одна. Опять безденежье, московская зима. «Неудачница, неуклюжая… Что мне делать?»
Знаменитая балерина Екатерина Васильевна Гельцер увидела у колонн Большого театра провинциальную девочку. Выслушала ее горький рассказ. «Фанни, — сказала Гельцер, — вы меня психологически интересуете».
Раневская вспоминала о Гельцер:
Она была чудо, она была гений. Она так любила живопись, так понимала ее. Ездила в Париж, покупала русские картины. Меня привела к себе: «Кто здесь в толпе (у подъезда театра) самый замерзший? Вот эта девочка самая замерзшая…»
Уморительно смешная была ее манера говорить. Гельцер была явление неповторимое и в жизни и на сцене. Я обожала ее. Видела во всем, что она танцевала. Такого темперамента не было ни у одной другой балерины. Детишки — ее племяши Федя и Володя — 2 мальчика в матросских костюмах и больших круглых шляпах, рыженькие, степенные и озорные — дети Москвина и ее сестры, жены Ивана Михайловича. Екатерина Васильевна закармливала их сластями и читала им наставления, повторяя «Вы меня немножко понимаете?» Дети ничего не понимали, но шаркали ножкой.
Гельцер говорила: «Я одному господину хочу поставить точки над „i“». — Я спросила, что это значит? — «Ударить по лицу Москвина за Тарасову».
Раневская жадно слушала рассказы Гельцер о «перефилии» (так она именовала провинцию), о сцене, о нравах актеров, о своей неразделенной любви:
«Первая моя перефилия — Калуга. Мечтаю сыграть немую трагическую роль. Представьте себе, вы мать, три дочери, одна немая, и поэтому ей все доверяют, но она жестами и мимикой выдает врагов».
«Книппер — ролистка, она играет роли, ей опасно доверять».
«Наша компания, это даже не компания, это банда».
«По женской линии у меня фэномэнальная неудача».
«Кто у меня бывает из авиации, из железнодорожников! Я бы, например, с удовольствием влюбилась в астронома… Можете ли вы мне сказать, Фанни, что вы были влюблены в звездочета или в архитектора, который создал Василия Блаженного?.. Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»
«Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга».
«Я обожала Гельцер, — вспоминала Раневская. — Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, и даже чему-то детскому, очевидно присуще гению.
Она ввела меня в круг ее друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда было принято ездить к Балиеву в „Летучую мышь“. Возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане.
Гельцер показала мне всю Москву тех лет».
Это были «Мои университеты».
Раневская жила в то время в крохотной комнатке на Большой Никитской, ничуть не тяготясь убогой каморки «лакейской», которая ей досталась; ее увлекла меняющаяся, неизвестная ей до той поры Москва. Расцветающий модерн, Шаляпин, театры, ариетки Вертинского, его бледный Пьеро, немой кинематограф — ровесник Фаины, красота Веры Холодной — незабываемой «примы» немого экрана, встречи с Цветаевой, Мандельштамом, Маяковским. И ни слова о войне — Раневская будто не замечает ее.
«В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цветаевой. Марина, чёлка. Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала».
Раневская рассказывала, что Цветаеву волновали тогда необыкновенно склянки из-под духов, она видела в них красоту, разнообразие и совершенство форм:
«Марина просила: „Принесите от Гельцер пустые бутылочки от духов“. Я приносила. Марина сцарапывала этикетки, говорила: „А теперь бутылочка ушла в вечность“. Бедная моя Марина… ни на кого не похожая…»
Стеклянные миниатюры, прозрачные формы, освобожденные цветаевской рукой, — это мимолетное воспоминание я часто слышал от Раневской.
Тогда, в театре Зимина, Раневская впервые услышала Федора Ивановича Шаляпина, и… этого голоса ей не хватало потом всю жизнь:
«Я помню еще: шиншилла — мех редкостной мягкости — нежно серый, помню, как Шаляпин вышел петь в опере Серова „Вражья сила“, долго смотрел в зрительный зал, а потом ушел к себе в гримерную, не мог забыть вечера, когда встал на колени перед царской ложей, великий Шаляпин — Бог Шаляпин не вынес травли. Я помню, как вбежал на сцену администратор со словами: „По внезапной болезни Федора Ивановича спектакль не состоится, деньги за купленные билеты можно получить тогда-то“. Я сидела в первом ряду в театре Зимина, где гастролировал Шаляпин, я видела движение его губ „не могу“ — Шаляпин не мог петь от волнения, подавленности, смятения».
«Первым учителем был Художественный театр. В те годы первой мировой войны жила я в Москве и смотрела по нескольку раз все спектакли, шедшие в то время, Станиславского в Крутицком вижу и буду видеть перед собой до конца дней. Это было непостижимое что-то. Вижу его руки, спину, вижу глаза чудные — это преследует меня несколько десятилетий. Не забыть Массалитинова, Леонидова, Качалова, не забыть ничего… Впервые в Художественном театре смотрю „Вишневый Сад“. Станиславский — Гаев, Лопахин — Массалитинов, Аня — молоденькая прелестная Жданова, Книппер — Раневская, Шарлотта?.. Фирс?.. Очнулась, когда капельдинер сказал: „Барышня, пора уходить!“ Я ответила: „Куда же я теперь пойду?“»
Раневская вспоминала свою единственную встречу со Станиславским:
«Шла по Леонтьевскому — было это в году 15-м, может быть, 16-м. Услышала „бабрегись“ — кричал извозчик, их звали тогда „Ванька“. Я отскочила от пролетки, где сидел Он, мой Бог Станиславский, растерялась, запрыгала и закричала: „Мальчик мой дорогой!“ Он захохотал, а я все бежала и кричала: „Мальчик мой дорогой!“ Он встал спиной к извозчику, смотрел на меня добрыми глазами, смеялся».
«Каждый свободный вечер — в театре. Моя унылая носатая физиономия всовывалась в окошечко какого-то театрального администратора, и я печальным контральто произносила, заглядывая в металлические глаза: „Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре“. Действовало безотказно. Правда, при попытке пройти в один театр вторично администратор мне посоветовал дважды не появляться: „Вы со своим лицом запоминаетесь“.
„Тогда еще в моде были обмороки, и я этим широко пользовалась. Один из обмороков принес мне счастье большое и долгое. В тот день я шла по Столешниковому переулку, разглядывала витрины роскошных магазинов и рядом с собой услышала голос человека, в которого была влюблена до одурения, собирала его фотографии, писала ему письма, никогда их не отправляя, поджидала у ворот его дома. Услышав его голос, упала в обморок неудачно, расшиблась очень. Меня приволокли в кондитерскую рядом — она и теперь существует на том же месте, а тогда она принадлежала француженке с французом. Сердобольные супруги влили мне в рот крепчайший ром, от которого я сразу пришла в себя и тут же снова упала в обморок, лежа на диване, когда голос этот прозвучал вновь, справляясь о том, не очень ли я расшиблась“. Это была первая встреча Раневской с Василием Ивановичем Качаловым — тогда еще молодым актером МХАТа».
«Гора пирожных в кафе Сиу; к столу подсел Мандельштам, заказал шоколад в чашке, съел торт, пирожные; сняв котелок, поклонился и ушел, предоставив возможность расплатиться за него Екатерине Васильевне Гельцер, с которой не был знаком. Мы хохотали после его ухода. Уходил торжественно подняв голову и задрав маленький нос. Все это было неожиданно, подсел он к нашему столику без приглашения. Это было очень смешно. Я тогда же подумала, что он гениальная личность. Когда же я узнала его стихи — поняла, что не ошиблась».
«Маяковского увидела в доме, где помещалась какая-то школа, то ли музыкальная, то ли театральная, звалась „Школа братьев Шор“. Маяковский был одет по моде — визитка, полосатые брюки, помню красивый галстук. Он все время стоял, ел бутерброды, молчал. Был он красивый».
«Гельцер устроила меня на выходные роли в летний Малаховский театр, где ее ближайшая приятельница — Нелидова — вместе с Маршевой — обе прелестные актрисы — держали антрепризу.
Представляя меня антрепризе театра, Екатерина Васильевна сказала: „Знакомьтесь, это моя закадычная подруга Фанни из перефилии“.
Это был дачный театр, в подмосковном посёлке Малаховка в 25 километрах от центра Москвы, не доезжая теперешнего аэропорта Быково — пыльные, пахнущие сосной тропинки, зеленые палисадники, за которыми теснятся деревянные и кирпичные дачи. Этот театр в старом парке существует и сейчас. „Памятник культуры Серебряного века“ — начертано на черной мемориальной доске. Тогда, в 1915 году, на его сцене шли пьесы лучших драматургов того времени, ставили спектакли известные режиссеры. На премьеру сюда поездом съезжалась театральная московская публика — несколько вагонов тянул паровичок „кукушка“. Многие приезжали в нарядных экипажах».
«В Малаховском летнем театре началась моя артистическая деятельность. В те далекие годы в Малаховке гастролировали прославленные актеры Москвы и Петрограда: великолепный Радин, Петипа (его отец Мариус Петипа) и еще много неповторимых, среди них был и Певцов. Помню хорошо прелестную актрису, очаровательную молоденькую Елену Митрофановну Шатрову. И это была счастливейшая пора моей жизни, потому что в Малаховском театре я видела великую Ольгу Осиповну Садовскую.
Помню летний солнечный день, садовую скамейку подле театра, на которой дремала старушка; помню, как кто-то, здороваясь с ней, сказал: „Здравствуйте, наша дорогая Ольга Осиповна!“ Тогда я поняла, что сижу рядом с Садовской, вскочила как ошпаренная. Садовская спросила: „Что это с вами? Почему вы прыгаете?“ Я заикаясь (что со мной бывает при сильном волнении) сказала, что прыгаю от счастья, оттого, что сидела рядом с Садовской, а сейчас побегу хвастать подругам. Ольга Осиповна засмеялась, сказала: „Успеете еще, сидите смирно и больше не прыгайте“. Я заявила, что сидеть рядом с ней не могу, а вот постоять прошу разрешения. „Смешная какая барышня, чем вы занимаетесь?“ — взяла меня за руку и посадила рядом. „Ольга Осиповна, дайте мне опомниться от того, что я сижу рядом с вами, а потом скажу, что я хочу быть артисткой, а сейчас в этом театре на выходах“, — а она все смеялась. Потом спросила, где я училась. Я созналась, что в театральную школу меня не приняли, потому что я неталантливая и некрасивая. Она смеялась и потом стала меня просить обязательно пойти в Малый театр смотреть спектакль, в котором играет ее сын Пров Садовский.
По сей день горжусь тем, что насмешила до слез Самое Садовскую».
«Я очень хорошо помню, каким потрясением в Малаховском театре была для меня встреча с великим трагическим актером Певцовым.
Гейне сказал, что актер умирает дважды. Нет, это не совсем верно, если прошли десятилетия, а Певцов стоит у меня перед глазами и живет в моем сердце.
Мне посчастливилось видеть его в пьесе Леонида Андреева „Тот, кто получает пощечины“. И в этой роли я буду видеть его перед собою до конца моих дней.
Помню, когда я узнала, что должна буду участвовать в этом его спектакле, я, очень волнуясь и робея, подошла к нему и попросила его дать мне совет, что делать на сцене, если у меня нет ни одного слова в роли. „А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать“. И я любила его так крепко, как он попросил.
И когда спектакль был кончен, я громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения подружек не могли меня успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в нашу гримерную и спросил меня: „Что с тобой?“ — „Я так любила, так крепко любила вас весь вечер“, — выдохнула я рыдая. — „Милые барышни, вспомните меня потом. Она будет настоящей актрисой“.
Об этом изумительном художнике и большом человеке вспоминаю благоговейно. Считаю его первым моим учителем. Он очень любил нас, молодежь. После спектакля брал нас с собой гулять. Он учил нас любить природу. Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку.
Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам: „Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь“.
Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: „Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей“. Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил.
Милый, дорогой Илларион Николаевич Певцов… Я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова: „Какое наслаждение — уважать людей“.»
Кончился летний малаховский сезон — счастливая пора. Теперь — театральное бюро, московская «биржа». Толпа, привыкшая к найму, чужие антрепренеры; все снова — нескладная внешность, неуверенность, одиночество.
«После долгих мытарств подписала договор на 35 рублей в месяц „со своим гардеробом“ на роли „героини-кокет“ с пением и танцами в антрепризу Ладовской в город Керчь» — из автобиографии.
«Керчь. Один сезон. Старик ходил во всякую погоду в калошах, перевязав их веревкой, я спросила, почему он в калошах в такую жару. Старик объяснил, что как вегетарианец он не носит кожи. Через несколько дней я увидела его в тех же калошах, пожирающим ливерную колбасу. Это был нищий, умевший читать и потому ушедший на сцену. Играл он амплуа „благородных отцов“.
Сборов в Керчи не было: театр был всегда пуст…
На закрытие театра шла пьеса „Под солнцем юга“. Я играла гимназиста. Понравилась антрепренеру Новожилову, прибывшему из Феодосии, чтобы забрать в свою труппу кого-либо из прогоревшего театра. Распродав свой гардероб, я перебралась из Керчи в Феодосию».
В конце сезона Новожилов сбежал из Феодосии, не заплатив актерам, и Раневская уехала в Кисловодск.
В кратких черновых записях Фаины — лишь перечень имен: Шаляпин, Тэффи, Медея Фигнер, Рубинштейн. О последнем такая запись: «При мне били шулера, человека в сером котелке, которого называли Митька. Шулер смирно сидел — толстый, огромный, не сопротивлялся, когда его били по шее бронзовым подсвечником. Карты при свечах, игра в девятку».
Еще одна запись Раневской о Кисловодске того года: «…банкиры, кокотки, шулера, театры „Миниатюр“, встревоженное предчувствие катастрофы. 1916 год».
Раневскую пугала не нужда, а судьба ремесленника. Учиться было не у кого. Нужна была своя тема.
«Тогда я переехала в Ростов-на-Дону»…
Когда-то, в 1902 году, Лев Толстой возвращался из Крыма на пароходе «Святой Николай»…
Теперь этот пароход принадлежал отцу Раневской.
Была весна 1917 года, и этой весной Фаина узнала, что вся ее семья эмигрировала на своем пароходе «Святой Николай» в Турцию.
1917–1918
…Павла Леонтьевна спасла меня от улицы…
Другая семья — За помощью к Павле Вульф — «Роман» Шельдона — Кавалини — Вместе в Крым
Известная провинциальная актриса Павла Леонтьевна Вульф была родом из Порхова, из псковских помещиков, которые происходили из рода Васильчиковых, имевших множество дочерей. Одна из них вышла замуж за графа Строганова, владельца огромного имения-майората Волышево (под Порховом), а другая — за сына обрусевшего немецкого барона Карла Вульфа — Леонтия Карловича Вульфа, от брака с которым и родилась Павла Леонтьевна. В имении тетки, в Волышеве, бабушка впервые участвовала в спектакле «Сорванец» и «живых картинках», вероятно, подтолкнувших ее к мысли о театральной карьере. Волышево сохранилось до сих пор, правда, в плачевном состоянии. Павла Леонтьевна тщательно скрывала свое непролетарское происхождение и лишь вскользь написала об этом в своей книге «В старом и новом театре» как о каком-то праздничном сне.
Муж Павлы Леонтьевны, мой рано ушедший из жизни дед Константин Ипполитович Каратеев, — барин татарских кровей, сын офицера русской армии генерал-майора Ипполита Ивановича Каратеева. Константин Ипполитович не был венчан с Павлой Леонтьевной Вульф, когда 31 декабря 1906 года в Москве родилась их дочь Ирина, моя мать. Со своим первым мужем, Сергеем Анисимовым, Павла Вульф давно разошлась, но развод оформлен не был, и мою маму, Ирину Константиновну, при рождении записали Ириной Сергеевной.
В семье часто бывали актеры из других театров. Летом 1912 года к родителям Ирины пришла по театральным делам семья актеров Пельтцер с детьми, братом и сестрой, которые тоже участвовали в спектаклях родителей. Дети были запущенные, в цыпках, неважно одетые. В тот визит их оставили ждать в садике, не хотели вести в дом. Вскоре из дома вышла молодая няня и сказала: «К вам сейчас приведут девочку, ее зовут Ира, она с вами тоже поиграет», — и угостила их яблоками и пряниками.
И вот на крыльце появилась шестилетняя девочка — ангел, в кружевах и бантах, в белых чулочках и белых кудряшках, а в ее руках была дивная фарфоровая куколка, подаренная папой копия своей хозяйки, и тоже в кружевах и бантах. Девочка была не только красивая, но и доброжелательная — протянула им свою куколку в знак доверия и расположения. Брат маленькой Тани тут же схватил эту куколку и оторвал ей голову. Так через 70 лет, уже в 1982 году, об этом мне рассказала Татьяна Ивановна Пельтцер.
Павла Леонтьевна Вульф после рождения дочери вела трудную кочевую жизнь провинциальной актрисы. После Москвы — Одесса, Таганрог, Киев, Харьков, Иркутск — «провинциальная каторга», по словам Вульф. Здоровье ее маленькой дочери пошатнулось. Ирину спасла театральная костюмерша Павлы Леонтьевны молодая женщина из Одессы, ставшая ангелом-хранителем всей семьи, — Наталья Александровна Иванова, Тата. Она стала второй матерью Ирины, освободив Павлу Леонтьевну для сцены.
По договору, подписанному еще зимой в Иркутске, осенью 1917 года Павла Леонтьевна Вульф приехала в Ростов-на-Дону.
Четыре года назад гастроли Павлы Вульф в Таганроге изменили жизнь Фаины Фельдман: она ушла из семьи, решив стать актрисой. Малаховка, Керчь, Феодосия, Кисловодск, теперь летом — Ростов-папа.
«А в Ростове дождь идет, и на небе хмаро: отскочь, девочка — ты мене не пара»…
Фаина Раневская шла по чужим улицам Ростова за помощью к Вульф. Они еще не были знакомы. В тот день у Павлы Леонтьевны была мигрень, она никого не принимала. Но настойчивости молодой посетительницы пришлось уступить. Вошла нескладная рыжая девица со словами восторга и восхищения ее игрой.
«Я просила Вульф помочь мне устроиться в театр на выходные роли. Она предложила мне взять отрывок из пьесы „Роман“, которая в то время нравилась публике и премьершам всех театров; я видела в этом спектакле великолепную Марию Федоровну Андрееву, игравшую героиню пьесы. Павла Леонтьевна сказала, что ее не захватил сюжет пьесы и она отказалась в ней играть: роль в пьесе была очень выигрышной, но не во вкусе актрисы чеховского или ибсеновского репертуара. Я испугалась трудности роли итальянской певицы Маргариты Кавалини, говорившей с итальянским акцентом, а после того, как увидела в этой роли Андрееву, стала отказываться, но Вульф настояла на том, чтобы я выбрала одну из сцен пьесы и явилась к ней, чтобы показать мою работу».
Раневская нашла, пожалуй, единственного на весь город итальянца-булочника и стала брать у него уроки итальянской мимики и жеста. Булочнику Раневская отдавала весь дневной заработок, который получала, участвуя в массовке.
Раневская так вспоминает этот решающий день своей жизни:
«Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: „Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься“. Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей».
«Жутко, было тогда в Ростове», — вспоминала Павла Леонтьевна. Красные, белые, артобстрелы, немцы. Город переходил из рук в руки. Театр закрылся. Ее маленькая дочь Ирина серьезно заболела. Через фронт в Москву не пробраться. Решили ехать в Крым. Раневскую взяли с собой.
«Павла Леонтьевна спасла меня от улицы», — говорила Раневская.
Фаине Раневской надо было быть в этой семье рядом с Павлой Леонтьевной, впитывать ее культуру, лексику, орфоэпию — предмет педагогической гордости Павлы Вульф, ее профессионализм, стиль. Павла Леонтьевна учила ее быть актрисой, чувствовала ее талант, влюбленность Фаины в театр.
А родная дочь — она вызывала у Фаины чувство ревности и раздражения — отходила в тень, не находила тепла в своем доме. Папы, любимого Константина Ипполитовича, уже не было в живых. Была только Тата — портниха и костюмерша Павлы Леонтьевны — Наталья Александровна, няня Ирины, разрывавшаяся между ними.
Может быть, самая пронзительная семейная фотография: Ирина и Тата сидят вдвоем на траве у подножья крымских гор, Ирина надежно защищена любимой Татой от ветра, яркого солнца — два существа, не умеющие жить друг без друга. Это было время первых классов гимназии, а также голода, болезней, французского языка дома и прозвища, которым дразнили ее крымские подруги: «Москвичка — тоненькая спичка».
До меня в детстве донеслась бережная мамина интонация, когда она рассказывала о своей гимназической юности: добрый батюшка, закон божий, начальные слова молитвы: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое…» Для Ирины Наталья Александровна была дорогим воплощением этой гармонии мира в душе человека. Вся жизнь Таты с нами — с 1906 года, года маминого рождения, и до 1957-го, когда Таты не стало, — все эти 50 лет пронизаны ее любовью и заботой о нашей семье.
Ирине Вульф предстояло самостоятельно найти театр, дорогой ей с детства театральный климат, когда авторитет матери был безраздельно отдан таланту Раневской. В этом, наверное, природа отношений Фаины Раневской и Ирины Вульф.
Так началась их новая семья — почти 45-летняя жизнь Раневской рядом с Павлой Леонтьевной Вульф, неразрывная связь Фаины Георгиевны с нашей семьей, длившаяся почти 70 лет.
1918–1923
…Я не уверена в том, что все мы выжили бы…
Окаянные дни — Волошин — Спендиаров — Дебют — Много ролей — Тренёв — Ясная Поляна — Ненадолго в Москву — Две встречи
Семейная легенда о Крыме тех лет, адаптированная к моему детскому сознанию, состояла из единственного негативного рассказа: как-то ночью в дом, где жила наша семья, в комнату Павлы Леонтьевны забрался вооруженный человек. Раневская ничего не слышала, а Павла Леонтьевна, услышав рядом шаги, закричала: «Кто здесь, что вам нужно?» Неизвестный в темноте выстрелил в сторону голоса и попал в стену над кроватью, выше Павлы Леонтьевны, севшей в постели. Человек скрылся. Остался след пули. Вот и все.
«Красный Крым» — самое страшное воспоминание Фаины Георгиевны, ее кошмар, ее ад. Из-за него она не написала книгу своей жизни.
«18, 19, 20, 21 год — Крым — голод, тиф, холера, власти меняются, террор: играли в Симферополе, Евпатории, Севастополе, зимой театр не отапливался, по дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие, посреди улицы лошадь убитая, зловоние, а из магазина разграбленного пахнет духами, искали спирт, в разбитые окна видны разбитые бутылки одеколона и флаконы духов, пол залит духами. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод. В театре митинг, выступает Землячка; видела, как бежали белые, почему-то на возах и пролетках торчали среди тюков граммофон, трубы, женщины кричали, дети кричали, мальчики юнкера пели: „Ой, ой, ой мальчики, ой, ой, ой бедные, погибло все и навсегда!“ Прохожие плакали. Потом опять были красные и опять белые. Покамест не был взят Перекоп.
Бывший дворянский театр, в котором мы работали, был переименован в „Первый советский театр в Крыму“.
Я не уверена, что все мы выжили бы (а было нас четверо), если бы о нас не заботился Волошин.
Среди худущих, изголодавшихся его толстое тело потрясало граждан, а было у него, видимо, что-то вроде слоновой болезни. Я не встречала человека его знаний, его ума, какой-то нездешней доброты. Улыбка у него была какая-то виноватая, всегда хотелось ему кому-то помочь. В этом полном теле было нежнейшее сердце, добрейшая душа.
С утра он появлялся с рюкзаком за спиной. В рюкзаке находились завернутые в газету маленькие рыбешки, называвшиеся хамсой, был там и хлеб, если это месиво можно было назвать хлебом, была там и бутылочка с касторовым маслом, с трудом им раздобытым в аптеке. Рыбешки жарили на касторке, это издавало такой страшный запах, что я, от голода теряя сознание, все же бежала от этих касторовых рыбок в соседние дворы.
Однажды, когда Волошин был у нас, к ночи началась стрельба оружейная и пулеметная. Мы с Павлой Леонтьевной упросили его не уходить, остаться у нас. Уступили ему комнату; утром он принес нам стихи „Красная Пасха“. Это было в Симферополе 21 апреля 1921 года. На заплаканном лице его была написана нечеловеческая мука.
Волошин был большим поэтом, чистым, добрым человеком.
КРАСНАЯ ПАСХА
Зимою вдоль дорог валялись трупы
Людей и лошадей. И стаи псов
Въедались им в живот и рвали мясо.
Восточный ветер выл в разбитых окнах.
А по ночам стучали пулеметы,
Свистя, как бич, по мясу обнаженных
Закоченелых тел. Весна пришла
Зловещая, голодная, больная.
Из сжатых чресл рождались недоноски
Безрукие, безглазые… Не грязь,
А сукровица поползла по скатам.
Под талым снегом обнажились кости.
Подснежники мерцали точно свечи.
Фиалки пахли гнилью. Ландыш — тленьем.
Стволы дерев, обглоданных конями
Голодными, торчали непристойно,
Как ноги трупов. Листья и трава
Казались красными. А зелень злаков
Была опалена огнем и гноем.
Лицо природы искажалось гневом
И ужасом.
А души вырванных
Насильственно из жизни вились в ветре,
Носились по дорогам в пыльных вихрях,
Безумили живых могильным хмелем
Неизжитых страстей, неутоленной жизни,
Плодили мщенье, панику, заразу…
Зима в тот год была Страстной неделей,
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал.
Эти стихи мне читал Максимилиан Александрович Волошин с глазами, красными от слез и бессонной ночи, в Симферополе 21 года на Пасху у меня дома. Мы с ним и с Павлой Леонтьевной Вульф и ее семьей падали от голода, Максимилиан Александрович носил нам хлеб.
Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. — Вот почему я не хочу писать книгу „о времени и о себе“.
Ясно вам? А Волошин сделал из этого точные и гениальные вирши».
Все это тогда — рядом с нежностью, любовью и благодарностью к Лиле — так Раневская стала называть Павлу Леонтьевну.
Был успешный дебют в роли Маргариты Кавалини в «Романе», Фаина была принята в труппу «Театра актера», где играла ее Лиля и главным режиссером был Павел Анатольевич Рудин — подвижник театра, проводивший там дни и ночи.
Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория — вместе с Вульф, с ее семьей.
По отзывам современников, Павла Вульф обладала на сцене замечательным тембром голоса, ее называли «виолончелью». Под впечатлением таланта Павлы Вульф, ее сценического обаяния и мучительно-тревожных образов поэзии Александра Блока у Фаины Георгиевны возникла мелодия, превратившаяся в своеобразную пьесу-мелодекламацию.
Когда я недавно показал этот клавир Юрию Сергеевичу Саульскому, он обратил внимание на высокий профессионализм нотной записи музыкальной темы и добавил, что в те годы мелодекламация была очень модной, особенно среди интеллигенции и в артистических кругах.
Может быть, Александр Спендиаров, замечательный армянский композитор, о крымской встрече с которым в годы гражданской войны вспоминала Раневская, помог ей записать музыкальный строй на нотных листах.
«Благодарю судьбу… за дивного старика-композитора Спендиарова. Старик этот был такой восхитительный, трогательный. И вот он приехал в Крым. Ему дали мой адрес. Он постучал в дверь. Я не знала его в лицо, он сказал: „Я Спендиаров, приехал устраивать концерт, семья голодает“. — „Чем я могу вам помочь?“ Я побежала к комиссару. „Знаменитый композитор, он голодает!“ А уже подходили белые. И по городу были развешаны листовки: „Бей жидов, спасай Россию!“
Был концерт. Сидели три человека. Бесстрашные. Моя театральная учительница Вульф. Ее приятельница. И я. Он пришел после концерта и ночевал у нас. Сияющий. Счастливый. И сказал: „Я так счастлив! Какая была первая скрипка, как он играл хорошо!“
По молодости и глупости я сказала: „Но ведь сборов нет“. Он: „У меня еще есть золотые часы с цепочкой. Помогите продать, чтобы заплатить музыкантам“.
Опять побежала к комиссару. Он был озабочен. Я уже видела, что он укладывается. „Сбора не было, товарищ комиссар. Старичок уезжает ни с чем — дать бы пуд муки, пуд крупы…“ Я написала обо всем этом дочери Спендиарова, когда она собирала материал для книги об отце в серию „Жизнь замечательных людей“. Она ответила: „Все, что вы достали папе, у него в поезде украли“.»
У Раневской много ролей в евпаторийском театре: Шарлотта в «Вишневом саде», Саша в «Живом трупе», Глафира Фирсовна в «Последней жертве», Галчиха в «Без вины виноватые», Манефа в «На всякого мудреца…», сумасшедшая барыня в «Грозе», Настя «На дне», Пошлепкина — унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», сваха в «Женитьбе», многие другие.
Раневская наблюдала, смотрела, впитывала:
«Крым, гражданская война: „Эх, яблочко, куда ты котишься, на „Алмаз“ (пароход) попадешь — не воротишься! Эх, яблочко, вода кольцами, будешь рыбку кормить… в двух вариантах — „добровольцами“ или же „комсомольцами“, часто менялись власти“.»
«Откройте именем закона!» — «Именем закона ворота не открываются», — ответил хозяин; тогда ворота били прикладами.
«40 тысяч» — так мальчишки дразнили немолодую невесту с капиталом в 40 тысяч, ищущую жениха, — за ней бежали дети с криком — «40 тысяч!»
«Господа, умоляю, поставьте мне клистир!» — кричала красивая пожилая дама на улице в Севастополе во время бегства белых (не забывается и это), а красные уже подходили и вскоре вошли.
«В числе нескольких других артистов меня пригласила слушать пьесу к себе домой какая-то дама. Шатаясь от голода, в надежде на возможность выпить сладкого чая в гостях, я притащилась слушать пьесу. Странно было видеть в ту пору толстенькую круглолицую женщину, которая объявила, что после чтения пьесы будет чай с пирогом.
Пьеса оказалась в 5 актах, в ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду, — в комнате пахло печеным хлебом, это сводило с ума. Я люто ненавидела авторшу, которая очень подробно, с длинными ремарками описывала времяпрепровождение Христа от младенчества до его гибели. Толстая авторша во время чтения рыдала и пила валерьянку — а мы все, не дожидаясь конца чтения просили сделать перерыв в надежде, что в перерыве угостят пирогом. Не дослушав пьесу, мы рванули туда, где пахло печеным. Дама провожала нас, рыдая и сморкаясь и во время чаепития. Это впоследствии дало мне повод сыграть рыдающую Мурашкину в инсценировке рассказа Чехова „Драма“.
Пирог оказался с морковью, это самая неподходящая начинка для пирога, было обидно. Хотелось плакать!..»
«Дама в Москве: по-французски из далёкого детства запомнила 10 фраз и произносила их грассируя, в нос и с шиком!»
«Дама в Таганроге: „Меня обидел Габриель Д'Аннунцио — совершенно неправильно описывает поцелуй“.»
«Старуха еврейка ласкает маленькую внучку: „Красавица, святая угодница, крупчатка первый сорт!“»
«В Крыму, когда менялись власти почти ежедневно, с мешком на плечах появился знакомый член Государственной думы Радаков. Сказал, что продал имение и что деньги в мешке, но они уже не годны ни на что кроме как на растопку».
«Театр в Крыму. Жили в монастырской келье, дом-монастырь вскоре опустел — вымер от тифа, голода, холеры».
Раневская рассказывала мне, что в молодости в Крыму участвовала в съемках какого-то немого фильма, где нужно было срочно набрать выразительных типажей для массовки. Снималась сцена роскошного обеда из прошлой жизни у генерал-губернатора. Один из статистов, облаченный в придворный мундир с лентой через плечо, обращаясь за стоном к соседней даме, с великолепным одесским местечковым акцентом, любовно переданным Раневской, спросил по собственной инициативе, изображая непринужденную беседу: «Графиня, ви уже ели селёдка?», и потом добавлял: «Когда передают селёдка, смотрят в глаза!»
Во второй сцене, на великосветском балу, этот же аристократ, подойдя к даме, пригласил ее — Раневская показала, встав и согнув руку в локте, — произнося новый экспромт на том же диалекте: «Графиня, пройдемте скрозь залу!»
«Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова Прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: „Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…“ После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены».
«Белую лисицу, ставшую грязной, я самостоятельно выкрасила в чернилах. Высушив, решила украсить ею туалет, набросив лису на шею. Платье на мне было розовое с претензией на элегантность. Когда я начала кокетливо беседовать с партнером в комедии „Глухонемой“ (партнером моим был актер Ечменев), он, увидев черную шею, чуть не потерял сознание. Лисица на мне непрестанно линяла. Публика веселилась при виде моей черной шеи, а с премьершей театра, сидевшей в ложе, моим педагогом, случилось нечто вроде истерики… (это была П. Л. Вульф). И это был второй повод для меня уйти со сцены».
«…Спектакль-утренник для детей. Название пьесы забыла. Помню только, что героем пьесы был сам Колумб, которого изображал председатель месткома актер Васяткин. Я же изображала девицу, которую похищали пираты. В то время, как они тащили меня на руках, я зацепилась за гвоздь на декорации, изображавшей морские волны. На этом гвозде повис мой парик с длинными косами.
Косы поплыли по волнам. Я начала неистово хохотать, а мои похитители, увидев повисший на гвозде парик, уронили меня на пол. Несмотря на боль от ушиба, я продолжала хохотать. А потом услышала гневный голос Колумба — председателя месткома: „Штрафа захотели, мерзавцы?“ Похитители, испугавшись штрафа, свирепо уволокли меня за кулисы, где я горько плакала, испытав чувство стыда перед зрителями. Помню, что на доске приказов и объявлений мне висел выговор с предупреждением».
«Приглашение на свидание: „Артистке в зеленой кофточке“, указание места свидания и угроза: „Попробуй только не прийтить“. Подпись. Печать. Сожалею, что не сохранила документа — не так много я получала приглашений на свидание».
«Совсем молодой играла Сашу в „Живом трупе“, а потом Машу, но точно какую играла раньше — не помню.
Смущало меня то, что Саша говорит Феде Протасову: „Я восхищаюсь перед тобой“. Это „перед тобой“ мне даже было трудно произносить, почему „перед“, а не просто „тобой“ — только теперь, через 50 лет, вспоминая это, поняла, что Толстой не мог сказать иначе от лица светской барышни и что „я восхищаюсь тобой“ было бы тривиально от лица Толстого.
Федю играл актер грубой души, неумный, злой человек, к скорости он попал в Малый театр и там он был своим, мы же в нашей провинции звали его Малюта Скуратов — Скуратов была его фамилия или псевдоним. Он всегда на кого-то сердился и кричал „бить палкой по голове“, а после того, как сыграл Павла Первого, уже кричал „шпицрутенов ему“. Это относилось к парикмахеру, портному, бутафору и прочим нашим товарищам, техническому персоналу».
«Мне повезло, я знала дорогого моему сердцу добрейшего Константина Андреевича Тренёва. Горжусь тем, что он относился ко мне дружески. В те далекие двадцатые годы он принес первую свою пьесу артистке Павле Леонтьевне Вульф, игравшей в местном театре в Симферополе. Артистке талантливейшей. Константин Андреевич смущался и всячески убеждал актрису в том, что пьеса его слабая и недостойная ее таланта. Такое необычное поведение автора меня пленило и очень позабавило. Он еще долго продолжал неодобрительно отзываться о своей пьесе, назвав ее „Грешница“. Дальнейшей судьбы пьесы — не помню».
Летом 1920 года, когда фронт был еще проницаем, Раменская совершила паломничество в Ясную Поляну — в усадьбу и к могиле Льва Николаевича Толстого. Прошло уже десять лет со дня его кончины, Софьи Андреевны уже не было, но в Ясной Поляне сохранился стиль их семьи. По яснополянскому дому Раневскую водил уцелевший дворецкий Толстого, величественно показал ночное ведро — Толстой сам спускался с ним по лестнице, не разрешал прислуге, а в ванной был показан зеленый вегетарианский обмылок, которым пользовался сам граф, пальмовое мыло, привозимое ему из Италии Чертковым. Раневская попросила робко: «Можно мне немножко помылиться?»
На обратном пути из Ясной Поляны — в дорожной гостинице — Раневской приснился сон: Толстой входит в комнату, садится рядом. «Проснулась и почувствовала жар. У меня началась лихорадка имени Толстого».
Летом 1923 года. У Раневской болезнь нервов — начался страх сцены, страх улицы.
Дочь Павлы Леонтьевны Ирина экстерном закончила гимназию с золотой медалью. Жизнь в родной семье казалась естественной, единственно возможной. Это ее связь, ее «пуповина». Ирина любила мать, подарила ей свое фото с надписью: «Моей любименькой родной мамочке дарю свою, приукрашенную фотографом физиономию. Сохрани ее и, изредка посматривая, думай: „Вот какая бы у меня могла быть дочка!“».
Ирина любила свою Тату и их уже общий с Раневской дом.
Они поехали в Казань из Крыма через Москву — все вместе в театр на зимний сезон 1923/24 года. Голод кончился — нэп, нужны деньги. Казань, провинция.
Ирина Вульф поступила на юридический факультет Казанского университета. Все как будто естественно: студентка, занятия, подготовка дома к юридическим семинарам, учиться легко, но она — в университете, а вся семья — в театре. Все в доме насыщено сценой, все помыслы мамы с театром, с Фаиной, с актерами — горячие споры, репетиции, студия, которую вела Павла Леонтьевна. Любимая Тата тоже в театре — с Павлой Леонтьевной, с костюмами. Жизнь проходит стороной, она не нужна, домашний ребенок, девочка, безумно одинокая после своей крымской дистрофии, ее юридический — чужой им. Чужой им или и ей — обожающей театр с детства, мучительно влюбленной в свою мать — тоже? Если Ирина станет актрисой, может быть, вернутся золотые дни детства: она станет нужной, незаменимой своей маме — блистательной Павле Вульф? Ведь ей 17 лет, она любит театр, что же она делает в Казани? Зачем это юридическое испытание? Зачем эта безысходная ревность к Фаине?
Из Москвы — слухи о «перестройке», о новом театре, о спектаклях МХАТа…
Весной 1924 года Ирина Вульф, закончив первый курс Казанского университета, уехала в Москву в отчаянной решимости найти свою жизнь, свой театр, свой святой дом. Уехала поступать в театральную школу-студию МХАТа, к Станиславскому.
Конкурс огромный. Записавшихся было около 1000 человек, допущенных — 60. Конкурс проводил сам Станиславский.
Прошел экзамен. На первый курс была принята группа в 6 человек. Среди них — Нора Полонская, Нина Ольшевская, Ирина Вульф. Начались занятия. Часто во время уроков вдруг появлялся Станиславский, тихонько садился в углу и смотрел. Он сидел, а студийцы с громко стучащим сердцем продолжали упражнения и вдруг замечали, что он не смотрит на них, а с темпераментом делает вместе с ними лицевую гимнастику или упражнение на освобождение мышц…
С тех пор запомнились ей слова Станиславского: «Это вообще свойство малоспособных и малоразвитых художественных натур — всюду видеть преследование и интриги, а на самом деле не иметь в себе достаточно развитых сил прекрасного, чтобы повсюду различать и вбирать его в себя».
Мне повезло: я застал самых близких друзей моей мамы — Нину Антоновну Ольшевскую и Веронику Витольдовну Полонскую.
О каждой из них — красивых, чем-то загадочных женщинах, непереносимо очаровательных — нужно было бы написать отдельно. Они составили эпоху ушедшей атмосферы преклонения перед красотой, гармонии внутреннего мира и хрупкости внешнего облика.
Они были богаче любых воспоминаний — обожавшие друг друга, ссорившиеся из-за студии и из-за клубники, влюблявшиеся и ненавидевшие 20-летние подруги, не расстававшиеся всю жизнь.
Нежность ласкового имени Норочки Полонской навсегда связана с рассказами моей мамы о неповторимой легкости ее характера, о ее покоряющем женском очаровании. На старом фото она в матроске со своим отцом, известным актером немого кино Витольдом Полонским. 1914 год, ей 9 лет. Отец умер в 1919 году, в ее детстве; это ее любимая фотография на всю жизнь, они только что снялись вместе в фильме «Когда цветет сирень».
Да, действительно — Сирень…
Тогда во МХАТе от нее потерял голову театральный пожарный. Полонская регулярно получала его подарки — огромные коробки роскошных шоколадных конфет. Норочка поделилась своей тайной и сладостями с подругами; пожарный смущал ее своей амуницией и манерами. Как быть? Алчные подруги узнали, что укротитель огня в свободные от МХАТа дни подрабатывает на кондитерской фабрике. После этого они стали настаивать, чтобы Норочка продолжала пожарное знакомство, расхваливали шоколадника как могли, пока этот рог изобилия не иссяк сам собой.
Норочка внешне не была сентиментальна, она была доброжелательна. Ее голова, ее прическа бывала белокурой, каштанового, сиреневого, иногда седого оттенка — цвет менялся постоянно, но привлекательность только усиливалась. «Теперь попробую быть такой», — улыбалась Норочка. С ней хотелось быть — в этом ее какой-то непознаваемый секрет.
Однажды, рассказывала мама, они наложили на свои лица такие краски на занятиях по гриму, что Станиславский остановил студийный просмотр. «Грубо, ярко, неорганично», — слушали Нора и Нина разнос Станиславского, а Ирина, еще не выходившая на сцену, в ужасе бросилась в гримерную и все стерла; щеки горели, сердце билось. «Вульф, на сцену, продолжаем!» — услышала она, не успев загримироваться. Выбежала как есть. Секунды тишины, а потом негромкое покашливание Станиславского и его одобрительное: «Вот так, хорошо — все смотрите, как надо: легко. Проще, легче, веселее».
Краски ее молодости оказались выразительнее любого тона и грима.
Однажды поутру Ирина почувствовала, что они рассеянны, не готовы к занятиям. И предложила провести серию этюдов, импровизаций перед студией. Было раннее утро, холодно, темновато, хотелось спать. Нина и Норочка по дороге в студию заметили в витрине кондитерской забавных обледеневших зайцев из марципана, с этим и пришли. Когда Ирина приготовилась начать этюд, обе ее очаровательные подруги, приложив руки к ушам, присели по-заячьи и заскулили: «Мы марципановые зайчики, нам холодно, мы не хотим заниматься!» И Ирина… заплакала.
В эту зиму в Казани Павла Леонтьевна, Фаина Георгиевна и Тата читали письма Ирины из Москвы, газеты и театральные журналы: в Москве, в столичных театрах — новые спектакли, знаменитые и еще неизвестные имена. Не закончив сезона, в конце 1924 года они втроем поехали в Москву.
Раневская вспоминала: «Я была тогда молодой провинциальной актрисой, которой судьба подарила Москву и пору буйного расцвета театров. В то время я перенесла помешательство на театрах Мейерхольда, Таирова, Михоэлса, Вахтангова… Из всех театров на особом месте у меня стоял МХАТ, его спектакли смотрела по нескольку раз. Однако причиной тому стало одно непредвиденное обстоятельство: я влюбилась в Качалова, влюбилась на тяжкую муку себе, ибо в него влюблены были все, и не только женщины.
Однажды я расхрабрилась и… написала ему письмо: „Пишет Вам та, которая в Столешниковом переулке однажды, услышав Ваш голос, упала в обморок. Я уже актриса — начинающая. Приехала в Москву с единственной целью попасть в театр, когда Вы будете играть. Другой цели в жизни у меня теперь нет и не будет“. Письмо помню наизусть. Сочиняла его несколько дней и ночей. Ответ пришел очень скоро. „Дорогая Фаина, пожалуйста, обратитесь к администратору Ф. Н. Мехальскому, у которого на Ваше имя будут 2 билета. Ваш В. Качалов“. С этого вечера и до конца жизни этого изумительного артиста и неповторимой прелести человека длилась наша дружба, которой очень горжусь».
МХАТ… Обожание Станиславского для Фаины Раневской было способом ее существования. Это была традиция ее новой семьи. Впервые с письмом к Станиславскому и Немировичу-Данченко свою молоденькую ученицу «Вульфочку» отправил в Москву великий актер и педагог Владимир Николаевич Давыдов. Правда, Вульф тогда идти во МХАТ отказалась — хотела играть главные роли, а тут вспомогательный состав, студия. К тому же Станиславский при встрече на лестнице назвал ее Верой Федоровной; спустившись ниже, извинился: «Вы так похожи на Комиссаржевскую».
Вторая встреча Павлы Вульф со Станиславским состоялась через несколько лет. За это время ее увидел на сцене в Нижнем Новгороде Максим Горький и много говорил о ней Станиславскому. И опять — рок какой-то — Павла Леонтьевна отказалась от приглашения Константина Сергеевича на роль Сони в «Дяде Ване» — не могла нарушить слово, уже данное ею антрепренеру Незлобину.
Две встречи были с основателями МХАТа и у Раневской.
Об одной встрече со Станиславским в 1916 году она будет говорить всю жизнь — помните: «Мальчик мой дорогой!..» Вторая встреча, позже, была не со Станиславским, а с Немировичем-Данченко. Ее устроил Качалов. Волнуясь, вошла она в кабинет Немировича. Пригласив ее сесть, Владимир Иванович начал беседу — он еще не видел Раневскую на сцене, но о ней хорошо говорят. Надо подумать — не войти ли ей в труппу МХАТа. Раневская вскочила, волнуясь, стала кланяться, благодарить и… забыла имя и отчество мэтра: «Я так тронута, дорогой Василий Степанович!» — холодея произнесла она. «Он как-то странно посмотрел на меня, — рассказывала Раневская, — и я выбежала из кабинета, не простившись». Рассказала в слезах все Качалову. Он растерялся — но опять пошел к Немировичу с просьбой принять Раневскую вторично. «Нет, Василий Иванович, — сказал Немирович, — и не просите; она, извините, ненормальная. Я ее боюсь».
Так Павла Вульф и Фаина Раневская не попали во МХАТ.
1925–1931
Провинция — кладбище моих ролей. Лучшие роли я сыграла в провинции… Публика была ко мне добра…
Две семьи — Вольф Мессинг — Юрий Завадский — МОНО — Святогорск — Баку — Маяковский — Смоленск и Гомель — Тренёв — Архангельск и Сталинград — Пясецкий и Савченко — Снова Баку
Они были теперь опять вместе — все в Москве. Но это были уже совершенно непохожие две семьи: одна — мхатовской студентки Ирины Вульф и другая — Павлы Леонтьевны, Фаины и Таты.
По рассказам мамы могу себе представить после голодного Крыма ее впечатление от Москвы в разгар нэпа, как они втроем — Ирина Вульф, Нина Ольшевская и Норочка Полонская — ходили по бесчисленным кафе в центре Москвы. Все было дорого, но их кавалеры распускали хвосты, доказывая, что нет ничего невозможного. На подаренном маме фотографическом портрете тех лет — молодой Павел Массальский с роковым взглядом и такой же надписью: «…от „безумца-мужчины“. В открывшихся пивных барах — раки, моченый горошек, о котором мама потом рассказывала с ностальгическим вожделением, и пиво — с тех пор, наверное, она совершенно не боялась посещать подвальчики.
Иногда вечерами они собирались у Ардовых, сидели допоздна или до утра. Приходили друзья. Мама рассказывала мне, что один раз пришел молодой Вольф Мессинг. Он был сутул и некрасив. Решили проверить его искусство. Мессинг вышел из гостиной, а оставшиеся, спрятав ложку за валик дивана, пригласили его. Он взял Ирину Вульф за руку — ему необходим был такой посредник-медиум — и, сжав ее запястье, быстро пошел к цели, моментально обнаружив ложку. Решили опыт повторить. Когда Мессинг вышел, вначале опять спрятали ложку в шкатулке на столе. Но этого показалось мало. Кто-то предложил заложить конверт в одну из книг. Согласились. Ложку уволили, а конверт положили между страниц в книгу, поставив ее на верхнюю полку. Мессинг вошел и долго водил Вульф вокруг стола, приближаясь и отступая от шкатулки. Потом резко поволок медиума к книжной полке, нашел книгу и извлек конверт. — Мне что-то мешало, вы поменяли условия», — сказал он потрясенным гостям.
Но Ирине Вульф роль медиума не прошла даром. Мессинг пригласил ее на свидание в кафе — напротив телеграфа, где сейчас зеркальный «Макдоналдс». Она твердо решила не ходить: он ей не нравился. На тот же час были назначены занятия в мхатовской студии. Но чем ближе был час свидания, тем чаще она смотрела на часы. Пришло время, и Вульф помчалась к телеграфу. Мессинг ждал ее, скачал, что хочет, чтобы она стала его женой: он может для того использовать свой «дар», как он это называл, но хочет, чтобы Вульф пошла на это добровольно, что он не будет на нее действовать. Мессинг предложил дать ответ в следующий раз, удобный им обоим. Они попрощались. Ирина Вульф была в панике, это было ужасно. Но Судьба распорядилась иначе: Мессинг надолго уехал, его «дар» Вульф не ощущала — очевидно, на большом расстоянии он слабел, не действовал. «Больше это не повторялось», — вспоминала мама.
Жизнь была замечательна и могла унести ее в неизвестном направлении. Мама рассказывала, что актер МХАТа и вахтанговской студии Юрий Завадский ей долго не нравился, но ухаживал очень настойчиво, а главное — очень красиво: бесконечные цветы, коробки конфет с его изображением в роли Калафа в недавно состоявшейся «Принцессе Турандот»; туалетная вода с тем же изображением. Надо было решаться. «Безумцы» пугали хаосом, а тут — молодой принц Калаф-Завадский, олицетворение программы студии и Художественного театра Станиславского. Призрачный мир графики, ностальгическая мелодия Турандот, разлетевшиеся по России открытки его Калафа, клише демонических старцев на экслибрисах и символика расцветающего модерна Москвы — все это казалось необходимым, почти генетическим импульсом эстетики Завадского. Ирина Вульф решилась.
Мама редко останавливалась на житейских подробностях своей 10-летней жизни с Завадским. Я узнал из книг, что это мама перевела Юрия Александровича в категорию «лысых», обрезав как-то у спящего Завадского его прическу «внутренний заём».
Это было, наверное, в 1925–1926 годах на Украине, где в отпуске актеры — Завадский, Вульф, Комиссаров, Марков, Морес, Кедров, Титова — снимали комнаты на хуторе Канев в белоснежных мазанках. Юрий Александрович, по словам мамы, любил днем на отдыхе полежать в тени, тщательно отобрав для чтения несколько книг. Взяв одну из них, он моментально засыпал. Это повторялось многократно. Вероятно, тут и была совершена Ириной Вульф эта отчаянная парикмахерская операция.
Вернувшись в Москву, они купили на Сухаревском рынке, рядом с их квартирой в Уланском переулке, кресла в честь Ильфа и Петрова… Это были старые кресла красного дерева ручной работы, сделанные в XIX веке, в пушкинское время. Четыре и одно, пятое, — немножко другое. На Сухаревке были куплены очень дешево еще три предмета: павловский секретер, банкетка и замечательный туалетный стол-комод с витринкой для украшений.
Туалетный стол-комод — мама называла его «туалет» — после войны был продан, а кресла, банкетка и секретер путешествовали с мамой всю ее жизнь. Многое изменилось, но и после войны Юрий Александрович приходил 1 января на наш семейный обед в честь маминого дня рождения и Нового года, собирались друзья, все сидели на этих креслах, а на том, пятом, которое немножко другое, всегда сидел Завадский.
В 1925 году Павла Вульф с Фаиной Раневской поступили в передвижной Театр московского отдела народного образования — МОНО. Какой это был театр? Павла Леонтьевна вспоминает: «Несмотря на довольно сильную труппу, работа шла вяло, неинтересно, со всеми пороками провинциального театра, неряшливыми постановками, постоянными заменами, беспрерывная смена руководства вносила беспорядок, ненужную суматоху, репертуар был пестрый, случайный. Все это привело к тому, что театр, просуществовав один зимний сезон, закрылся. Труппа распалась…»
В театре МОНО они работали вместе с замечательным режиссером Павлом Рудиным, у которого Раневская дебютировала в 1921 году в Симферополе в роли Маргариты Кавалини. Теперь Вульф и Раневская с частью труппы театра МОНО во главе с их любимым Рудиным получили приглашение работать летом 1925 года в Святогорске, в театре при санатории донбасских шахтеров. В своей книге «В старом и новом театре» Павла Вульф вспоминала: «Когда приехали первые отдыхающие, театр еще строился. Мы репетировали под стук молотков… Заходили шахтеры, просили торопиться с открытием, так как время их пребывания в санатории всего 29 дней».
Я бы так и не узнал, где этот «Святогорск для шахтеров», которого нет на картах, если бы не наша Тата. В профсоюзной книжке ВСЕРАБИСа Натальи Александровны Ивановой, сохраненной в нашей семье до сегодняшнего дня, есть запись: «27.VI-25 г. Артёмовск».
Святогорск в 20-х годах, естественно, был переименован и стал Артёмовском.
Святогорск… Может быть, для Раневской он был таким же чудесным, теплым, радостным летом ее театральной молодости, такой же сбывшейся мечтой, какой он остался в памяти ее Лили — Павлы Вульф:
«Это были чудесные минуты моей жизни, и я чувствовала, что недаром живу на свете. Никогда не забыть некоторых волнующих моментов нашей жизни и работы в Святогорске. Целые снопы васильков, громадные букеты полевых цветов получали мы, актеры, от нашего чуткого и неискушенного зрителя».
Потом, вместе с Лилей, — Бакинский рабочий театр, где после Святогорска Раневская начала работать с октября 1925 года.
«Я работала в БРТ в двадцатые годы… Играла много и, кажется, успешно. Театр в Баку любила, как и город. Публика была ко мне добра».
Баку — притягивал Раневскую. В нем была древность, узкие улочки и старые башни: история, которую она любила всегда:
«„Нарды“ — древняя игра на улицах старого города; дикий ветер норд, наклонивший все деревья в одну сторону; многочисленные старожилы-созерцатели на переносных скамеечках, ожидавшие на ветру конфуза проходивших женщин в завернутых нордом нарядах».
Нефть — непонятная сила, отдалившая от Раневской ее отца, — собрала здесь в непрерывный ансамбль кварталы частных жилых домов «небогатых нефтепромышленников», по ее выражению, а внутри — за богатыми парадными — небывалая роскошь апартаментов прошлого века и интимные покои — на женской половине украшенные лепниной, венецианскими зеркалами, невиданными ярусными зеркальными сотами и парчой, затянувшей стены и потолки спален. И — тепло, как в Таганроге. И бухта, вокруг которой парки и весь Баку, медленно поднимающийся вверх.
У Раневской в Бакинском рабочем театре была вторая встреча с Маяковским:
«В Баку в 25-м году я увидела его в театре, где играла в то время. Он сидел один в одной актерской гримерной, в театре был вечер, его вечер, сидел он задумавшись, я вошла и увидела такую печаль у него в глазах, которая бывает у бездомных собак, у брошенных хозяевами собак, такие были его глаза. Я растерялась, сказала — мы познакомились у Шоров; он ответил, что был там один раз. Актриса под дверью пропищала „нигде кроме, как в Моссельпроме“. Он сказал: „Это мои стихи“. Актриса хихикала за дверью. Хихикали все. Его травили весь вечер, а он с папиросой, прилипшей к губе, говорил гениальные дерзости. Был он умнейшим из людей моего времени. Умней и талантливей в то время никого не было. Глаза его, тоски в глазах не забуду — пока живу».
На той же странице у Раневской записано:
«Горький говорил: „Талант — это вера в себя“, а по-моему, талант — это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой и своими недостатками, чего я никогда не встречала у посредственности».
После Баку — два зимних сезона, 1926 и 1927 годов, они с Павлой Вульф работали в Гомеле и Смоленске, где в пьесе Константина Тренёва «Любовь Яровая» Вульф играла Любовь Яровую, а Раневская сыграла свою знаменитую Дуньку.
После роли Любови Яровой Павла Леонтьевна Вульф получила звание заслуженной артистки РСФСР, а Раневская, вернувшись из Смоленска, встретилась в Москве с Тренёвым и показала ему куски своей роли, усилив авторский текст южным говором и словечками «от себя». Константин Андреевич, как пишет П. Л. Вульф, начал хохотать: «Нет, это чудесно — молодец! Я непременно внесу в пьесу, непременно».
Затем еще два года «провинциальной каторги» — в Архангельске и Сталинграде, где она стала сочинять для себя роли. Раневская так вспоминала об этом:
«Первый толчок к тому, чтобы написать себе роль, дал мне Б. Ив. Пясецкий — очень хороший актер, милый, добрейший человек. Он попросил меня сыграть в пьесе, которую он ставил, когда я работала в руководимом им театре в Сталинграде, — и тут же уведомил меня, что роли никакой нет — название пьесы я позабыла, — их было множество, похожих одна на другую. „Но ведь роли-то нет для меня, что же я буду играть?“ — „А это не важно, мне надо, чтоб вы играли. Сыграйте, пожалуйста“. Ознакомившись с пьесой, я нашла место, куда без ущерба для пьесы я могла вклиниться в подходящую ситуацию. Бывшая барыня, ненавидящая советскую власть, делает на продажу пирожки. Мне показалось возможным приходить к этой барыне подкормиться и, чтобы расположить ее к себе, приносить ей самые свежие новости, вроде такой: „По городу летает аэроплан, в аэроплане сидят большевики и кидают сверху записки, в записках сказано: „Помогите, не знаем, что надо делать““. Барыня сияла, зрители хохотали. А моя импровизированная гостья получала в награду пирожок. Когда же барыня вышла из комнаты, я придумала украсть будильник, спрятав его под пальто. Прощаясь с возвратившейся в комнату барыней, я услышала, как во мне неожиданно зазвонил будильник. Я сделала попытку заглушить звон будильника громким рассказом, в котором сообщала еще более интересные новости, я кричала как можно громче, на высоких нотах будильник меня заглушал, продолжал звонить, тогда я вынула его из-за пазухи и положила на то место, откуда его брала, и заплакала, долго плакала, стоя спиной к публике; зрители хлопали, я молча медленно уходила. Мне было очень дорого то, что во время звона будильника, моей растерянности и отчаянья зрители не смеялись. Добряк Пясецкий очень похвалил меня за выполнение замысла. В дальнейшем я бывала частым соавтором и режиссером многих моих ролей в современных пьесах — так было с „Законом чести“, где с согласия Александра Штейна дописала свою роль, так было со „Штормом“ Билль-Белоцерковского и с множеством ролей в кино».
В 1930–1931 году снова еще два сезона в Баку вместе с Вульф. Павла Леонтьевна была приглашена на педагогическую работу в Театр рабочей молодежи — ТРАМ. Художественным руководителем и главным режиссером там был талантливейший человек — Игорь Савченко.
Раневская вспоминала о нем:
«Игоря Андреевича Савченко я крепко и нежно любила… Спектакли в ТРАМе восхищали ослепительной его талантливостью и неистощимой выдумкой. Спектакли его были необычны, вне влияний прославленных новаторов. Молодой Савченко был самобытен и неповторим. В Баку мы видались с ним часто. Все, что он говорил о нашем деле, театре, было всегда ново, значительно и очень умно. Была в нем и та человеческая прелесть, которая влюбляет в себя с первого взгляда. В Москве он попросил меня сниматься в фильме „Дума про казака Голоту“, при этом добавил, что в сценарии роли для меня нет, но он попытается попа обратить в попадью. На это я согласилась, и мы приступили к работе».
Раневская еще расскажет о работе с Игорем Савченко, когда будет вспоминать о том, как она попала на экран… А когда мы беседовали с Фаиной Георгиевной в 60–70-х годах, стоило мне упомянуть ее «Думу про казака Голоту», как она замолкала, на ее лице появлялась мимолетная тень нежности и грусти, и потом она говорила куда-то далеко, в сторону: «О, этот Савченко, он был замечательный…»
1931–1933
Вот если бы Таиров закричал мне тогда: «Не верю!» — я бы покинула сцену навсегда.
Снова Коонен — Все спектакли Камерного — Письмо Таирову — Дебют в Москве
Раневская была знакома с Коонен давно — еще в своей юности, в 1910 году. Помните — жаркие летние дни в Евпатории, прогулки с семьей доктора Андреева и Алисой Коонен к морю. Коонен была тогда актрисой МХАТа.
«Мне однажды сказала Павла Леонтьевна, — вспоминала Раневская, — что не видала актрисы, которая так гениально молчала. Она видела Коонен в каком-то спектакле во МХАТе, где Алиса сидела на окне (или смотрела в окно) и молчала; но такой силы, очевидно, был ее внутренний монолог, что он звучал как слова, полные горечи, боли. Сейчас актеры не умеют молчать, а кстати, и говорить!
Я давно была страстной ее поклонницей, и она дружески ко мне относилась и сказала, что я все философствую, а она живет не философствуя и потому счастлива…
Алиса говорила мне много того, чего нет в ее интересной книге: „Подумайте, как мне было трудно любить Федю Протасова — Москвина, я прижимаюсь к нему, обнимаю, а он в корсете, я в ужасе, а надо любить, любить, а я в ужасе“.»
«Союз Александра Яковлевича Таирова и Алисы Георгиевны Коонен — изумительный и счастливый», — так пишет Верико Анджапаридзе, давний друг Раневской, вспоминая спектакли «Фамира Кифаред», «Жирофле Жирофля», «Федра» и «Мадам Бовари». Изумительный, счастливый и трагический…
Алиса Коонен вспоминала: «Мое внимание еще раньше привлекал один особняк с красивой дверью черного дерева. Дом казался пустынным и таинственным. По вечерам в окнах не было света. Таиров, оглядев особняк, согласился, что в нем „что-то есть“. И, подойдя к двери, решительно позвонил… Таиров долго не возвращался. Наконец черная дверь отворилась. Мы уселись на скамейку, и он начал рассказывать. Таинственный особняк принадлежал трем братьям Паршиным. „Четыре зала, идущие анфиладой, не годятся, чтобы сделать театр… Ломать их грешно. Но есть возможность пристроить к ним небольшой зрительный зал и сцену. Само здание просто создано для театра“, — восхищался Таиров, описывая белые мраморные стены и замечательную живопись на потолках».
В мае 1914 года Таиров решается на реконструкцию особняка по Тверскому бульвару и строительство небольшого зрительного зала и сцены театра рядом с церковью Иоанна Богослова в переулке того же имени. Анфиладу особняка Таиров превращает в парадные залы фойе, а позади возникает небольшой уютный «камерный» зрительный зал с балконом. В глубине строения по Большой Бронной улице — квартира Таирова и Коонен.
12 декабря 1914 года состоялось открытие.
«Мне посчастливилось быть на спектакле „Сакунтала“, которым открывался Камерный театр. Я была на генеральной, — вспоминала Раневская. — Это было зрелище изумительное, весь спектакль. Роль Сакунталы исполняла пленительная, вдохновенная Алиса Коонен. Я любила ее во всех ролях. Больше всего я ее помню в спектакле „Машиналь“.
С тех пор, приезжая в Москву (я в то время была провинциальной актрисой), неизменно преданная Камерному театру, я пересмотрела почти все его спектакли. Все это было празднично, необычно, все восхищало, и мне захотелось работать с таким мастером, в таком особом театре. Я отважилась об этом написать Александру Яковлевичу, впрочем, не надеясь на успех моей просьбы.
Он ответил мне любезным письмом, сожалея о том, что в предстоящем репертуаре для меня нет работы. А через некоторое время он предложил мне дебют в пьесе украинского драматурга Кулиша „Патетическая соната“. В спектакле должна была играть Алиса Коонен — это налагало особую ответственность и очень меня пугало.
Дебют в Москве! Как это радостно и как страшно! Я боялась взыскательных столичных зрителей, боялась того, что роль мне может не удаться.
В то время Камерный театр только что возвратился из триумфальной поездки по городам Европы и Латинской Америки, и я ощущала себя убогой провинциалкой среди моих новых товарищей. А когда появились конструкции и мне пришлось репетировать на большой высоте, почти у колосников, я чуть не потеряла дар речи, так как страдаю боязнью высоты. Я была растеряна, подавлена необходимостью весь спектакль „быть на высоте“. Репетировала плохо, не верила себе, от волнения заикалась. Мне думалось, что партнеры мои недоумевают: к чему было Таирову приглашать из провинции такую беспомощную, бесталанную актрису?
Александр Яковлевич, внимательно следивший за мной, почувствовал мое отчаяние и решил прибегнуть к особому педагогическому приему: стоя у рампы, он кричал мне: „Молодец! Молодец, Раневская! Так… Так… Хорошо! Правильно! Умница!“ И, обращаясь к моим партнерам на сцене и сидевшим в зале актерам, сказал: „Смотрите, как она умеет работать! Как нашла в роли то, что нужно. Молодец, Раневская!“
А я тогда еще ничего не нашла, но эти слова Таирова помогли мне преодолеть чувство неуверенности в себе. Вот если бы Таиров закричал мне тогда: „Не верю!“ — я бы покинула сцену навсегда.
В день премьеры, прошедшей с большим успехом, я не смогла (просто не решилась — было страшно) спуститься на поклоны с моей верхотуры и кланялась, стоя наверху, под колосниками. Когда занавес закрылся и аплодисменты стихли, я увидела, что Александр Яковлевич, запыхавшись, быстро, хотя и с трудом, поднимается по узкой, шаткой лестнице ко мне. Взволнованный, он обнял и поздравил меня.
Вспоминая Таирова, мне хотелось сказать о том, что Александр Яковлевич был не только большим художником, что хорошо известно и у нас, и за рубежом, но еще и человеком большого доброго сердца. Чувство благодарности за его желание мне помочь я пронесла через всю жизнь.
Помнится мне еще одна встреча с ним. Это было уже в другое время — трудное время войны. Я тогда работала в другом театре, но с Александром Яковлевичем и Алисой Георгиевной дружила крепко и часто бывала у них. Однажды, провожая меня через коридор верхнего этажа мимо артистических уборных, Александр Яковлевич вдруг остановился и, взяв меня за руку, сказал с горькой усмешкой: „Знаете, дорогая, похоже, что театр кончился: в театре пахнет борщом.“».
В 1949 году Камерный театр закрыли по доносу завистливых коллег — как «непролетарский», за «эстетство и формализм».
Фаина Георгиевна рассказывала об ужасе в глазах великого режиссера, когда он прибегал к ней и растерянно спрашивал: «Везде висят мои афиши, расклеены по всему Тверскому бульвару, разве театр закрыт?!» Да, театр был закрыт, это свело Таирова с ума.
А у Фаины Георгиевны началась бессонница, она вспоминала глаза Таирова и плакала по ночам. Потом обратилась к психиатру. Мрачная усатая армянка устроила Раневской допрос с целью выяснить характер ее болезни. Фаина Георгиевна изображала, как армянка с акцентом спрашивала ее: «На что жалуешься?» — «Не сплю ночью, плачу». — «Так, значит, плачешь?» — «Да». — «Сношений был?» — внезапный взгляд армянки впивался в Раневскую. — «Что вы, что вы!» — «Так. Не спишь. Плачешь. Любил друга. Сношений не был. Диагноз: психопатка!» — безапелляционно заключила врач.
«…Вскоре после закрытия театра Алиса сказала: „Фаина, если бы был жив Станиславский, неужели я бы осталась без театра?“ Она сдерживала слезы, говоря это. Я умоляла Завадского пригласить Алису, он решительно отказал. Таиров был уже смертельно болен… После кончины обезумевшего от горя Таирова Алиса попросила меня пойти с ней в суд, где бы я свидетельствовала, что они были долгие годы вместе, что это было супружество; эта формальность была необходима для ввода Алисы в права наследства. Когда мы после этой процедуры шли обратно, она долго плакала, уткнулась мне в плечо.
Она сказала: „Нас обвенчали после его смерти“. Такой человечной — я увидела ее впервые. Свое одиночество она скрывала от всех.
Алиса в последний год жизни встретилась мне на Тверском бульваре, где она обычно ходила в одиночестве перед сном. Я проводила ее домой, по дороге она мне показала то, что ей довелось услышать в ГИТИСе, куда ее пригласили прослушать „урок“. Она показала, как в „Дяде Ване“ ученица произносила знаменитый монолог Сони: „Мы увидим небо в алмазах“. „Нет, это не пародия, — сказала она, — именно так болтала ученица, а педагог даже не поправлял, не объяснял, как это должно звучать у Сони…“
В последнее время старалась не показываться ей на глаза, мне дали Народную СССР, а у нее отняли все — Таирова, театр, жизнь.
Не могу без содрогания вспоминать их прелестный дом, в котором я бывала раньше, и разрушение его после смерти Алисы. Распродажу вещей, суету вокруг вещей. Гадко и страшно мне было».
Этот дом создавал вокруг «положительное пространство», по выражению Корбюзье. Это пространство покорило замечательного художника, друга Раневской, ученика и единомышленника Таирова — Вадима Рындина, вспоминавшего:
«Тонкий знаток и ценитель живописи, Таиров смог собрать у себя в театре все лучшее, все самое интересное, чем располагало декорационное искусство тех лет. Помню, какие интересные выставки устраивал Таиров в фойе. Тут можно было увидеть эскизы Экстер, Гончаровой, Ларионова, Судейкина, Якулова, братьев Весниных, братьев Стенбергов. Здесь была возможность соприкоснуться с самыми высокими проявлениями творчества художников театра. Не случайно, видимо, атмосфера, пронизанная дыханием большого искусства, сохранялась и в доме у Таирова. Здесь можно было увидеть работы Пикассо, Леже, Павла Кузнецова, великолепные панно Якулова».
Это пространство так или иначе захватывало всех его обитателей. В 1945 году в каком-то полубессознательном состоянии позади театра у церкви Иоанна Богослова мы играли с моим пятилетним сверстником Сашей — сыном Нины Станиславовны Сухоцкой, подруги Фаины Георгиевны Раневской и племянницы Алисы Коонен. Сухоцкая была участницей гастролей Камерного театра по городам Европы и Латинской Америки, свидетельницей небывалого успеха и гибели театра. Нина Станиславовна жила в двух крошечных смежных комнатах огромного доходного дома по Тверскому бульвару — «через церковь» от Таирова и Коонен. После смерти Алисы Георгиевны Сухоцкая стала ее наследницей.
Огромное мягкое кресло, диван, большую картину в золоченой раме — портрет балерины Ольги Преображенской в белой пачке с ее подписью под фразой: «Я буду жить вечно» и гигантскую бегонию с фиолетовыми листьями в китайском кашпо я увидел в 70-х годах в доме Раневской. Фаина Георгиевна с досадой сказала: «Это все — имущество Алисы Коонен, Нине некуда поставить, пока поставила ко мне».
Нельзя было тогда найти в доме Раневской другие предметы, вызывавшие у нее чувство такого же бессильного отчаянья и неисправимой беды — как эти четыре громадины, не поместившиеся в их жизни.
Последние полвека церкви Иоанна Богослова — отражение трагической судьбы Камерного театра. Пятьдесят лет ее уснувшие, распадающиеся древние купола и шатер колокольни, казалось, брошены навсегда, забыты — как мы должны были бы забыть искусство Таирова, Коонен, Камерный театр, его жизнь.
Сейчас Иоанн Богослов почти восстановлен.
1933–1939
Играли мы в ту пору в помещении бывшего театра ЦТКА, в небольшом зале…
Завадский — Месхетели — «Васса» — Письмо Горькому — Телешева. Тренёв и «Красная примадонна» — Дальний Восток
В 1932 году, когда рядом с классическим зданием Театра Красной Армии — бывшего Офицерского собрания — в Москве возникал пятиконечный монстр — новое здание театра архитектора Алабяна, аристократический Юрий Завадский, оставаясь в своей изысканной студии на Сретенке, надел командирскую шинель и стал художественным руководителем Центрального театра Красной Армии.
В феврале 1935 года лирико-драматическая героиня Павла Леонтьевна Вульф впервые играла «возрастную» роль — столетнюю старуху в пьесе Иосифа Прута «Я вас люблю», поставленную Завадским в Театре Красной Армии, где уже больше года работала Раневская после ухода из Камерного театра.
«В то время директором нашего театра был Владимир Евгеньевич Месхетели, известный театральный деятель, человек, глубоко и страстно любящий театр. Он с большим вниманием относился к актерам, заботясь об их творческом росте, и старался каждого из нас занять интересной большой работой. В частности, по его инициативе я получила роль Вассы», — вспоминала Фаина Раневская.
«Несмотря на громадный соблазн работать над такой прекрасной ролью и играть ее, я просила не занимать меня в ней, из опасения не справиться с Вассой, и даже предлагала дать мне роль Анны Оношенковой. Мне казалось тогда, что я вижу Анну отчетливее, яснее. И все же мне пришлось играть Вассу. Но сомнения и опасения мои были так велики, что я написала о них Алексею Максимовичу Горькому. Однако послать это письмо я не решилась: в те дни Горький уже был тяжело болен. А когда я шла на генеральную репетицию, то увидела на улице приспущенные в знак траура по Горькому флаги».
«Репетирована в 36-м году с режиссером Телешевой „Вассу Железнову“ в Театре Красной Армии. Ее позвали к телефону, звонил Константин Сергеевич. Телешева отвечала волнуясь на все его вопросы, заявив, что у актера, играющего в массовой сцене, болят зубы и что актер просит разрешения перевязать щеку, опасаясь простуды. Я взяла соседнюю трубку, чтобы послушать все, что говорит К. С. Он категорически запретил перевязывать щеку. На вопрос Телешевой — как же быть, К. С. сказал: „Заменить спектакль“. Затем Телешева пожаловалась на Ливанова, говоря, что он ее не слушает, на что Станиславский ответил грозно: „Пожалуйста, не трогайте Ливанова, он сам дойдет“. А ведь Телешева была режиссером спектакля…
Играли мы в ту пору в помещении бывшего театра ЦДКА, в небольшом зале, с одной-единственной артистической уборной, где гримировались мужской и женский состав труппы. Одна комната, разделенная перегородкой, даже не доходившей до потолка, служила нам и гримировальной и местом отдыха. Благодарно вспоминаю моих товарищей, с которыми играла Вассу Железнову в этих трудных условиях. Не помню, чтобы нам приходилось призывать друг друга к тишине, не помню, чтобы кто-нибудь из нас мешал другому сосредоточиться, внутренне собраться. Молча готовились мы к выходу на сцену, тоже небольшую и неприспособленную к условиям профессионального театра. Это не мешало нам вдохновенно трудиться над замечательным творением Горького».
Драматург Константин Тренёв помнил Раневскую по их встречам в 20-х годах в Симферополе и Москве. Прошло несколько лет. Раневская записала:
«…Я играла в Театре Красной Армии, что дало повод Константину Андреевичу звать меня „Красной Героиней“.»
Еще он звал ее «Красной примадонной» и в середине 30-х годов писал Павле Вульф:
«Дорогая, но дешево ценящая себя актриса!.. Киплю негодованием: уже не то обидно, что легкомысленно по старушечьей линии понеслась, а — что, и старухой будучи, вероломно мне изменила! Вот оно ныне старуха какая пошла!
Не люблю я, что вы далеко.
А Красная примадонна не кажет прекрасных глаз. Мотивировка, впрочем, основательная, помните: „Пока не заплачу долг — 100 р.!“
Ой, не заплатит!!!
Если будете писать, скажите, что делаю ей рассрочку на 20 визитов. Пусть, анафема, платит по пятерке за визит. Если тяжело — два с полтиной. Крайняя цена!..
Ну, целую Вас…
К. Тренев».
«В моей долгой жизни не помню, чтобы я относилась к кому-либо из драматургов-современников так нежно и благодарно, как к Константину Андреевичу Треневу», — записала в дневник Раневская.
Драматург Иосиф Леонидович Прут, легендарный человек с уникальной памятью, вспоминал:
«Однажды на репетиции Завадский, раздраженный тем, что одному из ведущих актеров не удавалось выполнить его режиссерское задание, вскочил и с криком „Пойду и повешусь!“ выбежал из зрительного зала.
Испуганный этим поступком, начальник ЦТКА Владимир Евгеньевич Месхетели схватил меня и Фаину Георгиевну Раневскую за руки, умоляя: „Дорогие! Спасите его! Верните!“
Я не успел еще отреагировать, как эта великая актриса, которая была еще и великим психологом, совершенно спокойно, чуть заикаясь, проговорила:
„Не волнуйтесь! Он вернется… сам. Юрий Александрович в это время всегда посещает… туалет“.»
Сохранились письма Месхетели Фаине Раневской этого времени. Вот одно из них, от 12 мая 1935 года:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
Мне хочется сказать вам что-то хорошее, теплое, но я при всей своей мягкости не льстив. Скажу вам откровенно — мне весьма тяжело, что я не могу видеть вас сегодня, не могу радоваться вашему успеху, который безусловно в этой пьесе обеспечен. Я верю, что вы скоро встанете на ноги и премьеру в Ленинграде играть будете. Нелегко сложились наши отношения за последнее время, но скажу вам со всей откровенностью, что вы всегда были, будете самым близким мне человеком на театре…»
На фотографии в газете «Правда» от 15 июня 1938 года — Фаина Георгиевна; молодая, кажется, счастливая, улыбается на перроне Ярославского вокзала в Москве — вместе с актерами ЦДКА она только что вернулась из поездки. 516 раз они выходили на сцену — Хабаровск, таежные подмостки, Охотское море, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск, Владивосток, укрепрайоны Красной Армии, моряки Тихоокеанского флота — одиннадцать спектаклей, две премьеры.
«Дальний Восток — я в командировке для военношефской работы была целый год, играла там Вассу Железнову. Блюхер приходил за кулисы. Хвалил».
Вскоре после «Вассы Железновой» Раневской было присвоено звание «Заслуженная артистка РСФСР».
Она уже снимается в кино. Где-то рядом — середина ее жизни.
С 1931-ГО И НАВСЕГДА
Кинематограф — страшное дело
Первая работа в кино — Абрамцево — Ромм — Клятва на Воробьевых горах — Театральный антракт — Счастливые дни — Разлука — Война — Плятт — Слово Ромму
Раневская не жаловала кинематограф. О киносъемках она говорила: «Представьте, что вы моетесь в бане, а туда пришла экскурсия».
«Это „несчастье“ случилось со мной еще в тридцатых годах, — вспоминала Раневская. — Я была в то время актрисой Камерного театра, и мне посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров… Так вот, я собрала все фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, а их оказалось множество, и отправила на „Мосфильм“.
Мне тогда думалось, что эта „Фотогалерея“ может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению, и с нетерпением стала ждать приглашений сниматься. И… была наказана за такую свою нескромность. Один мой приятель, артист Камерного театра С. Гартинский, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул однажды мне снимки, сказав: „Это никому не нужно — так просили вам передать“.
Я подумала: переживу. Но перестала ходить в кино и буквально возненавидела всех кинодеятелей. Однажды на улице ко мне подошел приветливый молодой человек и сказал, что видел меня в спектакле Камерного театра в „Патетической сонате“, после чего загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею… Этот фильм стал первой самостоятельной работой в то время молодого художника кино Михаила Ромма.
Роль была комедийной, но условия работы были для меня драматическими. В то время студия „Мосфильм“ не отапливалась, а мне не хватало ни героизма, ни сил, чтобы создать роль в павильоне, напоминавшем гигантский погреб. У меня зуб на зуб не попадал во время съемки…»
Нина Станиславовна Сухоцкая вспоминала:
«Я приехала отдохнуть дней на десять-двенадцать вместе с Раневской в Абрамцево. Это был, по-моему, 1931 год. Ромм готовился к своей первой самостоятельной постановке — картине „Пышка“. Было уже холодновато, и по вечерам мы все встречались у камина с дивной врубелевской росписью — Ромм просил нас принять участие в съемках „Пышки“. Ну, как известно, это осуществилось: я снималась в роли молодой монахини, а Фаина — в роли госпожи Луазо.
Когда ставилась „Пышка“, мы встречались с Роммом почти ежедневно, вернее сказать — еженощно. Дело в том, что он ухитрился пригласить на роли в основном актеров разных театров. Поэтому в одно время всех собрать было просто невозможно. Кончилось тем, что съемки стали ночными.
Происходили они там, где теперь „Мосфильм“. Называлось это место Потылиха, может быть, это была деревня с таким названием.
Работа была тяжелая. Даже молодым было тяжело: днем репетиция в театре, потом бежишь домой на полтора-два часа поесть, передохнуть, потом спектакль. И вот после спектакля, являлся драндулет, который мы окрестили „черным вороном“, он объезжал все театры и собирал актеров на съемку.
Так же мучалась и Раневская. Правда, ей было легче. Она только что сыграла свою первую роль — роль Зинки в пьесе Кулиша „Патетическая соната“ — и днем была свободна от репетиций. Однажды, посмотрев на Галю Сергееву, исполнительницу роли Пышки, которая в ту пору была совершенно прелестна, и оценив ее глубокое декольте, Фаина своим дивным басом сказала, к восторгу Ромма: „Эх, не имей сто рублей, а имей двух грудей“.
Для съемки нам выдавали на Потылихе кур. Мы их ели. Но время было тяжелое, и кур было… в обрез. Поэтому мы только откусывали кусочек, а дальше съемка прекращалась. Не выбрасывать же откусанный кусок курицы! Поэтому были изобретены хитрыми бутафорами картоночки, на которых были написаны наши фамилии. Эти картоночки прикреплялись к нашим объедкам. И эти объедки давались нам на следующую съемку, и т. д. Эти куры очень запомнились.
Однажды… настал день, когда все мы оказались на время свободными. Раневская и я, измученные ночными съемками на протяжении восьми месяцев, отправились на Воробьевы горы, где друзья Герцен и Огарев давали историческую клятву.
Мы с Фаиной стали жаловаться друг другу на нашу тяжелую жизнь на Потылихе. Она говорила: „Знаешь, я уже больше не могу, у меня уже нет сил“. И я ей поддакивала: „Да, Фаина, кинематограф — это страшное дело. Это не искусство“.
И мы, взявшись за руки, поклялись друг другу свято, что никогда в жизни в кинематографе сниматься больше не будем».
Воистину — едва написали о Ги де Мопассане в служебной характеристике «Он хороший чиновник, но плохо пишет», как Мопассан бросил службу и стал знаменитым писателем. Так и Раневская: после исторической клятвы она бросила Театр Красной Армии и четыре года «в хвост и в гриву» снималась в кино.
Раневская вспоминала:
«В те годы работать в кино было трудно. „Мосфильм“ плохо отапливался, я не могла привыкнуть к тому, что на съемочной площадке, пока не зажгутся лампы, холодно и сыро, что в ожидании начала съемки необходимо долго томиться, бродить по морозному павильону. К тому же на меня надели вериги в виде платья, сшитого из остатков грубого, жесткого материала, которым была обита карета героев „Пышки“. Много еще оставалось вокруг неуютного, нехорошего, а я привыкла к теплому и чистому помещению театра… В общем, я решила сбежать с картины. По неопытности. Помнится, мы с Михаилом Ильичом смертельно обиделись друг на друга… Кончилось же все это работой, съемками.
А во время съемок я в него влюбилась. Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало: и чудесный вкус, и тонкое понимание мопассановской новеллы, ее атмосферы. Михаил Ильич помогал мне и как режиссер, и как педагог. Чуткий, доброжелательный, он был любим всеми, кто с ним работал…
Что было потом? Снималась большей частью как бы случайно. Однажды позвонил режиссер и попросил у него сниматься. На мой вопрос, какая роль, он отвечал: „Роли, собственно, для вас нет. Но очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии есть поп, но если вы согласитесь сниматься, могу сделать из него попадью“. Я ответила: „Ну, если вам не жаль вашего попа, можете его превратить в даму. Я согласна“. Этим режиссером был талантливый и милейший человек Игорь Савченко.
Мне вспоминается, как он поставил передо мной клетку с птичками и сказал: „Ну, говорите с ними, говорите все, что вам придет в голову, импровизируйте“. И я стала обращаться к птичкам со словами: „Рыбы мои дорогие, вы все прыгаете, прыгаете, покоя себе не даете“. Потом он меня подвел к закутку, где стояли свиньи: „Ну, а теперь побеседуйте со свинками“. А я говорю: „Ну, дети вы мои родные, кушайте на здоровье“. А что мне оставалось делать? Если режиссеры предлагали мне роли, в которых не было текста…»
Это был фильм «Дума про казака Голоту» режиссера Игоря Савченко, которого Раневская знала еще со времен Баку. Фильм вышел в 1937 году.
В 1939 году Фаина Раневская создала в кино незабываемые образы двух жен — жены инспектора в фильме «Человек в футляре» режиссера Анненского и жены портного Гуревича — Иды в фильме «Ошибка инженера Кочина» режиссера Мачерета по его сценарию, написанному совместно с Олешей.
Фаина Георгиевна работает одна, без совета Павлы Леонтьевны, своего верного педагога, — в 1936 году Павла Вульф, ее дочь Ирина Вульф и Тата уехали из Москвы с театром Завадского в «ссылку» — в Ростов-на-Дону, в огромное здание архитекторов Щуко и Гельфрейха с залом на 2250 мест, только что тогда построенное. Играли много. В спектакле «Горе от ума» Павла Леонтьевна играла возрастную Хлестову, а ее дочь — Софью. Молчалина играл Павел Врабец. Здесь состоялся режиссерский дебют Ирины Вульф: она поставила «Беспокойную старость» Леонида Рахманова. Все складывалось неплохо.
Павел Врабец — второй муж Ирины Вульф — эстонец. Неотразимый красавец. Из Ростова-на-Дону он уехал в Таллин и ждал Ирину к себе. Но — не случилось.
Это был 1937 год. Эстония была заграницей. Одна театральная актриса направила в НКВД письмо, где писала, что Ирина Вульф связана с иностранцем и тому подобное, Ее вызвали на допрос, она видела это письмо и узнала почерк. Ее оставили в покое. Ирина Вульф никогда не упоминала про письмо; лишь недавно рассказала мне об этом ее любимая подруга Норочка Полонская.
В 1937 году театр Завадского оставался в Ростове-на-Дону, а Павла Леонтьевна, Тата и Ирина Вульф возвратились в Москву. Теперь они снова были все вместе с Раневской — вчетвером, как когда-то в Крыму.
В 1938 году мама вышла замуж за Валентина Александровича Щеглова, моего отца. Он был талантливым актером — Раневская его хвалила, его Лаврецкий в «Дворянском гнезде» запомнился многим.
Заканчивался 1939 год.
18 декабря у Ирины Вульф родился сын, я.
Мама больше всего боялась, что может родиться ребенок с каким-то внешним дефектом — роды были трудные — и настойчиво просила показать ей малыша. А когда, измученная, увидела меня — воскликнула облегченно: «Слава богу — четыре ноги, четыре руки!» — и заснула счастливая.
Фаина Георгиевна несла меня в январе 1940 года по Уланскому переулку из роддома домой. Потом она говорила:
«Мне доверили его нести, я прижимаю его к груди, почему-то боюсь бросить вниз, особенно дома, на лестнице ступеньки высокие — я его прижимаю — страшно!»
…Раневская не могла знать, что эти дни случайно совпали с абсолютной серединой ее жизни. Ей было в то время 44 года.
Потом был кинофильм «Подкидыш», сценарий Агнии Барто и Рины Зеленой, ее друзей; но фразу: «Муля, не нервируй меня», обращенную к ее мужу по роли, придумала Раневская, как и еще многое в этом фильме. Эта картина принесла Фаине Георгиевне широкую популярность, хотя известность «Мули» раздражала ее. К «Муле, не нервируй меня» мы еще вернемся.
«„Мечта“… Это были счастливые мои дни, — вспоминала Фаина Георгиевна. — За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичом. Такого отношения к актеру — не побоюсь слова „нежного“, — такого доброжелательного режиссера-педагога я не знала, не встречала. Его советы, подсказки были точны и необходимы.
Я навсегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью пани Скороход в „Мечте“, и за радость, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране.
К сожалению — я бы могла сказать: даже и к несчастью, после „Мечты“ наши пути с Михаилом Ильичом в кинематографе разошлись. Но я оставалась верной „Мечте“, воспоминаниям о светлых и захватывающих днях нашей работы, я мечтала о ее продолжении. И мне казалось, что мы действительно встречались с Михаилом Ильичом, вновь становились единомышленниками и соратниками в искусстве всякий раз, когда я видела на экранах лучшие его кинокартины».
Лето, наша семья снимает дачу в Загорянке под Москвой; картина «Мечта» закончена 15 июня 1941 года. В главных ролях — Фаина Раневская, Елена Кузьмина, Ада Войцик, Михаил Астангов, Михаил Болдуман, Ростислав Плятт и мой отец Валентин Щеглов. Это был единственный его фильм.
Через неделю на студию пришел первый отпечатанный экземпляр; это был первый день войны — 22 июня.
Недавно нашли пригласительный билет на премьеру «Мечты» в Дом кино с какой-то запредельной, невозможной датой для просмотра «нового художественного фильма», как было сказано в приглашении, — 6 июля 1941 года. Было не до кино. Мама с Валентином Александровичем шли на просмотр «Мечты» пешком. Над Москвой гудели немецкие бомбардировщики. Мои родители шли мимо северных шлюзов и водохранилищ Москвы — их поразило, что не было никакой охраны: делай что хочешь.
Так он и ушел от меня — отец; или мы от него ушли с мамой. Один раз он нарисовал мне напоследок цветными карандашами очень хороший грузовик — и больше мы не виделись. Он умер в 1948 году.
На даче вырыли «щель» — от авиаосколков. Я помню только, что вид веревки вызывал во мне ощущение тревоги — вой сирены был такой же длинный, нескончаемый, как толстая длинная веревка, — наверное, уже в Москве.
Авторы сценария «Мечты» — Ромм и Габрилович.
Евгений Габрилович вспоминал:
«Я не присутствовал на съемках „Мечты“. Увидел в первый раз ленту в вечер, когда над Москвой уже гудели немецкие самолеты. Но было это все же в Доме кино, и это был самый странный, дикий и жуткий просмотр в моей жизни.
Странно и то, что в это самое первое время войны картина Ромма имела огромный успех — это с моими фильмами приключалось нечасто.
Я понимаю, что главная причина успеха — Раневская.
Она играла не комедию (как первоначально предполагалось), не драму, а трагикомедию.
Уже в те давние годы я понял, что возникла трагикомическая актриса, которая была всему тогдашнему не с руки. Ибо из всего ненавистного начальство пуще всего ненавидело горькую комедию, а тем более комедию с несчастным концом. А ведь как раз для этого и была создана Раневская.
Конечно, в конце концов мы прилатали нашей „Мечте“ подходящий начальству конец. Но это был конец, наскоро сметанный и грубо подшитый. Хотя и старались мы изо всех сил.
В целом же (такова моя убежденность!) Фаина Раневская из-за властей, надзиравших искусство, не сыграла и половины того, что могла бы сыграть».
Елена Драйзер, жена американского писателя Теодора Драйзера, писала:
«Теодор был очень болен. Ему не хотелось писать, не хотелось читать, не хотелось ни с кем разговаривать. И однажды днем нам была прислана машина с приглашением приехать в Белый Дом. Советский посол устроил специальный просмотр фильма „Мечта“. В одном из рядов я увидела улыбающегося Чаплина, Мэри Пикфорд, Михаила Чехова, Рокуэлла Кента, Поля Робсона.
Кончилась картина. Я не узнала своего мужа. Он снова стал жизнерадостным, разговорчивым, деятельным. Вечером дома он мне сказал: „Мечта“ и знакомство с Розой Скороход для меня величайший праздник».
Как-то один «исследователь» творчества Раневской воскликнул: «Как счастливо сложилась ваша судьба в кино!»
«Что-о?!!» — Раневская сделалась страшной, и больше этого человека на пороге ее дома не было.
И все-таки «Мечту» никто не помнит, почти. Жалко: в первый год войны было не до «художественных» фильмов, а после войны все хотели «про Победу», что-то радостное, устали.
Но все равно эта «Мечта» со мной всю жизнь — она моя семья, там Фаина Георгиевна — Роза Скороход и мой отец — рабочий Томаш Крутицкий.
И Плятт… В детстве мне хотелось помочь Плятту, пожалеть его, потереться, как подкидышу, о его плоскую, худую щеку извозчика в «Мечте», чтобы не огорчался, даже купить ему новый фаэтон — в детстве я мечтал об этом. Мечтал, чтобы он пришел к нам домой и остался навсегда, хотел, чтобы он стал папой. «Пусть он будет с нами, женись на нем», — клянчил я у мамы. «Ты с ума сошел, — отвечала Ирина Сергеевна, — он хороший, но у него есть жена, Нина Бутова. Потом, он занят: театр, кино, дубляж — задерган, его терзают со всех сторон». Моя «безотцовщина» требовала другого ответа. Мне хотелось, чтобы тот, кого он играет, и был им. Он действительно был похож на своих героев, но, наверное, все-таки был другим. Во всяком случае его голос — сильный, чуть в нос, теперь знакомый каждому, — при встречах меня оглушал; громко, восторженно он, казалось, откликался на почти все вокруг.
Особый свой кураж Плятт сохранял всю жизнь. Дружил с Митей — Дмитрием Павловичем Фивейским, последним мужем Норочки Полонской, любил его одаренность. Фивейский рассказывал, как они с Пляттом в их актерской молодости бегали голыми по Кремлевской набережной, активно жестикулируя, доводили единственного постового до изнеможения. А когда он бежал к ним — бросались в воду и плыли к МОГЭСу. Пока одинокий блюститель порядка бежал по мосту — возвращались вплавь обратно и т. д.) тот эпатаж был, наверное, присущ Плятту, он разыгрывал на спектаклях Марецкую, доводил ее до хохота, шокировал Раневскую, входя к ней в купе в поездке — на спор — абсолютно раздетым с пустыми руками, но с привязанной мыльницей.
Рассмешить Плятт мог кого угодно. В молодости Ирина Вульф играла в Ростове-на-Дону в спектакле «Стакан воды» герцогиню Мальборо, а Плятт — Болинброка. Бедная мама призналась мне, как один раз она оговорилась, задав угрожающий вопрос Болинброку — Плятту: вместо «А по какой причине?..» она возмущенно воскликнула: «А по какой прыжине?..» Плятт спокойно выслушал эту реплику, лишь удивленно подняв одну бровь. Зато на каждом последующем «Стакане воды» перед этим роковым вопросом он внимательно глядел на Ирину Вульф и молча выжидающе поднимал одну бровь. Это была пытка. Мама знала, что рассмешить Плятта на сцене мог только Фивейский. И вот она уговорила Дмитрия Павловича отомстить. Но как он это сделает, никто не знал. Фивейский в «Стакане воды» играл молодого секретаря-курьера Томпсона — эпизодическую роль с одной фразой: «Слушаю, будет исполнено» — после чего он, Томпсон, уходит. Когда начался спектакль и на сцене оказался весь английский двор, граф Болинброк и герцогиня Мальборо, курьер Томпсон — Фивейский с трудом вышел на сцену на негнущихся подагрических ногах, тяжело опираясь на посох. «Ступайте в Сити, передайте письмо миссис Абигайль Черчилль и скажите, чтобы она немедленно явилась во дворец», — небрежно протянул свиток Плятт — Болинброк скрюченному курьеру. Но не тут-то было. «А-ась?» — приложив руку к уху, крикнул ставший вдруг глухим стариком курьер. Встревоженный Плятт громко повторил свое распоряжение. «А-ась?» — настаивал курьер. Находчивый Болинброк вложил послание курьеру в руку, повторил приказ и слегка подтолкнул его. Стоящая лицом к зрителю Ирина Вульф — Мальборо закрыла лицо спасительным веером. Но выйти из комнаты курьер не спешил, внезапно выронив письмо из дрожащих рук. Когда он мучительно «пытался» поднять его, ему «отказали» ноги и несчастный гонец растянулся на полу, с грохотом уронив посох. Действие послушно остановилось. Плятт разрывался, собирая послания, поднимая посох и самого гонца, который, кряхтя, ронял их опять. Все повторялось снова и снова, пока, мокрый от сдавленного хохота и напряжения, Ростислав Янович, забрав письмо и палку, не поднял гонца на руки и не вынес его со сцены. Вульф была отомщена.
Но вернемся к кино. Фаина Георгиевна писала:
«Ромм… До чего же он талантлив, он всех талантливей. Он очень болен, издерган, сказал, что его в инфаркт давно загнал Никита Сергеевич…
Помнится, как однажды, захворав, я попала в больницу, где находился Михаил Ильич. Увидев его, я глубоко опечалилась, поняла, что он болен серьезно. Был он мрачен. Помню его слова о том, что человек не может жить после увиденного неимоверного количества метров пленки о зверствах фашистов. Он мне сказал тогда: „Дайте слово, что вы не будете смотреть мой фильм „Обыкновенный фашизм“, хотя там нет и тысячной доли того, что делали эти нечеловеки“.
Вот это его точные слова. И я не видела этот фильм. Я же ему дала слово.
Там же, в больнице, я получала часто от него записки. К сожалению, не все сохранились, так как у меня их брали, чтобы переписать, и, конечно, обратно не возвращали. Но три короткие записки мне оставили. Я отдала их на хранение в ЦГАЛИ. Там, в архиве, эти дорогие мне строчки останутся в сохранности.
Он мне писал: „Фаина, дорогая! Я стал старый и вдобавок глухой на одно ухо. Старею ужасно быстро и даже не стесняюсь этого. Смотрел „Мечту“ и всплакнул. А раньше я просто не умел плакать. Обычно я ругаю свои картины и стесняюсь, стыжусь смотреть, а „Мечту“ смотрел, как глядят в молодости. На свете нет счастливых людей, кроме дураков да еще плутов. Еще бывают счастливые тенора, а я не тенор и вы тоже…“
И еще, незадолго до его 70-летия:
„Дорогая Фаина!
Вы написали все очень трогательно. Спасибо. Я тоже Вас очень люблю, и мне грустно, как и Вам. Все правильно.
И все-таки дело было не совсем так, ибо в те годы, в годы „Пышки“, я был (между нами) глуп и самоуверен. Мне казалось, что кино — самое важное, святое дело и, значит, все должны плясать вокруг кино. Вреда от него больше, чем пользы. А свинства — вагон!
Я еще по привычке колбашусь, а вообще-то мне грустно, очень одиноко и ничего я не хочу. А будет как раз юбилей. Ну зачем мне юбилей?
Вообще, думается мне, что „Об. фашизм“ это по всем признакам последняя картина человека, а я не понял своевременно. На пенсию пора. Целую Вас. Мих. Ромм“.
Очевидно, чтобы позабавить меня, в одной записке было сказано: „Я вас люблю. Увидимся в палате“.»
1941–1943
Мы бродили с Анной Андреевной по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня».
Эвакуация — Улица Кафанова — Пожар — Полководцы — Щечки — Трафареты и воры — Мангалка — Кино — Ахматова — Пьеса — Вход Барана — Записи Анне Андреевне — Возвращение
Мое самое раннее воспоминание о Раневской почти совпадает с первыми впечатлениями жизни. Мне полтора-два года. Эвакуация в Ташкент.
Страшная, долгая темнота, беспросветное ожидание, наверное, сначала машины, потом поезда; в черноте ночи огонек — один — нет, уехал — другой. В дороге, говорят, я тяжело болел — питание было соответствующее. Ничего о дороге не помню. Потом выяснилось, что две неизвестные дамы, жены ответработников, требовали убрать ребенка из теплушки: на станции была пересадка, не хотели — силой! — пускать в вагон, хотели выбросить.
Улица Кафанова в Ташкенте. Мы все — уже впятером: бабушка, мама, Фаина Георгиевна, Тата и я.
Мама пошла работать к Ромму на кинофабрику — он был начальником главка. Подбирала помощников. В один из дней к ней пришли две дамы, те, которые хотели выбросить в дороге из теплушки ее семью. Умоляли взять на работу. Мама взяла, пожалела их.
Очевидно, ташкентский дом, где мы жили, был типичным для города: прямоугольный участок за глиняным глухим забором-дувалом; вдоль улицы Кафанова — арык, через арык у ворот дома — мостик; двор разделен уже внутри арыком пополам, справа сад с большим деревом — грецким орехом, слева деревянный дом с высоким цоколем, наверх в бельэтаж вела длинная деревянная открытая лестница, по которой поднималась в свою комнату Фаина Георгиевна, где стоял ее диван, где она спала, беспрерывно курила и однажды заснула с папиросой в руке, выронила ее, одеяло и матрас задымились, был переполох. С тех пор с Фаиной Георгиевной я связывал клубы дыма, а поскольку тогда только учился говорить, называл ее «Фуфа». Так Фуфой стали называть Раневскую друзья, приходившие к ней в Ташкенте, и потом это имя сопровождало ее всю жизнь.
Из того периода сохранилось в памяти звучание голоса Фаины Георгиевны, вернее, проба голоса, актерский звук «и-и-и» — протяжный, грустный, — Раневская тренировала голосовые связки. Вот это «и-и-и» навсегда у меня связано с ней, с детством, с первыми воспоминаниями о близких.
В нашей комнате висела карта СССР с большой красной звездой — Москвой, и Фаина Георгиевна помогала Лиле (Павле Леонтьевне) прикреплять булавками флажки на изменчивую линию фронта.
У нас была книжка с портретами полководцев, которую со мной рассматривала Фаина Георгиевна и вся наша женская семья. Раневская часто рассказывала, какие блестящие способности открыла во мне в раннем детстве: «Маленький Алеша, показывая на книжку о полководцах, настойчиво повторял: „… Фулевич, Фулевич… Тузя ма газька, тузя ма газька…“ И я поняла! Товарищи, он же говорит: „Суворов, Суворов… Кутузов без глаза!“» Вероятно, ее восхищение было плодом пристрастного отношения ко мне, но, конечно, это воспоминание мне очень дорого. Фаине Георгиевне, наверное, в это время очень не хватало какого-нибудь малыша, о котором она могла бы заботиться, играть и фантазировать с ним. Очевидно, тут и родилось мое официальное именование, придуманное Раневской: «эрзац-внук» — с ударением на первом слоге.
Фуфа играла со мной в «щечки», изображала, как вкусно она поцеловала «эрзац-внука», сидящего у нее на коленях, сначала в одну щеку, потом в другую. Далее следовала пауза: она сравнивала одну щеку с другой, причмокивала, закрывала глаза, словно вспоминая первую, возвращалась к ней, а потом опять ко второй… В эти минуты я был бесконечно счастлив. Во время игры всегда присутствовало третье лицо, иногда зрителей было несколько, и я чувствовал себя участником какого-то исключительного процесса.
Подарив мне «парадные» шелковые синие шорты, Фуфа сказала: «Шикарные штаны». Я повторил как мог: «Сикальные станы». Так она их и называла — пока я не научился все правильно делать и говорить. Раньше еще — помню кровать с перекладиной — чтоб не упал — в большой комнате у дальней от окна стены: я вижу взрослых у круглого стола. Еще — за окном была открытая веранда. Фаина Георгиевна приносила мне детские книжки, бабушка мне читала, а Тата выкраивала время, отрываясь от готовки, и смотрела со мной картинки. Какие это были книги? Я помню героическую балладу о Ване Васильчикове в туго подпоясанной гимнастерке, побеждавшем всех врагов. Ваня Васильчиков на тонких графических рисунках всегда в роскошных сапогах с голенищами или башмаках — тщательно нарисованные подошвы на бегу, каблуки, портупея — все это было очень красиво, в ракурсах. Молоденький и веселый Ваня Васильчиков в погонах, всегда с автоматом, пистолетом, кобурой на портупее довел меня до экстаза. Я требовал погоны, ремень, пистолет, а Фуфа все это добывала на киностудии — помню оловянный пистолет и свою необычайную серьезность и ответственность, когда, чувствуя себя Васильчиковым, вооруженный, покачиваясь, стоял на диване, застеленном после Фуфиного пожара ташкентским сюзане — тонким ковром с национальным рисунком. Сюзане было непонятным, с белыми кругами на черном фоне с зубчиками и какими-то черными вилочками — орнаментом. Я его иногда разгадывал, открывая утром глаза, и перед сном. Конечно, я был избалован Фуфой до предела.
Другую книгу — «Мистер Шлих, куря табак, нес под мышкой двух собак» — Фуфа принесла с кинофабрики. Слова про собак — знакомые, беззаботные — вдруг всплыли в памяти, когда я читал воспоминания дочери Михаила Ильича Ромма Наташи в книге «Мой режиссер Ромм».
С Наташей меня познакомила моя мама уже в Москве, когда мы вернулись из Ташкента.
Потом Фаина Георгиевна показывала мне какие-то сказочные по цвету, на всю жизнь понравившиеся мне картинки — в книге о чудесных деревьях, реке, полях и цветах, — все было желтое, зеленое, голубое, с четким контуром: коровы, собаки — может быть, это был «Мистер Шлих» — иллюстрации к нему.
В Ташкенте — я начинал говорить. «Р» еще не получалось, а Раневская продолжала наслаждаться моими «успехами»: в своей транскрипции она показывала много лет друзьям, как я открывал дверь, появляясь и «прислонясь к дверному косяку» — нога за ногу, загадочно объявляя о себе, любимом: «Окиваеся дефь и виходит Алёля — газки гобулие, губки кансие», — показывала Раневская. Говорить о себе в третьем лице, стоять «нога за ногу» — это было ее требование, созданный ею образ; я его всегда стеснялся.
В бельэтаже, в другой половине, — загадочная соседка по фамилии Кантор с утра до вечера полировала щетками разноцветные трафареты — большие ажурные листы — один за другим. Получалась цветная скатерть. Это был тайный заработок. Фуфа иногда заглядывала со мной к мадам Кантор.
Помню ужас — воры ночью забрались в хозяйский сарай, зарезали козу и унесли. Кровавые следы. После этого хозяева завели огромную собаку.
Наша женская колония жила трудно. Мама целыми днями пропадала на ташкентской киностудии, где была ответственным худруком. Тата с утра до ночи готовила всем еду во дворе на мангалке, помню ее на переднем дворе, бесконечно машущей фанеркой на камни — мангалка не горела, чадила. Тата бранилась. И только мы с бабушкой сидели за арыком под большим грецким орехом в тени — она писала пьесу о Герцене и свою книгу воспоминаний, — я был ей «поручен». А Фаина Георгиевна снималась, снималась изумительно, это был период «Пархоменко», «Похождений бравого солдата Швейка» — Фуфа была тетушкой Адель и любила перед едой петь: «Сосиски, с капустой я очень люблю!» А сосисок не было, их очень хотелось. А больше всего хотелось пойти с Татой вечером в городской парк. Там на открытом воздухе за оградой среди деревьев мелькали тени — показывали кинофильм. Там на экране была Фуфа, но вечером ходить в парк не разрешали. Днем мы гуляли с Татой по улице между глиняными стенами — помню дивный красный мак у дувала, дома он быстро завял.
В Ташкенте же произошел с Фаиной Георгиевной казус. Очевидно, еще в Таганроге она слышала, что для выращивания бройлерных индеек, мясо которых она очень любила, их помещают в сетки, подвешивают в темном помещении и кормят исключительно орехами. Она так и поступила, решив помочь Тате в обеспечении семьи питанием. На свои последние деньги Фуфа купила двух индюшек и поместила их в подвал, как и положено, в подвешенном состоянии, куда регулярно доставляла орехи. Очень скоро выяснилось, что индейки не выросли, а невероятно похудели и до бройлеров им не дотянуть никогда. В конце концов они были позорно и тайно утилизированы. Так тихо погибла «плодотворная» хозяйственная идея.
В доме на улице Кафанова часто бывала Анна Андреевна Ахматова. Фаина Георгиевна, Павла Леонтьевна и все домочадцы располагались в большой комнате, где жили мы с мамой и Татой, и Ахматова читала свои стихи, закрыв глаза, тихо-тихо, нараспев. Я ничего не понимал, но любил рассматривать кремовую брошь из яшмы на груди Анны Андреевны. Все самое лучшее, что говорили о стихах Ахматовой, я связывал с этой брошью; она ассоциировалась у меня с образом Анны Андреевны. Когда Фаина Георгиевна спрашивала: «А ты знаешь, кто это?» — я отвечал: «Мировая тетя», воспринимая Ахматову прежде всего как обладательницу этой замечательной броши. Раневской нравился мой ответ, в нем она видела силу моего младенческого интеллекта и в Ташкенте называла Ахматову «мировая тетя». А еще Фаина Георгиевна называла Ахматову «Рабби» и ласково «Раббенька» — за мудрость; я отчетливо помню приглушенную, нежную интонацию ее низкого голоса: «Раббе, скажите…»
Друг Раневской — Константин Михайлов, работавший рядом с ней много лет, вспоминал:
«Раневская называла Анну Андреевну провидицей, колдуньей, иногда просто ведьмой… И однажды по секрету призналась мне, что посвятила ей — Ахматовой! — четверостишье:
О, для того ль Всевышний Мэтр
Поцеловал твое чело,
Чтоб, спрятав нимб под черный фетр,
Уселась ты на помело?
Она прочла это смущенно, но с гордостью и обычной иронией…»
В 1942 году в Ташкенте был организован большой спектакль-концерт в Оперном театре, сбор от которого предназначался в фонд помощи детям.
Автором сценария был Алексей Толстой, а исполнителями — многие «звезды» театра и кино. Сюжет был прост: на сцене якобы шла съемка некоего современного фильма. Двух монтировщиков, устанавливающих декорации, изображали Михоэлс и Толстой. Одетые в грубые фартуки, они энергично колотили молотками. Но когда появлялся актер в костюме и гриме Гитлера, они бросали работу и гонялись за ним, пытаясь этими же молотками его прикончить. На сцене действовали режиссер и оператор, их многочисленные помощники и ассистенты, множество актеров, пожарные и осветители — словом, происходило все, что бывает на настоящей съемочной площадке.
Раневской сценарий позволял вольную импровизацию, и она придумала для себя роль костюмерши. Она суетилась, старательно поправляла платья на актрисах, пришивала пуговицы, появлялась и исчезала. На сцене готовилась «съемка», и вот, когда «кадр» был уже установлен и актер, игравший режиссера фильма, давал команду «мотор!», она вбегала, в черном халате, с авоськой в руке, и громогласно оповещала: «Граждане, в буфете коврыжку дают! Коврыжку!» Сообщение по тем временам сенсационное, и «съемочная площадка» мгновенно пустела!
Не могу отказать себе в пересказе одного случая из ее ташкентской жизни, который она сама живописала, сделав из него целую трагикомическую новеллу. Время было нелегкое, и она взялась продать какую-то вещь… Кажется, это был кусок кожи для обуви. Обычно такая операция легко проводилась на толкучке. Но она направилась в комиссионный магазин, чтобы купля-продажа была легальной. Однако там кожу почему-то не приняли, а у выхода из магазина ее остановила какая-то женщина и предложила продать ей эту кожу из рук в руки. В самый момент совершения сделки появился милиционер — молодой исполнительный узбек, — который немедленно повел незадачливую спекулянтку в отделение милиции. Повел по мостовой при всеобщем внимании прохожих…
«Он идет решительной, быстрой походкой, — рассказывала Раневская, — а я стараюсь поспеть за ним, попасть ему в ногу, и делаю вид для собравшейся публики, что это просто мой хороший знакомый и я с ним беседую. Но вот беда: ничего не получается — он не очень-то меня понимает, да и мне не о чем с ним говорить. И я стала оживленно, весело произносить тексты из прежних моих ролей, жестикулируя и пытаясь сыграть непринужденную приятельскую беседу… А толпа мальчишек да и взрослых любителей кино, сопровождая нас по тротуару, в упоении кричала: „Мулю повели! Смотрите, нашу Мулю ведут в милицию!“
Костя, — продолжала она горестно, с заиканием, — они радовались, они смеялись. Я поняла, они меня ненавидят, Костя! — И заканчивала со свойственной ей гиперболизацией и трагическим изломом бровей: — Это ужасно! Народ меня ненавидит!»
Фаина Георгиевна часто вспоминала об Ахматовой, об их встречах в эвакуации, куда ее, совсем больную, привезли из блокадного Ленинграда:
«…В Ташкенте Ахматова писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в 46-м году, потом пьесу сожгла. Через много лет восстановила по памяти. В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философию, но ощущала, что это нечто гениальное…
В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали: „Муля, не нервируй меня“. Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая принесла мне популярность. Я об этом сказала Анне Андреевне. „Не огорчайтесь, у каждого из нас есть свой Муля!“ Я спросила: „Анна Андреевна, а что у вас „Муля“?“. „Сжала руки под темной вуалью“: это тоже мои „Мули“, — сказала она. Я закричала: „Не кощунствуйте!“. „Вот, вам известен еще один эпизод…“ — ответила она тихо.
В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.
— Я буду Вашей madame de Lamballe, пока мне не отрубили голову, я истоплю вам печку.
— У меня нет дров, — сказала она весело.
— Я их украду!
— Если вам это удастся, это будет мило, — ответила она.
Большой каменный саксаул не влезал в печку. Я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне платить нечем. „А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги — что, деньги — это еще не все!“
Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне: „А я сейчас встретила Платона Каратаева“. — „Расскажите“… „Спасибо, спасибо“, — повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова.
У нее оказалось немного картошки. Мы ее сварили и съели. Я никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она».
«В Ташкенте мы были приглашены обе к местной жительнице. Сидели в комнате комфортабельной городской квартиры. В комнату вошел большой баран с видом человека, идущего по делу. Не глядя на нас, он прошел в сад. Это было неожиданно и странно.
И потом через много лет она говорила: „А вы помните, как в комнату пришел баран и как это было удивительно: почему-то я не могу забыть этот вход барана“.
Я пыталась объяснить это неизгладимое впечатление с помощью психоанализа. „Оставьте, вы же знаете, что я ненавижу Фрейда“, — рассердилась она».
«Одно время я записывала все, что она говорила. Она это заметила, попросила показать ей мои записи.
„Анна Андреевна, я растапливала дома печку и по ошибке вместе с другими бумагами сожгла все, что записала, а сколько там было замечательного — вы себе представить не можете, Анна Андреевна“, — сказала я ей.
„Мадам, вам 11 лет и никогда не будет 12“, — ответила она и долго смеялась».
«Я знала объект последней любви Ахматовой. Это был внучатый племянник Всеволода Гаршина. Химик, профессор Военно-медицинской академии. Как-то мы были у него в гостях. Гаршин сделал ей предложение стать его женой… Как она смеялась, когда я ей сказала: „Давно, давно пора, mon ange, сменить вам нимб на флёрдоранж“.»
«Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку. Такую толстую. Я была менее „культурной“, чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда арестовали ее сына второй раз, Ахматова сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, „сожженные стихи“. Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, необразованной».
«Про известного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала: „Знаете, о моей смерти он расскажет в придаточном предложении, извинится, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматову, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной“.»
«Однажды сказала: „Что за мерзость антисемитизм, это для негодяев — вкусная конфета; я не понимаю, что это, бейте меня, как собаку, все равно не пойму“.»
«Иногда она бранила меня, я огрызалась. Она говорила: Наша фирма — „Два петуха“.»
«Там, куда приходила Анна Андреевна в Ташкенте, где я жила с семьей во время войны, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Ее загоняли в будку. Потом, при виде Анны Андреевны собака сама пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло: „Обратите внимание — собака при виде меня сама уходит в будку“.»
«Она была удивительно доброй. Такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо, неповторимо прекрасное, делалось внезапно суровым, и было ясно, что среди слушателей оказался невежественный нахал».
«В Ташкенте она получила открытку от сына из отдаленных мест — это было при мне. У нее посинели губы, она стала задыхаться, он писал, что любит ее, спрашивал о своей бабушке, жива ли она? Бабушка — мать Гумилева».
«Однажды я спросила ее: „Стадо овец… кто муж овцы?“ Она сказала: „Баран, так что завидовать нечему“. Сердито ответила, была чем-то расстроена».
«Ахматова рассказала мне, что в Пушкинский дом пришел бедно одетый старик и просил ему помочь, жаловался на нужду, а между тем он имеет отношение к Пушкину. Сотрудники Пушкинского дома в экстазе кинулись к старику с вопросами, каким образом он связан с Александром Сергеевичем. Старик гордо объявил: „Я являюсь праправнуком Булгарина“.»
Фаина Георгиевна в 1981 году подарила мне книгу стихов Ахматовой с замечательной надписью: «Лешеньке — знавшему Великую Анну Ахматову. С любовью к нему, к его маме и к чудесной бабушке, сделавшей меня актрисой. Фуфа…»
В этой книге — много помет Раневской, одна из них относится к ташкентскому периоду их встречи с Ахматовой. Строки Анны Андреевны
Не любишь, не хочешь смотреть?
О как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.
она отчеркнула и пометила: «Я написала музыку на эти стихи. Ахматовой очень нравилось».
Раневская пишет:
«Однажды в Ташкенте Анна Андреевна написала стихи о том, что, когда она умрет, ее пойдут провожать: „Соседки из жалости — два квартала, старухи, как водится, — до ворот“, прочитала их мне, а я говорю: „Анна Андреевна, из этого могла бы получиться чудесная песня для швейки. Вот сидит она, крутит ручку машинки и напевает“. Анна Андреевна хохотала до слез, а потом просила: „Фаина, исполните „Швейкину песню“!
Ведь вот какой человек: будь на ее месте не великий поэт, а средненький — обиделся б на всю жизнь. А она была в восторге… Была вторая песня, мотив восточный: „Не любишь, не хочешь смотреть? О как ты красив, проклятый!!!“ — и опять она смеялась“.
Еще из ташкентских записей Раневской об Ахматовой.
„Если будет ваша милость — сверните мне козью ножку“.
„Целый день думаю о стихах Леонида Первомайского, вспоминаю их. Как это верно про письма жены на фронт: невозможно бросить их и нельзя с собой таскать“.
Стихи запомнила, говорила наизусть.
В Ташкенте о том, что А. А. весь день говорила о стихах Леонида Первомайского с такой любовью, знала их наизусть, я сказала Маргарите Алигер и просила ее об этом написать Первомайскому, он был бы рад. Спросила Алигер: „Вы писали, как я просила вас?“ Ответила: „Ах, забыла“. А вскоре он умер, так и не узнав о том, что Ахматова его так похвалила».
Но Первомайский перед смертью все-таки узнал мнение Ахматовой о его стихах — ему об этом сообщил Лев Озеров, которому Раневская рассказала, как и многим, этот эпизод.
Ахматова говорила Раневской о своей матери: «Знаете, она была такой деликатной, такой кроткой. Приехала ко мне днем, — а с поезда сошла на рассвете, почти ночь просидела на вокзале».
Раневская вспоминала: «Есть такие, до которых я не смею дотронуться, отказалась писать о Качалове, а уж об А. А. подавно. В ней было все. Было и земное, но через божественное… Однажды я рассказала ей, как в Крыму, где я играла в то лето в Ялте — было это при белых, — в парке, в киоске сидела толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка тонких книжек ее стихов. „Пьяные вишни“ назывались стихи, и посвящались стихи „прекрасному юноше“, который стоял тут же, в киоске. Герой, которому посвящались стихи, был косой, с редкими прядями белесых волос. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, смеясь, о даме со стихами. Она стала мне выговаривать: „Как вам не совестно! Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись? Ведь вы добрая! Как вы могли не помочь!“ Она долго сердилась на меня за мое равнодушие к тому, что книги не покупали. И что дама с ее косым героем книги относила домой».
«Была Анна Андреевна доброй, безгранично доброй, и все суки в своих воспоминаниях об этом молчат, а вспоминают себя!»
И еще раз о том же: «Читаю этих сволочных воспоминательниц об Ахматовой и беснуюсь. Этим стервам охота рассказать о себе, и к себе присыкнули незащищенную Анну Ахматову. Лучше бы читали ее, а ведь не знают, не читают…»
«Ахматова была очень верным другом. У нее был талант верности. Мне известно, что в Ташкенте она просила Л. К. Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне», — записала Раневская.
И еще:
«В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет».
«Анна Андреевна очень чтила Мандельштама, восторгалась его поэзией и была дружна с крокодилицей его женой, потом вдовой, ненавидевшей Ахматову и писавшей оскорбительно для А. А.».
«…А ведь Ахматова — Чудо.
Она украсила время.
Однажды она сказала мне: „Моя жизнь — это не Шекспир, это Софокл. Я родила сына для каторги…“».
«В А. А. часто замечала я что-то наивное, это у Гения, очевидно, такое свойство. Она видела что-то в человеке обычном — необычное или наоборот.
Часто умиляясь и доверяя тому, что во мне не вызывало доверия и умиления. Пример первый: Надька Мандельштам. Анна Андреевна любила это чудовище, верила ей, жалела, говорила о ней с нежностью».
«Ахматова чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают в ней Гения? Нет, наверно».
Много еще об Ахматовой — записочек, фраз, о ее любви, о поэзии — все о ней. Мы с вами еще вспомним об Ахматовой, встретимся с ней вместе с Фаиной Георгиевной.
Ташкент для Раневской кончился. Мы возвращались в Москву в 1943 году вчетвером — мама временно осталась работать в Ташкенте на кинофабрике. Бесконечная железная дорога, верблюды, песок. Мама дала мне свою большую фотокарточку в дорогу — чтобы не скучал. Я смотрел, смотрел и попросил Фуфу прорезать на фотографии губы — хотел, чтобы мама разговаривала.
Раневская все исполнила.
1915–1948
Третий час ночи. Знаю, не усну, буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска…
Лакейская — Качалов — Возвращение — Печь Абибула — Отдел детского безобразия — Меркуров — Тимоша — Михоэлс — Ахматова, Вечер Победы — Кремлевские письма — Постановление — Опять Качалов — Куоккала — Общая тетрадь — Лисички — Толбухин
«Я боюсь читать Пушкина: я всегда плачу. Я не могу без слез читать Пушкина. Цявловская на фотографии мне написала: „Моей дорогой пушкинистке“. Я больше тридцати лет прожила в доме Натали на Большой Никитской. Там большие комнаты разделили на коммунальные клетушки: я жила в лакейской».
Еще во времена своих «Университетов» Раневская устроилась в «клетушке» на Большой Никитской, переименованной потом в улицу Герцена. Этот двухэтажный, вросший в землю флигель, где сейчас какая-то контора, принадлежал когда-то семье Натальи Гончаровой. Отсюда поехала она венчаться с Александром Сергеевичем в церковь Большого Вознесения, расположенную неподалеку.
Раневской досталась часть лакейской на первом этаже. Здесь она жила, иногда недолго — успевала лишь повидать премьеры московских театров, отдохнуть после поездок, съемок. Камерный театр был рядом, поблизости, в Брюсовском переулке, жил Василий Иванович Качалов.
«Я так нежно его любила, он дарил меня своей дружбой. Мне хочется, чтобы его не забывали, как забываются обычно самые большие артисты. Бывала у него постоянно, вначале робела, волновалась, не зная, как с ним говорить. Вскоре он приручил меня и даже просил меня говорить ему „ты“ и называть его Васей. Но я на это не пошла. Он служил мне примером в своем благородстве… Я присутствовала при том, как Василий Иванович, вернувшись из театра домой, на вопрос жены режиссера Нины Литовцевой — как прошла репетиция „Трех сестер“, где он должен был играть Вершинина, ответил: „Немирович снял меня с роли и передал ее Болдуману. Владимир Иванович поступил правильно. Болдуман много меня моложе, в него можно влюбиться, а в меня уже нельзя“. Он говорил, что нисколько не обижен, напротив, что он приветствует это верное решение режиссера, и все повторял, что Немирович умно поступил по отношению к спектаклю, пьесе, к Чехову — а я представила себе, сколько злобы, ненависти встретило бы подобное решение кем-то другим из актеров даже большого масштаба. Писались бы заявления об уходе из театра, жалобы по инстанциям, я была свидетельницей подобного».
Сохранилось письмо Качалова, написанное в 1939 году Раневской на улицу Герцена, в нем есть такие строки:
«Только о своем здоровье и думайте. Больше ни о чем пока! Все остальное приложится — раз будет здоровье. Право же, это не пошляческая сентенция. Ваша „сила“ — внутри вас, ваше „счастье“ — в вас самой, — в вашем таланте, который конечно победит, не может не победить — всякое сопротивление внешних факторов прорвется через все „несчастья“, через всякое „невезение“…»
Отсюда, с улицы Герцена, в начале войны Раневская уехала в Ташкент. Сюда в 1943 году мы вернулись вчетвером — Фаина Георгиевна, Павла Леонтьевна — моя бабушка, Наталья Александровна — Тата и я. Мама временно осталась работать в Ташкенте на кинофабрике. Я скучал, ждал маму. Ее фотографию хранил под подушкой, часто доставал, и мы смотрели друг на друга. Бабушка учила меня произносить все буквы, особенно «р». Это было делом ее чести. Мы ждали приезда мамы.
Поезд пришел поздно вечером, я уже спал. Когда увидел маму утром — вскочил в своей кровати, вцепившись в перекладину, и сказал: «На горе Арарат растет крупный виноград!!!»
Мама меня очень любила, обо мне и говорить нечего. Когда приходили к нам домой актеры, я поначалу радовался, а кончалось это всегда одинаково: они уводили маму с собой в театр, я должен был засыпать без нее — опять не было ни папы, ни мамы.
Наши смежные и одна отдельная узкая комната без двери отапливались высокой круглой металлической печкой-колонкой — из черного гофрированного железа. Запах талого снега и березовых дров, может быть, самый дорогой запах первых московских лет после эвакуации. Раневская очень любила топить со мной эту печку. Обжигаясь, она забрасывала поленья в топку с характерным сопровождением: «С-с-с-раз-с», а потом подолгу смотрела на огонь, говорила о его чудесных превращениях, загадках и красоте. Дрова, сложенные у стенки во дворе, нам приносил любимый дворник Фаины Георгиевны — татарин Абибула, весьма колоритная фигура в колючей щетине и со шрамами на пальцах огромных рук. Казалось, он весь пропах сырыми дровами и тающим снегом. По праздникам Фаина Георгиевна и Тата подносили ему рюмку водки и внушительных размеров бутерброд с колбасой или вареным мясом. Он садился в большой комнате, а Фуфа жадно следила за ним, впитывая неповторимость этого человека.
Одно из четырех окон нашей лакейской выходило в проход, где лежали во дворе дрова. Окно было скрыто глухой частью ограды — с улицы Герцена его не было видно. Ворота были открыты — створок просто давно не было. Проходящие мужчины часто забегали во двор и в углу у окна, о котором они на улице не догадывались, совершали процесс. Это был кошмар для нашей Таты, которая готовила в комнате обеды на подоконнике этого окна. За двойным стеклом она отчаянно жестикулировала, стучала, стараясь остановить стоящего рядом с ней нарушителя, который часто этих протестов не замечал. Ее крики хорошо были слышны только Фаине Георгиевне, которая из комнаты с интересом наблюдала за действующими лицами. Молчаливый посетитель за стеклами быстро уходил. Потом все неизбежно повторялось другим исполнителем.
Наша дорогая Тата всегда «болела» за свою Одессу, где она родилась, где осталась ее сестра Лиза, племянники. Оккупация Одессы была ее горем. Однажды мы увидели в окно возвращающуюся из магазинных очередей Тату, размахивающую руками еще с улицы — что-то случилось. Тата жестикулировала, кричала через глухие стекла нам в комнату — Раневской и бабушке, ловила вставную челюсть. Мы выбежали во двор: нашими войсками была взята Одесса.
Так же мы узнали об освобождении Киева.
К нам заходили военные — в шинелях, уже с погонами. Раневская всегда благодарила их, наливала им водки. Почему-то я запомнил их радость, как они осторожно выпивали из стакана в плохо освещенной комнате и их улыбку с блеском тонкой полоски водки, оставшейся между губами.
Дома, у железной печки, я часто капризничал, и тогда Фуфа придумала инструмент моего укрощения. Эта мысль могла родиться только у нее и лишь в послевоенной Москве — несуществующий «Отдел детского безобразия». Фаина Георгиевна набирала по телефону какой-то «секретный» номер и просила прислать специалиста по детскому безобразию. Я мгновенно замирал, и все обходилось. Однажды мои капризы затянулись, и после «вызова» в дверях показался огромный человек в полушубке с поднятым воротником, замотанный в шарф, в валенках, очках и шапке, и низким голосом потребовал нарушителя. Конечно, это была Раневская, изображающая сотрудника «Отдела». И конечно, я ее не узнал. Мне было страшно, как никогда. Домашние уговорили «сотрудника» не забирать нарушителя, так как он обещает исправиться. В передней «униформа» была скинута и спрятана. Фуфа вернулась веселой, а я некоторое время вел себя хорошо.
К Фаине Георгиевне часто приходили друзья. Был как-то скульптор Меркуров. Павла Леонтьевна обсуждала с Меркуровым памятник Пушкину скульптора Опекушина, установленный в начале Тверского бульвара, восхищалась им и ругала памятник Тимирязеву в конце того же бульвара. Спросила возмущенно: «Вы не знаете, кто автор этого безобразия?» — «Я», — ответил Меркуров. Фаина Георгиевна была очень смущена.
В 1946 году Раневская несколько раз брала меня с собой в дом Горького — бывший особняк Рябушинского, около храма Большого Вознесения. В полумраке мы поднимались по сказочной лестнице. Раневская часто бывала там у своей подруги Надежды Алексеевны Пешковой, жены Максима Пешкова, сына Горького.
В 1922 году Горький уехал со своим сыном и невесткой в Италию. Там очаровательная молодая Надежда Алексеевна, следившая за европейской модой, решила отрезать свою роскошную косу. На следующий день короткие волосы непослушно выбились из-под шляпы. Горький, увидев это, заметил, что раньше в России кучеров звали Тимофеями — их кудри торчали из-под шапок. Так и осталось за Надеждой Алексеевной это имя — Тимофей, Тимоша.
Фаина Георгиевна очень любила Тимошу Пешкову. Тимоша училась в Италии живописи — в их доме бывали Александр Бенуа, Павел Корин и другие художники. В Москве после войны Тимоша написала портрет Фаины Георгиевны — в темно-зеленом бархатном жакете, худая, с папиросой, и сам Павел Корин слегка поправил его. Этот портрет потом долго висел у Фаины Георгиевны дома — большое горизонтальное полотно. Потом он исчез — Раневская передала его в Бахрушинский музей.
У Пешковой Фаина Георгиевна встретилась с Валентином Берестовым, ставшим впоследствии известным поэтом:
«Была у Тимоши, сидел там мальчик, приехавший из Ташкента, поэт — 16 лет. Ахматова считает, что этот юноша одарен очень, но дарование его какое-то пожилое. Валя Берестов. Я всмотрелась в глаза. Глаза умные, стариковские, улыбка детская. Ужасно симпатичен. Влюблен в Пастернака, в Ахматову».
«Я очень любила Тимошу — она была прелестна и много моложе меня… Тимоша часто оставляла меня, не отпускала, ждала, пока все уйдут, чтобы поговорить».
Среди записей этих разговоров есть и такие:
«У души жопы нет, она высраться не может», — сказал Горькому Шаляпин, которого мучила невозможность освободиться от переполнявших его душу чувств, когда ему сунули валерьяну перед выходом на сцену.
Сам Горький шутил о своих знакомых и домочадцах: «20 жоп кормлю».
«Весь день лежала в тоске отчаянной. Вечером пошла по просьбе молодой Пешковой к ним на заседание в связи со скорой датой — 80 лет со дня рождения Горького. Маршак, Федин, Всеволод Иванов, художники, музейщики и сама вдова, маленькая старушка. Андреева в параличе. У Пешковых в доме любят Андрееву, а „законную“ терпят и явно не любят. Я люблю бывать в этом доме, люблю Горького.
Похвалила Федина за последний роман, он был рад по-детски. И засиял глазами — у него породистое, красивое лицо».
В 1976 году Раневская сделала приписку: «Он сволочь».
Давняя дружба связывала Раневскую с Михоэлсом.
Вспоминая ужин в гостинице в Киеве, Фаина Георгиевна писала:
«В „Континентале“ — Соломон Михайлович, Корнейчук и я. Ужин затянулся до рассвета. Я любуюсь Михоэлсом, он шутит, смешит, но вдруг делается печальным. Я испытываю чувство влюбленной, я не отрываю глаз от его чудесного лица. Уставшая девушка-подавальщица приносит очередное что-то вкусное. Михоэлс расплачивается и дарит подавальщице 100 руб. — в то время, перед войной, большие деньги. Я с удивлением смотрю на Соломона Михайловича, и он шепчет, наклонившись ко мне: „Знаете, дорогая, пусть она думает, что я сумасшедший“. Я говорю: „Боже мой, как я люблю вас“.»
В конце войны, в 1944 году, Михоэлс во главе Еврейского антифашистского комитета вернулся из поездки в Америку. Раневская пришла к нему домой, в его комнату с вечно гудящим за стеной лифтом.
«Он лежал в постели, больной, и рассказывал мне ужасы из „Черной книги“; он страдал, говоря это. Чтобы чем-то отвлечь его от этой страшной темы одного из кругов, не рассказанных Данте, я спросила: „Что вы привезли из Америки?“ Соломон Михайлович усмехнулся: „Мышей белых жене для работы, а себе… мою старую кепку“. Мой дорогой, мой неповторимый».
В составе Комитета по Сталинским премиям Михоэлс был на спектакле Московского театра драмы «Капитан Костров», выдвинутом на Сталинскую премию, в котором играла Раневская. Для этой роли Раневская научилась играть на аккордеоне. Я помню, как повторяла Фаина Георгиевна дома свою частушку, которую она сама нашла и пела в этом спектакле, аккомпанируя себе на аккордеоне: «Ну-ка встану, погляжу, хорошо ли я лежу!» Не знаю, получила ли Фаина Георгиевна одну из своих Сталинских премий именно за этот спектакль, но вспоминала об этом она так:
«Играю скверно, смотрит комитет по Сталинской премии. Отвратительное ощущение экзамена. После спектакля дома терзаюсь. В два часа ночи звонок телефона: „Дорогая, простите, что так поздно звоню, но ведь вы не спите, вы себя мучаете. Ей-богу, вы хорошо играли, спите, перестаньте мучаться. Вы хорошо играли и всем понравились“. Это была неправда. Но кто, кроме Михоэлса, мог так поступить? Никто, никто не мог пожалеть так».
Вскоре Фаина Георгиевна написала Михоэлсу письмо с просьбой о помощи ее другу — Елене Сергеевне Булгаковой, вдове Михаила Афанасьевича. В этом письме есть такие строчки:
«Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна, не испытала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков».
Раневская написала, узнав, что Елене Сергеевне, вдове опального писателя, получавшей пенсию в 12 рублей, не выдавали полагавшиеся всем пенсионерам соль и спички.
Фаина Георгиевна вспоминала:
«Елену Сергеевну Булгакову хорошо знала. Она сделала все, чтобы современники поняли и оценили этого гениального писателя. Она мне однажды рассказала, что Булгаков ночью плакал, говоря ей: „Почему меня не печатают, ведь я талантливый, Леночка“. Помню, услышав это, я заплакала».
Неподалеку от нашего дома на Герцена находился Дом литераторов — считается, что эта городская усадьба послужила Льву Толстому прототипом дома Ростовых в романе «Война и мир». Здесь с Фаиной Георгиевной и бабушкой мы иногда гуляли в полукруглом дворике, а вечером ходили в Дом кино, расположенный напротив. Теперь там Театр киноактера, который Фаина Георгиевна с ненавистью называла «Рога и копыта», имея в виду хаос, или, как она любила говорить, «бедлам», царивший в подобных учреждениях.
В 1945 году Раневская повела бабушку и меня в этот Дом кино на мультипликационный фильм Уолта Диснея «Бэмби». Это был трофейный фильм, которых после войны было много. В титрах перед этими фильмами всегда было написано: «Этот фильм взят в качестве трофея после войны с немецко-фашистскими захватчиками». Раневской очень нравился диснеевский «Бэмби», а когда шла военная кинохроника, где показывали убитых и раненых, она закрывала мне рукой глаза — хотела таким образом уберечь от зла пятилетнего мальчика.
Всю жизнь в быту нас преследовал железный эмалированный зеленый таз огромных размеров, заменявший всем ванну. Горячей воды не было, воду грели на электроплитке, наливали ее из чайника в таз. Он был с круглым дном, неустойчивый, гремел и постоянно опрокидывался. Я его ненавидел. А ташкентское сюзане — настенный ковер, приехавший с нами в Москву, в конце концов полюбил, так и не разгадав смысла его орнамента.
В этой же комнате, где висело сюзане, принимали Анну Андреевну Ахматову, для которой Фаина Георгиевна просила меня, уже подросшего, читать ахматовское:
Мурка, не ходи, там сыч
На подушке вышит,
………………………
Я боюсь того сыча,
Для чего он вышит?
Мне не было страшно, но я подчинялся требованию Раневской впадать во власть стихов Анны Андреевны и начинал бояться темноты и образа сыча в другой комнате.
Анну Андреевну после Ташкента я видел только на улице Герцена, в моем раннем детстве, но ее образ остался в памяти. Я благодарен Фаине Георгиевне за то, что видел Ахматову, забыть которую невозможно.
Когда я спрашивал Фаину Георгиевну о Гумилеве, Мейерхольде, Мандельштаме, Блюхере, о судьбе исчезнувших людей, многих из которых она знала, Фаина Георгиевна молча складывала руку в кулак так, будто сжимала револьвер, и большим пальцем беззвучно производила воображаемый выстрел. Я хорошо помню этот жест, ее выразительный взгляд и безмолвное — чтобы никто не услышал? — объяснение.
Случилась бы еще одна непоправимая трагедия, если бы и она попала под сталинский каток. А Сталин знал ее и говорил (она рассказывала это со слов Эйзенштейна): «Вот Жаров в разном гриме, разных ролях — и везде одинаков; а Раневская без грима, но везде разная».
Американский журнал «Лук» в 1944 году опубликовал отзыв президента своей страны о Раневской и о кинофильме «Мечта»:
«В Белом доме картину видел президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт; он сказал: „Мечта“, Раневская, очень талантливо. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская — блестящая трагическая актриса».
Весной 1945-го мама и Тата забрали меня на Пушкинскую улицу (теперь опять Большая Дмитровка), в дом, где магазин «Чертежник», — и мы втроем стали жить в одной комнате большой коммуналки. Там я застал День Победы. Это был вечер неповторимого дня. Квартирный сосед посадил меня на шею и пошел вниз по улице Горького — к Манежной площади. Все было заполнено людьми — я видел сверху море человеческих голов. Черное небо было в столбах света — прожекторах. Ярко горели в небе над американским посольством (оно было тогда рядом с «Националем») три флага — английский, американский и наш, советский. Другой, невидимый снизу, аэростат нес портрет Сталина, так же ослепительно освещенный. Залп салюта — и прожекторы в панике заметались, перекрещиваясь и разбегаясь, пока не замерли в оцепенении и ожидании: новый залп, букеты распадающегося в небе цветного салюта, и так много раз.
Потом в память Победы выпустили игрушку-трещотку «Салют», она долго продавалась: сожмешь ручки — колесо крутилось и, разгоняясь, летели веселые огоньки…
Летом 1945 года, за год до своего пятидесятилетия, Фаина Георгиевна тяжело заболела — легла в больницу, о которой потом отзывалась: «Кремлевка — это кошмар со всеми удобствами».
Василий Иванович Качалов был у нее перед операцией, а сразу же после нее Раневская получила от него письмо:
«Кланяюсь страданию твоему. Верю, что страдание твое послужит тебе — к украшению и ты вернешься из Кремлевки крепкая, поздоровевшая, и еще ярче засверкает твой прекрасный талант.
Я рад, что эта наша встреча сблизила нас и я еще крепче ощутил, как нежно я люблю тебя.
Целую тебя, моя дорогая Фаина. Твой Чтец-декламатор. 25.VIII».
После операции Раневская надиктовала письмо для Ахматовой.
«28. VIII. 45 г.
Спасибо, дорогая, за вашу заботу и внимание и за поздравление, которое пришло на третий день после операции, точно в день моего рождения, в понедельник.
Несмотря на то, что я нахожусь в лучшей больнице Союза, я все же побывала в дантовом аду, подробности которого давно известны. Вот что значит операция в мои годы со слабым сердцем. На вторые сутки было совсем плохо, и вероятнее всего, что если бы я была в другой больнице, то уже не могла бы диктовать это письмо.
Опухоль мне удалили, профессор Очкин предполагает, что она была незлокачественная, но сейчас она находится на исследовании.
В ночь перед операцией у меня долго сидел Качалов В. И… мы говорили о вас.
Я очень терзаюсь кашлем, вызванным наркозом, глубоко кашлять с разрезанным животом — непередаваемая пытка. Поклонитесь моим подругам…»
В августе 1946 года было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) о закрытии журнала «Ленинград» и смене руководства журнала «Звезда» с уничтожительной критикой поэзии Анны Ахматовой и прозы Михаила Зощенко.
Раневская была в это время в Ленинграде.
«Вспомнила, как примчалась к ней после „Постановления“. Она открыла мне дверь, в доме было пусто. Она молчала, я тоже не знала, что ей сказать. Она лежала с закрытыми глазами. Я видела, как менялся цвет ее лица. Губы то синели, то белели. Внезапно лицо становилось багрово-красным и тут же белело. Я подумала о том, что ее „подготовили“ к инфаркту. Их потом было три, в разное время».
«В 46-м году я к ней приехала. Она открыла мне дверь, потом легла. Тяжело дышала. Об „этом“ мы не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу и, подведя меня к газете, прикрепленной к доске, говорила: „Сегодня хорошая газета, меня не ругают“. Долго молчала: „Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины“ — и опять помолчала. Я пригласила ее пообедать: „Хорошо, но только у вас в номере“ — очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных ее дней спросила: „Скажите, вам жаль меня?“ — „Нет“, — сказала я, боясь заплакать. — „Умница, меня нельзя жалеть“.
„А знаете, в Европе не любят стихов“. — „А это потому, что Запад мещанин“, — сказала я. А. А. понравилось то, что я назвала Запад мещанином».
Они вновь возвращались к сожженной и потом частично восстановленной ташкентской пьесе Ахматовой, где она угадала случившееся с ней в 1946 году:
«В пьесе был человек, с которым героиня вела долгий диалог, которого я не поняла, отвлеченный, философский и, по словам Анны Андреевны, этот человек из пьесы к ней пришел однажды, и они говорили до рассвета; об этом визите она часто вспоминала, восхищаясь ночным собеседником, а в Комарове показала мне его фотографию».
Раневская так и не открыла нам имя этого человека.
«Она любила говорить о матери, с нежностью говорила, умилялась деликатности матери. О ее сестрах, рано умерших, не вспоминала. Говорила о младшем брате, его недоброте».
В 1946 году осенью я увидел на Тверском гуляющего Василия Ивановича Качанова — в сером пальто в елочку, значительного, очень красивого. Иногда рано утром Василий Иванович тихо стучался в окно к Фаине Георгиевне на Герцена, и она выручала его рюмкой водки. На столе Раневской, за которым она и Павла Леонтьевна работали (этот стол жив), стояли фотографии двух актеров — Веры Федоровны Комиссаржевской (с дарственной надписью бабушке) и Василия Ивановича Качалова, закуривающего папиросу, с его надписью: «Покурим, покурим, Фаина, пока не увидела Нина». Нина — может быть, жена Качалова, а может быть, давняя подруга Раневской — Нина Сухоцкая.
Раневская писала:
«Какая прелесть был Качалов, от него тоже свет был. Он был добрый ко мне, он любил смешное, я собирала смешное и несла ему домой, наслаждаясь тем, что повеселила его. В последние годы был он испуган, страшился смерти, не мог примириться с неизбежным. Часто повторял: неужели не буду ходить по Тверскому бульвару, — я видела, как он мучился этой мыслью, слишком баловала его жизнь, чтобы с ней расстаться навсегда.
Был редкостно добрым, узнав, что в театре, где я работаю, появился актер, с которым они вместе играли в Казани, совал мне деньги с просьбой отдавать их старому приятелю и просил меня не говорить, что это от него. Сердился на меня за то, что я говорила ему „вы“. В театре вся молодежь звала его „Васей“ и говорила ему „ты“, а у меня не выходило, не могла, а он обижался…
Видела его нечеловеческие муки, когда сын его Вадим где-то пропадал; ничего о нем не зная, куда-то все стремился попасть, чтобы узнать о сыне. Видела его в горе. Видела, как он страдал, когда схватили Мейерхольда, и все просил меня узнать, жив ли он? Мучило его все то, что мучило и меня, и не всегда потом я узнавала о реабилитации, но Качалова уже не было тогда…»
В 1946–1947 годах Фаина Георгиевна часто брала меня с собой на «Мосфильм». Так я попал на просмотр кинопроб «Слона и веревочки». Шли куски с Наташей Защипиной. Фаина Георгиевна восхищалась ее органичностью, способностью не замечать камеры. Наташе было тогда 7 лет. Нас познакомили, потом устроили совместную запись на радио в детской передаче, где мы читали стихи Агнии Барто «Дом переехал» и другие. Помню, в студии, расположившейся на задах теперешнего кинотеатра «Россия» (нет, уже надо писать «теперешнего кинотеатра „Пушкинский“»), магическое действие на меня произвели стены в дырочку и команда взрослой женщины: «Мотор!» И то, что Фаина Георгиевна совершенно не боялась.
Летом 1947 года мы отдыхали втроем — Фуфа, бабушка и я — на Финском заливе в доме отдыха в Куоккале, теперь это Репино (или уже нет?).
Почему-то мне запомнились соседи по столу в доме отдыха. Один, подыгрывая Раневской, спрашивал меня: «А ты знаешь, как по-английски — „мальчик“?» Я не знал. Тогда он самовлюбленно читал стишок:
По-английски «мальчик» — пай,
а по-русски — плакса;
по-английски будет «чай»,
а по-русски — вакса.
Другого соседа Раневская иногда показывала. Садясь за обеденный стол, она надевала воображаемые близорукие очки и, наклоняясь вплотную к тарелке, делала паузу, рассматривая пищу, и потом с негодованием резко отодвигала тарелку и, картаво, гипертрофируя акцент, возвещала: «Не интеррэсная еда!» Когда соседи задерживались, мы с бабушкой нетерпеливо ждали повторения Фуфой этой сценки.
Помню нашу полутемную комнату в Куоккале — на троих — и наши совместные с Фуфой подарки бабушке — букетики земляники.
А еще Фаина Георгиевна много раз обещала повезти меня на экскурсию по линии Маннергейма, произнося это имя со скрытым страхом и уважением. Да так и не вышло… Воронок от снарядов Раневская боялась необычайно, особенно после того, как в одной из них увидела снаряд. Часто нам попадались и бетонные доты, наводившие на Фуфу ужас. Приморье Раневская очень любила, дышала там жадно, восхищалась соснами, песком, дорогами.
Полтора года, с ноября 1946 года по июнь 1948-го, Фаина Георгиевна вела дневник, скорее, записи. Родители мои разошлись, я был с мамой и поначалу назывался Алексей Вульф. Меня готовили к школе. Общую тетрадь, купленную Раневской в Ленинграде, в которой она потом вела дневник, Фаина Георгиевна так и надписала своей рукой: «Ученика Алексея Вульф. Москва», а потом небрежно зачеркнула.
Вот эти пятнадцать листов ее дневника:
«46 г. ноябрь. „Разговор по душам с самой собой“.
Сейчас смотрела Качалова в кино — барон. Это — чудо, как хорошо. Это совершенно. Шла домой и думала: что сделала я за 30 лет. Что сделала такого, за что мне не было бы стыдно перед своей совестью? „Ничего“. У меня был талант, и ум, и сердце.
Где все это?»
«В искусстве путь всегда идет вверх, по раскаленной лестнице, но к небу» — Андерсен.
«Невинные души сразу узнают друг друга» — Андерсен.
Не помню, когда записана это. — «Сейчас я ползаю в луже грязной, смрадной. Играю на сцене плохо, как любительница в клубе. Не могу и боюсь играть „Лисички“. Декабрь — 47 г.».
«Откуда такая печаль?
Угнетает гадость в людях, в себе самой — люди бегают, носятся, скупают, закупают, магазины пусты — слух о денежной реформе — замучалась долгами, нищетой, хожу, как оборванка „Народная артистка“ — совсем не сплю. К счастью, мне очень мало надо. Не зря отказалась ехать в Прагу. Декабрь 47 г.».
«14 января 48 г.
Погиб Соломон Михайлович Михоэлс, не знаю человека умнее, блистательнее и нежнее его. Очень его любила, он бывал мне как-то нужен, необходим. Однажды я сказала ему: „Есть люди, в которых живет Бог; есть люди, в которых живет дьявол; и есть люди, в которых живут только… глисты. В Вас живет Бог!“ Он улыбнулся, задумался и ответил: „Если во мне живет Бог, то он в меня сослан“.
Однажды после какого-то убогого кутежа в ВТО мы возвращались на рассвете с компанией, в которой был Алексей Толстой, шли по Тверскому бульвару, и Толстой стал просить и хныкать, чтобы его пустили к Михоэлсу. „Пойдем к Соломону“, — умолял он Людмилу, но она не пустила.
Они — Толстой и Михоэлс — дружили и очень друг друга любили…»
«Вчера была у меня вдова Михоэлса (Анастасия Павловна Потоцкая), мне хотелось ей что-то дать от себя, а было такое чувство, что я не только ей ничего не могу дать, а еще и обираю ее. 28 февраля 48 г.».
«Вчера была Лиля Брик, принесла „избранное“ Маяковского, и его любительскую фотографию. Она еще женщина, благоухает довоенным Парижем, на груди носит цепочку с обручальным кольцом Маяковского, на пальцах — бриллианты. Говорила о своей любви к покойному… Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю. Я спросила: „Отказались бы и от Маяковского?“. Она не задумываясь ответила: „Да, отказалась бы и от Маяковского. Мне надо было быть только с Осей“. Бедный, она не очень-то любила его. Софья Сергеевна тоже много рассказывала о Маяковском, он был первый в ее жизни. Рассказала о том, какую нехорошую роль играл в ее отношениях с Маяковским Чуковский, который тоже был в нее влюблен. Когда они обе ушли, мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому и даже физически заболело сердце. Потом пришла Ирина Вульф и отвлекла от мыслей о Маяковском. Софья Сергеевна говорила, что Маяковский тосковал по дочери в Америке, которой было 3 года, во время ее последней встречи с Маяковским».
Кинодокументалист Василий Катанян в своей книге «Прикосновение к идолам» пишет о Софье Сергеевне Шамардиной, о которой упоминает Раневская в дневнике:
«Софья Шамардина познакомилась с поэтом еще в 1913 году, роман завязался пылкий и бурный. Красивая была. Одна из героинь „Облака в штанах“ (вторая — Мария Денисова). Шамардина пользовалась успехом у литераторов, с нею связаны имена Ховина, Чуковского, Северянина… Софья Сергеевна и Лиля Юрьевна до конца дней были в прекрасных отношениях. Шамардина была партийным ортодоксом, отсидела 17 лет, но это ее не отрезвило. И умерла она в доме для старых большевиков в Переделкино в 1980 году…»
Еще несколько записей из дневника Раневской в той же общей тетради:
«Сегодня была Бирман-Полубезумная, говорить может только о себе, и говорит только афоризмами, экспромтами. Говорит не умолкая и обо всем сразу.
Пришла без зова Андровская — жалкая, конченая».
«Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая и в его дикарей».
«Я кончаю жизнь банально — стародевчески — обожаю котенка и цветочки — до старости».
«Сегодня встретила „первую любовь“ — шамкает вставными челюстями, а какая это была прелесть. Мы оба стеснялись нашей старости».
«48 г., март. Миклухо-Маклай родился в 1846 г., а умер в 1888 г. Значит, он жил 42 г. И значит, 15 апреля 48 года — 60 лет со дня его смерти.
Не знаю ни одной человеческой жизни, которая бы так восхищала и волновала меня. В Ташкенте в эвакуации однажды к Ахматовой вошла степенная старушка. Ахматова мне сказала, что старушка в большой нужде. Они разговаривали об общих знакомых ленинградцах — светским тоном; по уходе старушки я узнала, что это была Миклухо-Маклай, но кто?
Как и чем ему приходится, я не спросила, наверное, от замученности жарой — пропустила и это, как многое пропустила в то время».
«Вот что я хотела бы успеть перечитать:
Руссо „Исповедь“
Герцен „Былое и думы“
Толстой „Война и мир“
Вольтер „Кандид“
Сервантес „Дон Кихот“
Данте
Всего Достоевского
Всё то, что люблю
Помимо этого: „Тома Сойера“
Лескова почти все
Бабеля (помню наизусть)
„Тартарен“ Доде
Лессаж „Хромой Бес“
Хотела бы прочитать всего Маклая».
«Будь верным, но о верности забудь! Коль хочешь быть богатым — бедным будь». — Навои.
«Вот и все» — надгробная эпитафия.
«Души же моей он не знал, потому что любил ее» — Толстой.
«Сегодня у меня обедала Анна Андреевна Ахматова, величавая, величественная, ироничная и трагическая — веселая и вдруг такая печальная, что при ней неловко улыбаться и говорить о пустяках.
Как удалось ей удержаться от безумия, для меня непостижимо.
Говорит, что не хочет жить, и я ей абсолютно верю. Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: „Зачем?“ Она ответила: „Чтобы нести свой крест“. Я сказала: „Несите его здесь“. Вышло грубо и неловко, но она на меня не обижается никогда. Странно, что у меня — такой сентиментальной — нет к ней чувства жалости или участия, не шевелятся во мне к ней эти чувства, обычно мучающие меня по отношению ко всем людям с их маленькими несчастьями.
Она называет это („Постановление“ ЦК) — „моя катастрофа“.
Рассказала, что к ней пришел циркач, канатоходец, силач полуграмотный, вскоре после „катастрофы“ — и стал просить ее или усыновить его, или выйти за него замуж. 29 мая 48 г.».
«Проводила Ахматову к Шервинскому. Одна шла домой. На обратном пути дождь загнал меня к писателям. Анекдоты, разговоры о заработках, скандал, крики жены из соседней комнаты — богатство, скупость, распутство, скука. Не покормили, вернулась ночью, съела завтрашний обед. 29 мая 48 г.».
«Третий час ночи. Знаю, не усну, буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне, и не одной, а с Павлой Леонтьевной. 29 мая 48 г.».
«Перерыла все я сумки, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки». Из записной книжки «Народной Артистки». 30 мая 48 г.
«Сейчас слушала „Карнавал“ Шумана — по радио. Плакала от счастья — пожалуй, стоит жить, чтобы такое слушать. Поплетусь в театр играть мою чепуху собственного сочинения. Ничего, кроме неловкости и стыда перед публикой, не испытываю за мое творчество в „Законе чести“. Хотела сделать что-то значительное, человечное, а вышла чепуха, хотя успех некоторый есть. 30 мая 48 г.».
«Перестала думать о публике и сразу же потеряла стыд! А может быть, в буквальном смысле „потеряла стыд“. — Ничего о себе не знаю».
«Есть люди, хорошо знающие, „что к чему“. В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Таким вождем с отмычкой — сейчас Охлопков. Талантлив, как дьявол, и циничный до беспредельности».
«Кто бы знал мое одиночество? Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной.
Но ведь зрители действительно любят? В чем же дело? Почему ж так тяжело в театре? В кино тоже Гангстеры и самый из них матёрый — неожиданно (зачеркнуто). Май 48 год».
«Хеська (Хеся Лакшина, жена Эраста Гарина, близкая подруга Раневской. — А. Щ.) сказала сейчас упавшим голосом, что разрешено снимать картины 16 режиссерам, она не попадает в это число, ни она, ни Гарин.
Кто же они?
Александров — 1
Ромм Мих. — 2
Пырьев — 3
Довженко — 4
Пудовкин — 5
Райзман — 6
Луков — 7
Роом Абрам — 8
Донской — 9
Юткевич — 10
Савченко — 11
Васильев — 12
Эрмлер — 13
Козинцев — 14
Трауберг — 15
неразб.»
«Именины Ахматовой. Она говорит, что Борис Пастернак относится к ней, как я к Павле Леонтьевне. Не встречала никого пленительней, ослепительнее Пастернака, это какое-то чудо — гудит, а не говорит, все время гудит что-то гениальное в нос. Я знала блистательных — Михоэлс, Эйзенштейн, но Пастернак поражает собой так, что его слушаю с открытым ртом. Когда они вместе — А. и П., то кажется, будто в одно и то же время солнце и луна и звезды и громы и молнии. Я была счастлива видеть их обоих вместе. Слушать их, любоваться ими. Люди, дающие наслаждение, — вот благодать! 25. июнь 48 г.».
«Небывалая жара в Москве. 33. Как в Ташкенте.
Нет денег, куда деваться в отпуск? Долги, долги, долги. Сколько сейчас времени? 2? 3? Начинают верещать птицы — светает. Июнь 48 г.».
На этом дневник в общей тетради кончается.
У Раневской на улице Герцена я часто слышал: «Хелман, Бэрди, „Лисички“.» «У меня получается пьяная баба», — слышалось от Раневской. «Нет, ты не баба, ты бабочка, ты пьяная птичка, лихая, чистая», — говорила моя бабушка своей Фаине.
«Где эти лисички?» — спрашивал я. Фаина Георгиевна как-то взяла меня с собой в Театр драмы — теперешний театр имени Маяковского на Большой Никитской, где Елена Ивановна Страдомская ставила тогда, в 45-м, «Лисички» Лиллиан Хелман. Мы долго брели по коридорам, потом Фуфа открыла какую-то дверь в зал на верхнем ярусе. Сцена, где она играла свои «Лисички», была далеко внизу, занавес раздвинут. «Тут я играю», — сказала Фаина Георгиевна. Я подумал: «Что можно сделать на таком пятачке, чтобы все любили Фуфу так же, как ее любят кинозрители? Сцена маленькая, а она такая большая! Наверное, она что-то скрывает, у нее есть какой-то секрет». Секрет, конечно, был — талант.
Это было после «Подкидыша», «Мечты», «Слона и веревочки», «Пархоменко», «Весны», «Золушки», после пятнадцати фильмов Раневской: все милиционеры — постовые и посольские на Большой Никитской, ее улице Герцена, где мы гуляли, — отдавали ей честь. Фаина Георгиевна требовала, чтобы я им отвечал.
Однажды осенью в новом черном пальто я, на беду Фаины Георгиевны, прислонился к окрашенной масляной краской стене. Для Раневской было вопросом чести вернуть меня в семью в первозданном виде. Она подняла на ноги персонал всех магазинов на Никитской площади, нашла наконец где-то в ателье скипидар, оттерла краску и только тогда повела меня домой.
В эти дни Фуфа привезла мне заводную машинку — сувенир от маршала Толбухина для ее «эрзац-внука». Наверное, выпросила у маршала этот обтекаемой формы темно-синий автомобильчик, размером с челнок зингеровской швейной машинки, с поперечным колесиком на брюшке. Хитрость трофейной игрушки была в том, что когда она подъезжала к краю стола, передок свешивался, центр тяжести перемещался и поперечное колесико, касаясь поверхности, отворачивало машинку от края пропасти — она никогда не падала на пол.
С Толбухиным Раневская встретилась в Тбилиси. Ее рассказы о Федоре Ивановиче были проникнуты удивлением, нежностью и совершенно лишены свойственной Раневской иронии. По-видимому, она нашла в маршале черты, каких не встречала раньше у военных.
Сохранилась удивительная фотография Фаины Георгиевны той поры. Она стоит в парке, высоко над городом, лицо в широкополой шляпе волнующе прекрасно.
И еще одна фотография с Толбухиным: сидят за столом, обедают, в руках рюмки, смотрят друг на друга. Оба молодые, счастливые…
Их дружба длилась недолго: в 1949 году Федор Иванович умер.
1948–1952
…Очевидно, мое богатство в том, что мне его не надо…
Лиза — Орлова — Тэсс — Ахматова — Румнев — Прикроватная тумбочка — Чуковский — Признания — Парторг
В 1947 году моя бабушка переехала на Хорошевку, там мы получили квартиру — вместе с мамой и Татой, — далеко от центра, без метро, в зеленом «писательском» поселке Москвы. Раневская осталась в центре, рядом с театрами, но через год тоже переехала с улицы Герцена в одну комнату коммуналки в Старопименовском переулке. Комната имела остекленный эркер, выходивший на стену соседнего дома, — такая вот печальная особенность ее нового жилища. Из-за этого там всегда царил полумрак, постоянно был включен торшер под большим желтоватым абажуром. У противоположной от окна стены стояла тахта Фаины Георгиевны.
Этот дом с эркерами, серый, углом заходящий в другой — Воротниковский — переулок, настойчиво напоминал Фаине Георгиевне о ее «публичном одиночестве», как говорил ее друг Василий Иванович Качалов. Раневская постоянно ездила к нам к «Лиле» на Хорошевку, где часто готовилась к спектаклям, радиозаписям, концертам и киносъемкам, бросая свою полутемную комнату.
С этой комнатой связаны визиты самых разных людей, друзей и гостей Раневской, легенды о целой галерее то и дело сменявшихся домашних работниц. Лиза была, пожалуй, самая яркая из них. Она очень хотела выйти замуж, вопреки своей малопривлекательной внешности. Фаина Георгиевна решила помочь. Как-то пришла к ней Любовь Петровна Орлова, сняла черную норковую шубу в передней и беседовала с Раневской в ее комнате. Лиза вызвала свою хозяйку и попросила тайно дать ей надеть всего на полчаса эту шубу для свидания с женихом, дабы поднять свои шансы. Фаина Георгиевна разрешила. Домработница ушла. Прошел час. Любовь Петровна собралась уходить, но Фаина Георгиевна изо всех сил удерживала ее, не выпуская из комнаты. Лизы не было. Гостья пробыла у Раневской три часа, пока Лиза, войдя в переднюю, не хлопнула дверью. Орлова была отпущена на волю, а Фаина Георгиевна выплакала эту историю моей бабке — Павле Леонтьевне.
Ей же она поведала и о решительности своей домработницы в вопросах быта. Однажды Фаина Георгиевна услышала требовательный украинский говорок Лизы, разговаривающей по телефону: «Это дезинфекция? С вами ховорить народная артистка Раневская. У чем дело? Меня заели клопи!»
Иногда Фаина Георгиевна садилась на вегетарианскую диету и тогда становилась особенно чувствительна. В эти мучительные дни она спросила: «Лизочка, мне кажется, в этом борще чего-то не хватает». Лиза ответила: «Правильно, Фаина Георгиевна, не хватает мяса».
Внешне Лиза была очень похожа на Петра I, за что Раневская так и прозвала ее «Петёр Первый» и часто показывала, как Лиза, готовясь к свиданию, бесконечно звонила по телефону своим подругам: «Маня, у тебе бусы есть? Нет? Пока». «Нюра, в тебе бусы есть? Нет? Пока». «Зачем тебе бусы?» — спрашивала Фаина Георгиевна. «А шоб кавалеру было шо крутить, пока мы в кино сидим», — отвечала та. Когда замужество наконец состоялось, Раневская подарила ей свою только что купленную роскошную кровать — для продолжения Лизиного рода. А сама так до конца жизни и спала на тахте. «У меня хватило ума глупо прожить жизнь», — записала позже Фаина Георгиевна.
«Поняла, в чем мое несчастье: скорее поэт, доморощенный философ, „бытовая“ дура — не лажу с бытом! Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть; у всех есть „приятельницы“, у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду ношу старую, всегда неудачную. Урод я», — записала Раневская.
При внешней доброжелательности Фаина Георгиевна была в своеобразных переменчивых отношениях почти со всеми своими постоянными поклонницами. Второстепенная деталь или на первый взгляд незначительное наблюдение могли вывести ее из неустойчивого равновесия, и Раневская подвергала лютому остракизму свою знакомую, чаще всего ставя ее в неловкое положение.
Раневская писала:
«…Я обязана друзьям, которые оказывают мне честь своим посещением, и глубоко благодарна друзьям, которые лишают меня этой чести.
У них у всех друзья такие же, как они сами, — контактны, дружат на почве покупок, почти живут в комиссионных лавках, ходят друг к другу в гости. Как я завидую им — безмозглым!»
В доме на Старопименовском часто бывала приятельница Фаины Георгиевны журналистка Татьяна Николаевна Тэсс, работавшая рядом в «Известиях». Сладкий «советский» стиль ее статей раздражал Раневскую, и иногда она называла ее продукцию «сопли в сахаре». Однако благодаря репортажам Тэсс Фаина Георгиевна позже создала несколько пародийных писем — к Татьяне Николаевне от ее «благодарного читателя», с которыми мы еще познакомимся.
Тэсс, которую Раневская в своих отзывах порой не очень жаловала расположением, совершенно растворялась в Раневской. У Татьяны Николаевны была машина, и она помогала в эти годы Фаине Георгиевне видеться с Анной Андреевной Ахматовой. Тэсс писала:
«…Когда Анна Андреевна бывала в Москве, я иногда заезжала за ней в дом писателя Виктора Ардова, где она обычно останавливалась, и привозила ее к Раневской.
Всякий раз, присутствуя при их встречах, я поражалась, до чего же двое этих близких друзей непохожи друг на друга.
Держалась Анна Андреевна со всеми очень просто и дружественно, что называется, на равной ноге, и все же ее величавость, ее „спокойную важность“, по словам Чуковского, чувствовал каждый, даже не знавший ее, где бы он с нею ни столкнулся: „даже в очереди за керосином и хлебом, даже в поезде, в жестком вагоне, даже в трамвае…“
Привезя Анну Андреевну к ее другу, я помогала ей раздеться, и она усаживалась в кресло. Седая, полная, с гордо посаженной головой, в старой шали, царственно наброшенной на плечи, она величаво сидела в кресле, красиво поставив свои маленькие, когда-то необычайно изящные ноги, в ту пору уже тяжело распухшие от болезни сердца. С легкой, порхающей вокруг губ улыбкой она слушала Фаину Георгиевну, а та, оживленная, обрадованная приездом Ахматовой, расхаживала по комнате, рассказывая одну смешную историю за другой. Потом вспоминала трудные дни, пережитые ими вместе во время войны и эвакуации, потом снова рассказывала забавный случай, блистательно разыгрывала какую-то сценку, острила, сверкала юмором, смеялась своим звучным, низким, заразительным смехом…
О своих потерях она рассказывает без сожаления и вздохов, а скорее с изумлением: как же это произошло — вот только что была у нее эта красивая вещь, которая ей очень нравилась, и вот уже и в помине нет, и неизвестно, куда она делась…
Однажды, когда я горько сетовала по поводу какой-то очередной ее пропажи, Раневская, махнув рукой, сказала:
— Ну что поделать? Очевидно, мое богатство в том, что мне его не надо…
На вопрос, как она себя сегодня чувствует, она может мрачно ответить:
— Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в паспорт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула…
Как-то она сказала:
— После спектакля, в котором я играю, я не могу ночью уснуть от волнения. — Потом помолчала и добавила: — Но если я долго не играю, то совсем перестаю спать.
Я видела однажды, как идет по двору к театральному подъезду седая задумчивая женщина в криво застегнутом пальто и обмотанном вокруг шеи шарфе, не видящая вокруг никого и ничего, кроме волшебного мира, который зреет в ней самой…»
Со Старопименовским переулком связано имя давнего друга Раневской — Александра Александровича Румнева, снимавшегося вместе с ней в сцене бала в фильме «Золушка», искусного графика и изысканного кавалера. Раневская называла его «Последний котелок Москвы». Он часто приходил к Фаине Георгиевне в ее полутемную комнату, они долго беседовали, он садился рядом и рисовал в своей тонкой, карандашной манере; часто засиживался допоздна. По меркам Лизы, обстановка была интимная. Раневская рассказывала, как однажды Лиза выразила ей своей протест: «Фаина Георгиевна, что же это такое?! Ходить-ходить, на кровать садиться, а предложения не делает?!»
Румнев прислал Раневской из Риги стихи:
Лечись от сплина,
Дружбе доверься,
О Фаина, —
Львиное сердце!
Через восемь лет Фуфа подарила мне на день рождения огромный том Льва Николаевича Толстого — «Анна Каренина», вспомнила милого ее сердцу Шуру Румнева и так надписала книгу: «Любимому человеку — „Старому приятелю“ Алешеньке в день его пятнадцатилетия с нежностью и уважением дарю „Льва“ с самыми добрыми пожеланиями и намерениями!
Фуфа („львиное сердце“)».
Раневскую писали, рисовали многие художники, но такого понимания ее характера, как в румневском карандашном портрете, я не помню ни в одном ее изображении. Этот замечательный почти эскиз — наверное, лучший портрет Раневской, — невероятно похожий на нее, Фаина Георгиевна очень любила. Он висел в ее затемненной комнате вместе с графикой Фалька, гениальным линейным рисунком Модильяни — портретом молодой Ахматовой.
К своему жилищу Раневская относилась как к печальной необходимости: было мягкое кожаное кресло с высокой спинкой, второе кресло отдала Павле Леонтьевне, неудобная, какая-то случайная тахта — Фуфа чаще всего сидела на ней, тумбочка около тахты. Вот эта тумбочка — ее отражение, ее характер. Наполненная, заставленная бесчисленными предметами ее жизни: маленькие ножницы, пинцеты, загадочное квадратное зеркальце в золотом портсигарном обрамлении, запорошенное пудрой, и сама пудра — «Рошаль»; круглые карманные часы в корпусе из желтой слоновой кости без крышки с колечком сверху — подарок Ворошилова; маленькие скальпели с черными ручками и карандаши, вечные ручки, из которых ни одна не пишет — в стеклянном стакане, блокнот. И почти все это повторяется на маленьком столе с зеркалом у стены, где стоят две-три фотографии ее близких, где Фуфа пишет, где она смотрит на себя, сидя на стуле перед уходом. Черный мягкий карандаш для глаз, красные круглые румяна — все бережно — красиво и небрежно. Ее взрослых интонаций я не понимал еще — Фуфа старательно маскировала при мне направление своих бесед, а прикроватная тумбочка напоминала ее, еще ташкентскую, жизнь, когда мне все прощалось и все окрашивалось Фуфой в цвет необычайного праздника и удачи нашего совместного существования на свете.
Может быть, на столе или тумбочке в старопименовской комнате записала Фаина Георгиевна эти строки:
«48 г. 9 янв. Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверской. Меня осаждали как всегда теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим ограничивается моя слава — „улицей“, — а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях. Чуковский рассказал, как однажды к Леониду Андрееву шла на свидание дама. Свидание было где-то на мосту, в Петербурге, и, конечно, тайное, т. к. дама была замужем. Андреев в то время входил в славу, за ним гонялись хроникеры-киношники, которые и засняли на пленку это свидание.
Рассказывал Чуковский интересно о Некрасове, читал его чудесные стихи, но не хрестоматийные, а настоящие, есть блоковские строчки, — рассказывал о любовных историях, страстях, картах, поездке за границу вслед за француженкой, которую он любил, игра на бирже и прочее — прелесть этот Некрасов…»
«26. 01. 48. Замучилась, денег не дают и, кажется, не дадут. Бегаю, сутяжничаю, занимаю по пятерке.
Сегодня была у Щепкиной-Куперник, которая рассказывала, что корректор переделала фразу „на камине стояли Марс и Венера“ в „Маркс и Венера“. Она говорила, что Ермолова была так равнодушна к деталям, что, играя Юдифь в „Уриель Акоста“, не снимала нательного креста, и никто не замечал этого, хотя крест был виден — не замечали, так играла Ермолова.
Гибель Михоэлса — после смерти моего брата самое большое горе, — самое страшное в моей жизни».
«Из всего хорошего, сердечного, сказанного мне публикой, самое приятное — сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь — уборщица мыла пол в пустом магазине. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами: „Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе. Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас (!!), а для нас, бедных, для народа вы самая лучшая, самая дорогая“. Я готова была ее расцеловать за эти слова. 22 июня 48 г.».
«Птицы ругаются, как актрисы из-за ролей. Я видела, как воробушек явно говорил колкости другому крохотному и немощному, и в результате ткнул его клювом в голову. Все, как у людей».
«Странно, абсолютно лишенная тени религиозности, я люблю до страсти религиозную музыку — Гендель, Глюк, Бах.
„So muss das alles eines werden, alles aus Einem entsprungen und zu Einem zurukkehren…“ Гете: „Все должно быть единым, вытекать из Единого и возвращаться в Единое“. Это для нас, для актеров, — основа!»
Приписка: «Кажется, теперь заделалась религиозной. 76 г.».
«Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и трава». Чехов. Восхитительно!!
«Осип Абдулов сказал, что если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня бы в тот же вечер выслали в город „Мочегонск“.»
1949 г. «Мне иногда кажется, что я еще живу только потому, что очень хочу жить. За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить, но я ему приказываю: „Бейся, окаянное, и не смей останавливаться“.»
В 1950 году Раневская написала официальную автобиографию, которую закончила так:
«…сейчас играю в Театре им. Моссовета.
В 1950 году исполнилось 35 лет моей театральной работы. За этот период я сыграла свыше 200 ролей в театре и 20 ролей в кино.
В начале работы я переиграла множество водевилей, комедий, мелодрам, названий которых сейчас не помню. Я сыграла множество ролей в пьесах русских классиков: Гоголя, Крылова, Сухово-Кобылина, Грибоедова, Островского, Горького, Чехова, Л. Толстого. Я сыграла множество ролей в пьесах советских драматургов: Билль-Белоцерковского, Афиногенова, Корнейчука, Шкваркина, Катаева, Тренёва, Луначарского, Юр. Лебединского, Лавренёва, Штейна, Сурова, Погодина, Файко и др.
Я сыграла много ролей и в пьесах западных классиков.
Во всех театрах несла общественную работу. Я выступала на заводах, в рабочих клубах, занималась развитием самодеятельности среди красноармейцев и краснофлотцев, ставила с ними спектакли. Я занималась с молодежью, делясь с ними моим опытом.
Народная артистка Республики, Лауреат Сталинской премии Ф. Раневская».
Раневская очень боялась, что ей могут предложить сотрудничать с КГБ — это в то время было распространено. Как отказаться, как быть? Один ее знакомый посоветовал в случае, если такое предложение поступит, сказать, что она кричит во сне. Тогда она не подойдет для сотрудничества и предложение будет снято. Однажды, когда Фаина Георгиевна работала в Театре имени Моссовета, к ней обратился парторг театра с предложением вступить в партию. «Ой, что вы, голубчик! Я не могу, я кричу во сне!» — воскликнула бедная Раневская. Слукавила она или действительно перепутала эти департаменты, бог знает!
1946–1955
В гостинице «номеров много, а Раневская у вас одна!»
Берггольц — Ахматова — Юнгер — Вечеслова — Сочи — Вертинский — Одесса — Ленинград — Записная крижка не писателя — Роскошный номер — Львов — Абдулов — Ипподром — Бессонница — Рига — «Рассвет над Москвой» — Мордвинов — «БМВ» — Ладынина — Зеленый форд — Комарово — Свердловск
Замечательный поэт Ольга Берггольц во время блокады оставалась в Ленинграде, голодала вместе со всеми. Зимой от истощения Берггольц упала на улице, кончились силы. Над ней из репродуктора чей-то голос читал стихи; она поняла, что это читает она сама. Больше не могла лежать — поползла, встала, выжила.
Раневская вспоминала:
«Вскоре после войны приехала в Ленинград. Меня встретили на вокзале Ольга Берггольц и Ахматова, которую предупредила телеграммой о дне и часе прихода поезда. Выйдя из вагона, я встала на колени и заплакала. Ольга сказала: „Так надо теперь приезжать в наш город“.
Ольга была еще блокадная — худущая, бледно-серая. Анна Андреевна — как всегда величественная.
Ахматова считала ее необыкновенно талантливой.
Так мало в мире нас осталось,
Что можно шепотом произнести
Забытое, людское слово „жалость“,
Чтобы опять друг друга обрести.
Ахматова говорила: „Беднягушка Оля, беднягушка“. Она очень ее любила».
Ленинградская актриса Елена Юнгер, игравшая одну из сестер в фильме «Золушка», вспоминала:
«Конец 45-го или начало 46-го года. Театр наш только что вернулся в Ленинград из Москвы, где задержался после эвакуации. Мы еще не успели получить квартиры, временно живем в гостинице „Астория“.
Не помню, по какому поводу у нас собрались друзья. На столе скромное угощение — рис с соленым укропом, еще что-то в этом роде. Для праздничности зажжены свечи. Ждем Танечку Вечеслову. С несвойственным ей опозданием является взволнованная: „Извините, пожалуйста. Встретила в холле Анну Андреевну Ахматову, она пришла навестить Раневскую. Фаина Георгиевна приехала на съемки, остановилась тут же, в „Астории“, этажом ниже. Пригласим их сюда, может быть, они не откажутся разделить нашу компанию“.
Срываюсь с места, бежим с Татьяной по ступенькам, по коридору, стучим в дверь. В небольшом номере, за столом, покрытым потертой бархатной скатертью, перед двумя стаканами с остывшим бледным чаем, — две великие старухи нашего века. Нет, тогда старухами они еще не были — две прекрасные, удивительные женщины. С Анной Андреевной я была знакома раньше. Фаину Георгиевну встретила впервые. Восхищалась ею в кино, но ни на сцене, ни в жизни никогда не видела. Меня поразила ее особая, я бы сказала, какая-то внутренняя элегантность, несмотря на легкую сутулость и очень простой, „незаметный“ костюм… Небрежно взбитая белоснежная прядь надо лбом и ярчайшие, все знающие, темные, острые глаза. Мы поднялись наверх. Свечи еще не погасли. Наши гостьи им очень обрадовались. И тут началось…
Тесноватый гостиничный номер вдруг расширился, как будто мощный поток свежего воздуха ворвался в накуренную духоту, невзирая на дым нагоревших свечей… Важное, таинственное чтение Анны Ахматовой завораживало, хрипловатый басок Фаины Раневской выдавал сверкающую россыпь блестящих острот. Забыты были стаканы с недопитым чаем, старательно сваренный рис с соленым укропом, все как бы вознеслось в совсем иную, высокую сферу.
Через несколько дней Вечеслова пригласила на „Дон Кихота“. Она танцевала Китри. С Фаиной Георгиевной и Анной Андреевной мы отправились в театр. Татьяна Вечеслова в этот вечер превзошла самое себя. Сорок лет прошло, а я вижу, как сейчас, этот волшебный, искрометный волчок — он звенит, кружится, взлетает… Стремительный каскад лихих, отточенных движений, лукавых улыбок, освещенных ослепительным сиянием загадочных фиалковых глаз. Мои необыкновенные спутницы, находясь вместе, создавали какую-то особую атмосферу. Все попавшие в их магическое поле вдруг незаметно для себя становились интереснее, живее, свободнее… Обе как зачарованные, не отрываясь, следили за сверкавшим на сцене фейерверком — они умели ценить и воспринимать прекрасное.
После этого вечера появились знаменитые стихи Ахматовой „Роковая девочка-плясунья“.
С Раневской мне выпало счастье сниматься в картине „Золушка“. Ее требовательность к себе не имела границ. Съежившись где-нибудь в углу, прячась от посторонних глаз, она часто сердито бормотала: „Не получается… Нет, не получается! Не могу схватить, не знаю, за что ухватиться…“
Во время съемок Фаина Георгиевна очень похудела и, гримируясь, безжалостно обращалась со своим лицом. Подтягивала нос при помощи кусочков газа и лака, запихивала за щеки комочки ваты. Все это было неудобно, мешало… „Для актрисы не существует никаких неудобств, если это нужно для роли“, — говорила она.
Я никогда не слышала от нее разговоров о портнихе (хотя считаю, что это важное лицо в жизни женщины, особенно известной актрисы), но одета она всегда была изящно, неброско, без особых украшений. Очень любила хорошие духи.
Не только талант — все в ней было удивительно и непостижимо: мужество, жизненная сила, неистощимый юмор, беспощадное отношение к себе. Не любила жаловаться. Когда бывало совсем плохо, писала: „О себе говорить не хочется“».
В шесть лет мама взяла меня на летние гастроли Театра Моссовета в Сочи. В 1946 году это был полупустой город, было малолюдно даже в центральном кафе «Лето». Когда в очередной раз я ждал окончания репетиций, на скамейке у служебного входа в роскошный сочинский театр, построенный перед войной, ко мне в тень под колонны подсел высокий незнакомый человек. Репетиция затянулась, и мой сосед принялся рассказывать нечто фантастическое, замысловатое и неправдоподобное. Часа через два вышла мама, незнакомец приподнял летнюю шляпу, попрощался и ушел. «Ты знаешь, кто с тобой сидел? — воскликнула мама. — Это же Вертинский!» Он был кумиром ее юности. Я ничего не понял, как многого по своей глупости и молодости не понимал.
А Раневская называла Вертинского «гениальной безвкусицей»; возможно, это было не единственное ее определение, она иногда меняла свои формулировки. Наверное, экзотика, о которой пел Вертинский, сердила ее. Во всяком случае, она имела право говорить так после высокой немецкой классики, музыки наших симфонистов, выступлений Рихтера, квартетов Шостаковича, дарившего ей свои пластинки. Она не сравнивала — просто хотела уйти в тот далекий «спокойный» XIX век, где жили Пушкин, Лермонтов, Толстой, Флобер, Сухово-Кобылин, Лесков и звучали старинные романсы — время, в котором прошло детство Павлы Леонтьевны и началась ее собственная жизнь. Начало XX века невольно связывалось ею с катастрофой, отъездом семьи и… появлением ариеток бледного Пьеро — молодого Вертинского, певшего о лиловых ирисах, цвет которых она все-таки полюбила на всю жизнь.
В 1948 году Фаина Георгиевна часто бывала в Ленинграде. Из ее «Записной книжки не писателя»:
«Ленинград, 48 г. Пастер: „Желание — великая вещь, ибо за желанием всегда следует действие и труд, почти всегда сопровождаемый успехом“.
Что же делать? Что делать, когда надо действовать, надо напрягать нечеловеческие усилия без желания, а напротив, играя с отвращением непреодолимым, — почти всё, над чем я тружусь всю мою жизнь?
В золотом небе плавали грязные, как лужицы, тучки. Собралась гулять, вдруг пришли гости, объелись и сидели печальные.
Как все влюбленные, была противная и глупая, грозилась скорой смертью, а тот, в ком надо было вызвать тревогу, лукаво посмеивался.
Деляги, авантюристы и всякие мелкие жулики пера!
Спутник славы — одиночество.
Опять литературные гости — опять нестерпимо грустно.
Торговали Душой, как пуговицами.
Я не верю в духов, но боюсь их».
Гастроли в Одессе. Раневская записала:
«Одесса. 49 год. Осень. В Москве можно выйти на улицу одетой, как бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение — это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамвае, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная „скупость“ — ибо в бедность никто не верит».
«Одесса. Сентябрь 49 года. Завтра уезжаю в Москву с ее холодными равнодушными знакомыми, влекомая тоскою по моей семье».
Валентин Маркович Школьников, директор-распорядитель Театра имени Моссовета, вспоминал: «На гастролях в Одессе. Встреча на улице. Одесситка долго бежала за нами, а потом спрашивает: „Ой, ви — это она?“ Раневская спокойно отвечает своим басовитым голосом: „Да, я — это она“.»
Кассирша, которая продавала в Одессе билеты в театр, любила повторять: «Когда Раневская идет по городу, вся Одесса делает ей апофеоз».
И в то же время Раневская написала карандашом на последней странице книги воспоминаний артиста МХАТа Василия Топоркова:
«Ничего кроме отчаянья от невозможности что-либо изменить в моей судьбе. 1950 год».
В Ленинграде Раневская писала:
«Апрель, 50 год. Ленинград. Как всегда в этом неповторимом городе — не сплю. Пасха. Играла в Манеже, который здесь существует для гастролей москвичей. Огромное, унылое, длинное здание, надо орать, пыжиться, трудиться в „поте лица“. Играю ужасно, постыдно плохо, грубо. Роль грубая, плохая и примитивная, как ситцевая баба для чайника. За что мне это? Роли не знаю, и не хочу знать. Зубрила, учила, долбила, но память не воспринимает того, что чуждо сердцу. Унижение, конфуз, принимает зал плохо. Разочаровываю зрителя. После спектакля ужин у милой Тани Вечесловой: веселой, талантливой, трагической семнадцатилетней Тани, которой скоро 40 лет. Потом ездили в церковь к заутрени, к службе опоздали, гнилые старухи клянчат подаяния; поп давал всем целовать крест. Потом обратился к прихожанам: „Православные, крестный ход ориентировочно в 9 утра“. Вокруг хулиганы с испитыми синими мордами. Вернулась в гостиницу в пятом часу. В вестибюле драка, кровь, молодая беленькая женщина била мужчину; била неистово, остервенело, сладострастно. Вокруг стояли люди и любовались великолепием зрелища. Колотилось сердце, было страшно, хотелось плакать. Почему же эту молящуюся и дерущуюся сволочь, сброд, подонков никуда не высылают?? В церкви наш спутник еврей коммунист зажигал свечку спичкой, как папиросу. Верующие сговаривались шепотком сделать нам „темную“.»
«…Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой „славе“ гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит оттого, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, а в действительности все наоборот. Любовь зрителя несет в себе какую-то жестокость. Я помню, как мне приходилось играть тяжелобольной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили „она больна“, публика отвечала: „А нам какое дело. Мы хотим ее видеть, и платили деньги, чтобы ее посмотреть“. А мне писали дерзкие записки: „Это безобразие! Что это вы вздумали болеть, когда мы так хотим вас увидеть“. Ей-богу, говорю сущую правду. И однажды после спектакля, когда меня заставили играть „по требованию публики“ очень больную, я раз и навсегда возненавидела „свою славу“.»
На гастролях с Раневской всегда случалось непредвиденное. Так, в Ленинграде в 1950 году ей был предложен роскошный номер в «Европейской» с видом на Русский музей, сквер, площадь Искусств. Раневская охотно заняла его и несколько дней в хорошем расположении духа принимала своих ленинградских друзей, рассказывала анекдоты, обменивалась новостями, ругала власть и чиновников. Через неделю к ней пришел администратор и очень вежливо предложил переехать в такой же номер на другой этаж. «Почему? — возмутилась Фаина Георгиевна. — Номеров много, а Раневская у вас одна». — «Да, да, — лепетал администратор, — но мы очень вас просим переехать, там вам будет удобнее». — «Мне и здесь хорошо», — отказалась Фаина Георгиевна. Пришел директор «Европейской» и, включив воду в ванной, объяснил, что ждет на днях высокое духовное лицо, этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством.
После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшиеся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет.
Во Львове было что-то необычайно волнующее Раневскую, она обожала бродить по его улицам. В то жаркое лето 1950 года вместе с Осипом Наумовичем Абдуловым и его женой Елизаветой Моисеевной она часто ездила в Стрийский парк; брали и меня. Здесь я наблюдал неповторимое сосуществование этих великих актеров, каждая минута которого была наполнена блистательными диалогами. Они поражали умением превратить незначительное событие в художественное произведение, своего рода литературный шедевр — легко, без усилий доводили слушателей до хохота и слез, когда начинает болеть диафрагма, а конца их волшебной импровизации не видно.
Осип Наумович был сильным человеком, много испытавшим в своей рано оборвавшейся жизни. У него умер в Ташкенте сын, он очень горевал. Его второй сын, Всеволод Абдулов, — сейчас известный актер. В то памятное лето мы не чувствовали всех горестей Осипа Наумовича. И я был поражен, когда после веселых часов прогулки в Стрийском парке вдруг увидел рядом с его кроватью протез — ему было трудно ходить.
Фаина Георгиевна вспоминала:
«Я его нежно любила. Тоскую и скучаю по нем по сей день. За многие годы жизни в театре ни к кому из актеров не была так привязана.
Это был актер редкостного дарования и необыкновенной заразительности. Играть с ним было для меня наслаждением.
Осип Наумович уговорил меня выступить с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова „Драма“. Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом. Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров.
Когда не стало Осипа Наумовича, я через некоторое время начала играть с другими партнерами, но вскоре прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было. И все роли, в которых прежде играл Осип Наумович, в исполнении других актеров проходили незамеченными.
Зрители знали и любили Осипа Наумовича Абдулова по театру, кино, эстраде. Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло меня. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. За долгую мою жизнь я не помню никого, кто так мог без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга.
Как актер он обладал громадным чувством национального характера. Когда он играл серба — был подлинным сербом („Министерша“), подлинный англичанин — „Ученик дьявола“, подлинный француз — „Школа неплательщиков“, подлинный грек — „Свадьба“ Чехова.
Вспоминаю его великолепное исполнение роли Лыняева в спектакле „Волки и овцы“, Сорина в чеховской „Чайке“. Эта работа особенно взволновала меня. Какая глубокая печаль уходящего, никому не нужного старика была показана им в этой роли! С какой мягкостью и вдохновением он ее играл!
Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадя себя. Он объяснял мне свою кипучую деятельность потребностью постоянного общения со зрителем. Он на все мои нападки неизменно отвечал: „В этом смысл моей жизни“.
Однажды после окончания ночной съемки в фильме „Свадьба“ Чехова, где он чудесно играл Грека, нам объявили, что машины не будет и что нам придется добираться пешком домой. Осип Наумович сердился, протестовал, долго объяснялся с администратором, но, тут же успокоившись, решил отправиться домой, как был — в гриме: с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске.
По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего Грека на языке, тут же им придуманном, свирепо вращал глазами и отчаянно жестикулировал, невероятно пугая идущих на рынок домашних хозяек.
Это была не только озорная шутка, это было творчество, неуемный темперамент, щедрость истинного таланта.
Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно отправлялись домой!
В гастрольных поездках, возвращаясь со спектакля, мы обычно ужинали у меня в номере. После ухода Осипа Наумовича, одна, вспоминая его рассказы, я долго хохотала, как филин в ночи, приводя в недоумение дежурную горничную. Осип Наумович шутил, уверяя меня, что наши ночные беседы его „скомпрометировали“, и будто он даже слышал, как дежурная горничная сокрушалась, что у него старая жена!..
Отказывать он не умел, был уступчив, без тени зазнайства. Куда бы нас ни звали выступать в сборных концертах, охотно давал согласие, а потом с виноватым видом говорил: „Дорогая, еще два шефских концерта, только два“ — и мы мчались куда-то очень далеко. Я сердилась, жаловалась на усталость, он утешал меня тем, что это „полезная“ усталость.
Помнится, как в день спектакля режиссер попросил его заменить внезапно заболевшего актера. Было это на гастролях во Львове, стояла нестерпимая жара. Мы поехали в парк; там, укрывшись в тени, он читал роль, боясь, что не успеет ее выучить к вечеру. Я подавала реплики. Волнуясь, как школьник перед экзаменом, он говорил текст роли, стараясь его запомнить. Глаза у него были детскими, испуганными, а ведь он был прославленным актером! Сыграл он экспромтом, сыграл превосходно, только утром жаловался на сердце, которое всю ночь болело. И сколько подобного было в его жизни!»
Фаина Георгиевна рассказывала, как Абдулов дает взаймы:
— Сколько вам нужно, Фаина? — спрашивал он.
— Ну, я не знаю, двадцать пять рублей, можно десять, — нерешительно назначала Раневская.
— Так сколько? Десять или двадцать пять? — настаивал Осип Наумович, опираясь обеими руками на свою палку.
— Двадцать пять, — уточняла Фаина Георгиевна.
Абдулов опускал руку во внутренний карман пиджака и моментально доставал двадцатипятирублевую купюру.
— Пожалуйста, — спокойно говорил он.
Другой раз — то же самое с пятью рублями, мгновенное касание внутреннего кармана — и пять рублей в его пальцах. Цифра не имела значения. Абдулов доставал ровно столько, сколько заказывала Раневская, не ошибаясь.
Меня восхищала его вишневая палка с ручкой. Она была причудливо инкрустирована каким-то желтым металлом. Была и другая — из толстого бамбука, с такой же бамбуковой гнутой ручкой очень красивого желто-янтарного цвета.
Под впечатлением абдуловских — Фаина Георгиевна подарила моей бабушке изящную, легкую палочку из какого-то невесомого дерева с изумительной ручкой из янтаря; палочка стала постоянной бабушкиной спутницей в старости, а позже — драгоценной памятью о Павле Леонтьевне в квартире Раневской.
Елизавета Моисеевна Абдулова вспоминала:
«Фаина Георгиевна Раневская больше всего любила одну историю, едва ли не самую грустную, о том, как в тридцатилетием возрасте Осип Наумович впервые почувствовал приступ грудной жабы.
Оставшись один в большой коммунальной квартире (семья и соседи выехали на дачу), измученный невыносимыми болями, он с трудом доползает до телефона, находит в абонентной книге адрес ближайшего врача и ощупью набирает номер. В трубке слышится старческий, дрожащий голос. Врач отказывается:
— Я не могу… Я сам болен… Что вам от меня нужно?
В отчаянии Осип Наумович цепляется за него, как за последнюю надежду. Умоляет, уговаривает, грозит:
— Если я умру, вы будете виноваты…
Кажется, вечность проходит, пока раздается наконец звонок. Задыхаясь, опираясь о стенку коридора, Абдулов добирается до двери, открывает…
На руки ему сваливается почти бездыханный старик, бормочущий:
— Зачем вы вызвали меня? Почему не дали мне спокойно умереть дома?
Глаза Осипа Наумовича выражают боль, ужас, сострадание.
Описание того, как пациент, забыв о собственных муках, дотаскивает на себе доктора до постели и, пользуясь его указаниями, приводит старика в чувство, сопровождалось всегда взрывами хохота.
Фаина Георгиевна стонала:
— О-о-о! Не могу! Осип, перестаньте! У меня сейчас будет инфаркт!
Пользуясь небольшой паузой, Осип Наумович внезапно добавлял:
— Я позвонил по этому телефону через несколько дней, когда мне стало лучше. Мне ответили: в среду доктора похоронили».
Во Львове Раневская была несколько раз.
Львов был очень дорог Раневской. Здесь снимали ее «Мечту». Город, пронизанный прежним, довоенным, польским духом, был похож на старую, еще не разрушенную Варшаву. Раневская ездила в Польшу, была очарована Краковом, этюды с видами этого города всегда висели у нее в комнатах.
На съемках «Мечты» в Западной Украине хозяйка квартиры говорила ей: «Пани Раневская, эта революция таки стоила мне полздоровья».
В свободный день Фаина Георгиевна решила поехать со мной на ипподром. Очевидно, она задумала эту акцию еще в Москве, ведь мы жили на Беговой, рядом с ипподромом, но в 1949 году он сгорел и был надолго закрыт. Как всегда, Фуфа хотела сделать своему «эрзац-внуку» подарок. Довольно быстро насладившись видом лошадей, Раневская вошла в азарт и стала делать ставки на различные номера в заездах, все больше втягиваясь и раз от разу проигрывая все больше. Кончилось тем, что мы в чужом городе, далеко от дома, остались без единой копейки, и Раневская ехала со мной на трамвае «зайцем», ни жива ни мертва от страха в ожидании контролера.
В тот приезд во Львов у Раневской, впрочем, как обычно, была бессонница. Она рассказывала об одном из эпизодов ее ночных бдений: выйдя однажды на балкон гостиницы, Фаина Георгиевна с ужасом обнаружила светящееся неоновыми буквами огромных размеров неприличное существительное на букву «е». Потрясенная ночными порядками любимого города, добропорядочно соблюдавшего моральный советский кодекс днем, Раневская уже не смогла заснуть и лишь на рассвете разглядела потухшую первую букву «м» на вывеске мебельного магазина, написанной по-украински: «Мебля».
Никогда не забуду летнего концерта во Львове. Бессмысленно пересказывать этот концертный шедевр двух гениальных актеров: Раневская — Мурашкина и Абдулов — Павел Васильевич в инсценировке рассказа Чехова «Драма». Скажу только, что в переполненном зале люди смеялись, потом хохотали, потом сползали с лавок, наваливались друг на друга, из глаз текли слезы. Все повторялось — рыдающая на сцене Раневская и плачущие от хохота зрители — парадоксальная общность, охватившая незнакомых зареванных людей в зале и двух людей на сцене, поглощенных своими несовместимыми проблемами.
Во время рижских гастролей мне было 11 лет. Там я попал по собственной вине в епиходовскую ситуацию: из лучших побуждений я пытался выполнить требование Раневской о хороших манерах. Театр ехал на Запад — в Прибалтику, и мне сшили впервые светлый костюм с ватными плечами — для демонстрации силы. В ресторане гостиницы «Рига» за длинным столом на обед собрались все «народные» Театра Моссовета: Завадский, Марецкая, Плятт, Орлова, Мордвинов. Меня посадили рядом с Раневской. Мамы за обедом не было. Я сидел в своем ватном пиджаке. Подали великолепный красный борщ в честь русского театра. Передо мной поставили тарелку, полную борща. Внезапно у Раневской упала на пол ложка. Как воспитанный московский юноша, я нагнулся к полу, чтобы поднять ложку. Это была адская минута моей едва начавшейся светской жизни. Непривычное ватное плечо надавило на край полной тарелки, и… мой светлый пиджак стал мокрым и наполовину темно-красным. Раневская мгновенно засыпала меня солью и вывела из зала. Оставшаяся без обеда Фуфа обзвонила всех своих рижских знакомых, и они вместе с мамой нашли недобитую частницу, которая в тот же вечер встретилась с нами и взялась вернуть пиджак и меня в первобытное состояние. На следующий день мы снова отправились к частнице. Пиджак был опять чист. Падающие ложки с тех пор наводят на меня ужас.
В Риге мы, актерские дети — я и Рома Щелоков, — пели и танцевали в двух сценах спектакля «Рассвет над Москвой». Это была голгофа для актеров — спектакль о производстве тканей, типичные «сопли в сахаре», как говорила Раневская.
Начало спектакля. Зрелые выпускницы школы шумной стайкой после ночного братания вбегали в бескрайнюю гостиную в квартире директорши ткацкой фабрики, расположенную, очевидно, в «Доме на набережной». Квартира пуста — родители, как положено ночью, — еще на работе. Бывшие одноклассники непринужденной пирамидой вдохновенно рассыпались у огромного окна, выходящего на раскинувшийся перед ними Московский Кремль. За окном проявлялись предрассветные силуэты кремлевских башен. Зоркий староста класса замечал огонек в квартире за кремлевской стеной: «Ребята, — влюбленно прозревал выпускник, — это его окно…» Так кончалось первое явление первой картины «Рассвета над Москвой» А. Сурова. Спектакль был обречен на Сталинскую премию. Мордвинов играл парторга фабрики, Марецкая — директора, Раневская — ее мать, Агриппину Семеновну, «совесть народа». Мы с Ромкой — детей Мордвинова-парторга, естественно, умеющих петь и танцевать.
Николай Дмитриевич после первых спектаклей говорил маме серьезно, провидчески — чуть нараспев: «Мальчик будет петь, Ирина, — обязательно!..»
Мордвинов был трогателен. Его паузы в «Маскараде» и знаменитый «гудок» — протяжный крик мордвиновского Арбенина в конце 3-го акта: «Ло-о-ожь!»… Актеры называли его Фомой: он всю жизнь мечтал, но так и не сыграл Фому Гордеева. Любил ловить рыбу со спиннингом один — дышал рекой, не хватало воздуха — огромный, добрый, молчаливый и неторопливый.
Они с Лёкой — его женой Ольгой Табунщиковой, — как почти никто в театре, всю жизнь вместе.
Я никогда не забуду Николая Дмитриевича в «Рассвете…»: его глаза, когда он смотрел на нас, его легкого подталкивания в спину из-за кулис — «пошел», а потом — его рук, когда он подхватывал меня и нес по авансцене над головой. В этом бутафорском спектакле «Рассвет…» была одна сцена, которую мы всегда приходили смотреть, рядом за кулисами стояли осветители, рабочие — все, кто был свободен. Мордвинов сидел на сцене под большой домашней лампой с гитарой в руках и пел — тихо-тихо, — и в зале наступала тишина. Свет слабел, и постепенно оставался только его голос — с каждым наедине. Он пел и, казалось, спрашивал себя: «Что я делаю, зачем живу?» Были в его песне покой и пространство такого масштаба, что всё, кроме Мордвинова, вокруг казалось мелкой суетой, даже нам, детям, в этом картонном спектакле. Мысленно я уговаривал лампу: не гасни, пусть он еще попоет. Она каждый раз незаметно гасла, и этот желтый свет и тихое пение Мордвинова кончались — до нового спектакля.
А Раневской было тесно и противно в ее Агриппине Семеновне. Зрители встречали аплодисментами всю их троицу: ее, Марецкую и Мордвинова. Фуфа старалась придумать хоть что-то человеческое — в своей сцене у текстильного министра, куда она приходила за правдой, пила от волнения газировку и испуганно-хитро спрашивала министра: «Что это у тебя? Пузырьки какие-то, щиплются!» — «Боржом», — красивым басом отвечал министр — Борис Юльевич Оленин, его изображавший. Публика облегченно и благодарно смеялась. А потом опять шла нудная белиберда — ткани, собрания, снятия с должности. В конце была, конечно, победа — над серостью, и над Москвой поднимался ситцевый цветной рассвет.
Забвение от этого кошмара Раневская искала на взморье. Ей в очередь с другими «народными» давали театральную машину — трофейную БМВ с длинным носом и одной дверью с каждого бока. Чудная была машина — старая, но бегала бесшумно и очень быстро. Управлял ею Сережа — молодой театральный шофер. Он часто чинил свою БМВ в дороге, Фуфа и я ждали невдалеке. Два-три раза мы приезжали к Ладыниной, которая тоже жила на Рижском взморье со своим сыном Андреем. Он был чуть старше меня, очень нервный или, скорей, сердитый. Ладынина с Фаиной Георгиевной были дружны, Марина Алексеевна была очень внимательна к нам, рассказывала Фаине Георгиевне, пока я знакомился с Андреем, как Иван Александрович Пырьев как-то в жаркий день, сбросив рубашку, искал прохлады и в ее поисках напал в спальне на неимоверно красивый огромный флакон бесценных духов «Мицуки». В полном изнеможении Пырьев опрокинул на себя «Мицуки» и, пока лилась испаряющаяся прохладная жидкость, блаженно охлопывал свое страждущее тело. По дому поплыл запах чудовищной концентрации. Ладынина побежала в спальню и обнаружила спящего Пырьева рядом с пустым «Мицуки»… Я услышал только возглас ужаса Фаины Георгиевны, пораженной ладынинским рассказом.
Во время одной из гастрольных поездок Театра имени Моссовета в Ленинград Фаина Георгиевна вместе с Осипом Наумовичем Абдуловым имели возможность пользоваться огромным зеленым открытым «фордом», хозяин которого был их поклонником. Часто останавливались, обедали по дороге. Фаина Георгиевна обожала Осипа Наумовича, гениального рассказчика. Эти совместные трапезы были счастьем и для меня. Атмосфера любви, дружеского участия, юмора, редких по красоте импровизаций и рассказов о самых разных людях — от известнейших до просто ярких типажей — была неповторима, стала для меня образцом высочайшего уровня человеческого общения.
Экспромты, перекрестные шутки, характерный, с прихрюкиванием, хохот Раневской были желанным наслаждением моего детства. Попутно они меня воспитывали: мне, например, было запрещено сидя разговаривать со стоящей женщиной. Как-то Осип Наумович спокойно, с хитрым выражением добрых глаз, сделал мне замечание: «Никогда не трогай и не нюхай горлышко открытой бутылки». Убежден, что непревзойденный шедевр Раневской — роль в «Драме» Чехова, где она играла с Абдуловым, — возник в результате этих поездок, любой эпизод которых мог стать изумительным концертным номером.
Раневская продолжала ленинградский дневник:
«Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо. А то думала, что я такая дуся, что меня все обожают!!
Жизнь удивительно провинциальная, совсем как в детстве, в Таганроге, все всё друг о друге знают. Есть же такие дураки, которые завидуют „известности“. Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, для меня что-то глубоко оскорбляющее, завидую безмятежной жизни любой маникюрши».
«Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства».
«В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними „творить“, они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность… Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать этот… театр, тут нужен гений Булгакова. Уж сколько лет таскаюсь по гастролям, а такого стыдобища не помню. Провалились. Провалились торжественно и бесшумно… В старости главное — чувство достоинства, а его меня лишили».
«Какой печальный город. Невыносимо красивый и такой печальный с тяжело-болезнетворным климатом. Всегда я здесь больна. Ленинград. 60 г.».
«Снимаюсь в ерунде. Съемки похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства — а впереди провал, срам, если картина вылезет на экран. Л-д. 60 г.».
«Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных? Пожалуй, один Черняк — умерший от порядочности. Л-д. 60 г.».
Рядом с домом отдыха ВТО в Комарово, под Ленинградом, где иногда отдыхала Раневская, проходила железная дорога. Фаина Георгиевна называла это место «Дом отдыха имени Анны Карениной».
Вспоминая о своих встречах с Ахматовой после войны, Раневская писала:
«В Комарово Ахматова читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философии, но ощущала, что это нечто гениальное. Она спросила меня — могла бы такая пьеса быть поставлена в театре?»
«Она говорила с тоской невыразимой, что сын не хочет ее знать, не хочет видеть. Она говорила мне об этом в Комарово и всегда, когда мы виделись».
«Ахматова была женщиной больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то гуляли с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: „Вот там я была влюблена… А за тем окном я целовалась…“»
«Ахматова не любила двух женщин. Когда о них заходил разговор, она негодовала. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та — агент Дантеса».
«Борис Пастернак слушал, как я читаю „Беззащитное существо“ и хохотал по-жеребячьи. Анна Андреевна говорила: „Фаина, вам 11 лет и никогда не будет 12. А ему всего 4 годика“.»
«Открываю калитку на ее дачку в Комарово. Она увидела меня из окна и закричала: „Дайте, дайте мне Раневскую!“
Она очень мне обрадовалась — очевидно, было одиноко, тоскливо. Стала она катастрофически полнеть, перестала выходить на воздух. Я повела ее гулять, сели на скамью, молчали, Лёва был далеко».
«В Комарово она вышла проводить меня за ограду дачи, которую она звала „моя будка“.
Я спешила к себе в дом отдыха, опаздывала к ужину, она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед.
Я все оборачивалась, она помахала рукой, позвала вернуться.
Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще, но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит.
Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала, окно было занавешено. Я подумала, что она спит. „Нет, нет, входите, я слушаю музыку, в темноте лучше слышится“.»
«Она любила толчею вокруг… Когда я заставала ее на даче в одиночестве, она говорила: „Человека забыли!“
„Фаина, вы можете себе представить меня в мехах и бриллиантах?“ И мы обе расхохотались».
Раневская играла Фатьму Нурхан в пьесе Хикмета «Рассказ о Турции», играла Агриппину Семеновну в «Рассвете над Москвой» и мучилась, мучилась убогостью пьес, их тенденциозностью. Благо что «Рассвет над Москвой» исчез вместе с «отцом народов».
Фаина Георгиевна записала:
«Так безнадежно бездарен подлый репертуар и „деятели искусств“. Живу в царстве невежества дикого, уголовно наказуемого, бешеная спекуляция на темах. О, эти темы! Почему-то все, от кого исходит необходимость темы, забыли сказанное Энгельсом своей корреспондентке в письме после прочтения ее пьесы: „Чем глубже спрятана тенденция, тем это лучше для художественного произведения“…
Играют пьесы-лубок и не испытывают чувства стыда».
А в «Шторме» Билль-Белоцерковского спекулянтку играла с удовольствием, это был ее текст — автор разрешил. После сцены Раневской была овация, и публика сразу уходила. «Шторм» имел долгую жизнь в разных вариантах, а Завадский ее спекулянтку из спектакля убрал. Раневская спросила у него: «Почему?» Завадский ответил: «Вы слишком хорошо играете свою роль спекулянтки, и от этого она запоминается чуть ли не как главная фигура спектакля…» Раневская предложила: «Если нужно для дела, я буду играть свою роль хуже».
В Свердловске Завадский мучительно репетировал «Министершу» с Раневской.
Не могу и не имею права об этом судить. Пусть они сами говорят.
Завадский писал о Раневской:
«Годы связывают нас сложными, насыщенными всякими противоречиями и все же — утверждаю — прекрасными взаимоотношениями. Она и не предполагает, что я часто думаю о ней, о ее своеобразном одиночестве. Хотя она знает, как высоко чту ее огромный талант, ее человеческую неповторимость, ее беззаветную одержимость театром, ее жесткую требовательность — к себе в первую очередь. Она знает, как любит ее зритель, но не догадывается, что партнеры по театру хотя и побаиваются, но тоже любят ее — ведь есть в ней, в ее мощном таланте, притягательная, покоряющая сила. Живет в ее сердце прекрасная доброта, душевная щедрость, и открывается она нам всем со сцены неотразимым обаянием…»
А Раневская записала:
«Спазмы сердца начались после того, как я узнала, что обо мне было собрание, на которое меня не позвали… упрекали меня в том, что меня встречают аплодисментами, что во Львове я вышла на одно собрание, где меня вызвали в президиум на аплодисменты, относящиеся к Сталину, чтобы своим появлением сделать вид, что аплодисменты относились ко мне…
Что прибавить к тому…
Предместкома сказал в кругу своих приятелей после того, как меня довели до припадка: „Пора кончать этот „Освенцим“ Раневской“. Невольно вспоминаются точные слова Ларошфуко: „Мы не любим тех, кем восхищаемся“. Недавно перечитала „Осуждение Паганини“. Какой ерундой все это представляется рядом с травлей этого гения. 12–19–20 августа, Свердловск, 55 год».
Это было перед днем ее рождения. Она заболела. И ушла из театра.
Раневская перешла в Театр имени Пушкина. Надеялась, что стены таировского театра помогут ей. Таирова давно не было. Был обаятельный главный режиссер Туманов, к которому она пришла.
В 1956 году Театр Моссовета без Раневской совершил «бросок на юг» — поехал на гастроли летом в Баку. Для создания ажиотажа дирекция театра расклеила по городу объявления «Все билеты проданы». Разморенные июньским солнцем бакинцы подумали и… уехали за город под сень виноградных лоз.
Мама взяла меня на гастроли с собой — юг, солнце, море. Поехал весь театр — творческий цех, помсостав, в том числе и легендарный курьер Фрида. Она фанатически была предана делу. Коротко стриженная, маленького, почти детского роста с клювообразным иезуитским профилем Тьера, здороваясь, она «щипала» носом и подбородком любимых артистов в приветственном поцелуе, а на собраниях гордо сидела в первом ряду, свесив не достающие до пола ноги. В свое время Раневская обожала ее показывать. Она передавала диалект Фриды так, что хотелось оглянуться — где она? Изображая для нас Фриду, Раневская ее голосом отвечала на телефонные звонки на служебном входе: «Сегодня вечером — „Клепатра“: да, ви слышите — Кле-пат-ра!» — имелся в виду спектакль «Цезарь и Клеопатра». Повесив воображаемую трубку, Фаина Георгиевна требовательно целовала всех Фридиным «укусом», ухитряясь незаметно, но больно ущипнуть за щеку.
Актеров Фрида любила. В гримуборных то и дело слышалось: «Фрида, из окна дует!», «Фрида, принеси лигнин!», «Где вата, Фрида?» Она все делала, приносила, отвечала. Ее не стало — и из театра, говорят, что-то ушло.
А в 56-м году судьба не осталась равнодушной к уходу Раневской из «Моссовета» — театр в Баку «горел». Когда-то бакинцы полюбили Раневскую. Может быть, они и вернулись бы из-под виноградных лоз, чтобы встретиться с ней через 25 лет. Но ее не было в бакинских афишах. И они остались в своих виноградниках.
1945–1958
Дерево могу полюбить, как живого человека…
«Весна» — Орлова — Внуково — Соседи — Пруты — Музыка — Свист — Деревья — Лето
Сейчас, вспоминая послевоенное время, свое детство, понимаю, что это был особый период в жизни Раневской — самый светлый, как мне кажется.
В 1945-м, в больнице, она прощалась с жизнью — все могло случиться. А сейчас, похудевшая, она возвращалась, надеялась на лучшее.
Многое еще впереди — встречи, новые роли; рядом жили близкие ей люди. Вот фото. За столом на террасе, в тени сидят трое — Любовь Петровна Орлова, Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф и Фаина Георгиевна Раневская. Сентябрь 1945 года. Снимается фильм «Весна». Ирина Сергеевна помогает Александрову в работе с актерами. Каждая из этих женщин поражает своим «лица необщим выраженьем», все разные, но есть и общее — безмятежное счастье, покой. Раневская смотрит прямо в аппарат, Орлова задумалась, а мама сосредоточилась на сценарии. Сзади стоит машина Григория Васильевича и Любови Петровны. Их привез из Москвы верный шофер Игнатий Станиславович — педантичный, элегантный и невозмутимый поляк — эдакий состоявшийся Козлевич из «Золотого теленка», но которого ксендзы так и не сумели охмурить. Любовь Петровна сопроводила фото шутливыми стихами. Раневская называла ее «Любочка», иногда — «Люб», просила из-за границы привозить «мыльца».
«Синдром Орловой, — говорила мне моя подруга детства, внучатая племянница Любови Петровны Орловой Маша Голикова, — это зафиксированное душевное заболевание, по свидетельству одного психиатра. Женщины до безумия стремились быть похожими на нее, мужчины были страстно и безнадежно в нее влюблены». Даже ее соседи по даче — «сталинские соколы» писатели Сурков и Первенцев — подражали ей. Первый скопировал архитектуру их дачи, а второй, стремясь затмить ее дом роскошью собственного жилища, купил у какой-то народной артели умельцев за безумные деньги невозможной красоты плетеный дачный мебельный гарнитур, опоздавший в приемную комиссию подарков Сталину к его 70-летию.
С дачами Суркова — их на огромном участке было две: зимняя, как у Орловой, и летняя, ближе к оврагу, — связан своеобразный протест Раневской. Софья Павловна, супруга Алексея Суркова, в то время секретаря Союза писателей — Сурчиха, как ее называли соседи, — здороваясь с Фаиной Георгиевной, ждала привычно-подобострастного ответа. Раневская сухо здоровалась. Она, может быть, и не отвечала бы Сурчихе, но знала, что Сурков после войны сдержанно благоволил Ахматовой.
Первый муж Любови Петровны Андрей Берзин после многократных арестов в царское время впоследствии был репрессирован и большевиками.
Судьба «Веселых ребят» и самого Григория Васильевича Александрова, ее второго мужа, «золотоволосого бога», по ее определению, тоже, как известно, висела на волоске. Их сумел спасти Горький, удачно показавший в своем московском доме, особняке Рябушинского у Никитских ворот, «Веселых ребят» всему составу сталинского политбюро. Всемирно известная кинозвезда, любимая Сталиным исполнительница ролей ударниц и домработниц, Орлова вела свою родословную от дворян Орловых и Сухотиных, бывших в родстве с великим Толстым. Маленькая Любочка Орлова сидела на коленях у Льва Николаевича, он подарил ей детскую книгу с дарственной надписью: «Любочке…»
Любовь Петровна владела высокой культурой души и чувств. На девятнадцатилетие своей племянницы Маши Орлова писала ей: «…и пусть Бог бросит цветы счастья на пути твоем…» Когда у нас дома раздавался по телефону ее знакомый всей стране голос, она неизменно спрашивала: «Это Алеша?» или «Это Танечка? Здравствуйте, это Любовь Петровна» — и всегда хотя бы два слова о том: «Как вы, как дела?»
Любовь Петровна была для нашей семьи эталоном вкуса, умения одеваться, подбирать аксессуары. Даже ситцевые шторы в розах и такая же обивка мебели на даче в спальне у Орловой были показаны мне мамой в один из визитов к Любови Петровне со словами: «Запомни, все, что ты здесь видишь, Алеша, самого высокого вкуса». Тогда не было модных западных журналов, каталогов, русский модерн был под арестом, и только деревянные скамейки бедных московских трамваев и коричневые диваны метровагонов являли собой доступный образец красоты интерьеров советской Москвы. А Орлова могла ездить в Париж за обивкой — практически у нее и Александрова был так называемый «открытый счет» и такие же паспорта. Любовь Петровна умела избежать в общении с нашей семьей, да и со всеми другими, высокомерия и снобизма, хотя дом Орловой и Александрова всегда был домом, закрытым для больших компаний.
Осенью 1947 года в Москве состоялся своеобразный конкурс — пять театров ставили одновременно «Русский вопрос» Константина Симонова, Михаил Ромм снимал фильм. Это было тяжелое конъюнктурное соревнование, по словам мамы, совсем не похожее на блистательную атмосферу режиссерского поиска в Москве конца 20-х годов.
Любовь Петровна сыграла только несколько премьерных спектаклей «Русского вопроса» и уехала на киносъемки. Потом роль Джесси была поручена Валентине Серовой, которая, кажется, недолго ее играла. В музее Театра имени Моссовета сохранилась фотография, на которой вместе с Константином Симоновым Ирина Вульф и Валентина Серова. Однажды Фуфа и мама взяли меня с собой на дачу к Серовой, которая была тогда больна. Мы приехали днем. Серова не вставала. В тот раз нам показали на этой даче кабинет Симонова. Константин Михайлович был в отъезде. Помню огромное окно из кабинета в сад или даже в лес, а у окна широченный письменный стол — совершенно белый, березовый. При всем этом внешнем благополучии в семье, как потом оказалось, не было ни здоровья, ни счастья.
У нас остался трехтомник Константина Симонова с надписью автора: «Дорогой Фаине Георгиевне с глубоким уважением и любовью. Ваш К. Симонов. 9 августа 1953 г.». В первом томе стихи — «Жди меня, и я вернусь…» с посвящением «В. С.» — Валентине Серовой, жене, с датой в конце — 1941 г. Это стихотворение Симонов написал до войны, но не опубликовал. В 1941 году никто не мог предположить, что война будет длиться и зимой, «когда снега метут», и летом, «когда жара». Речь шла о заключенных, а не о войне. Симонов испытывал глубокие чувства к Валентине Серовой. Ее медленная гибель была мучительна для Раневской: «Она губит себя, ведь Валя очень талантлива». Безвременный уход каждого одаренного человека был ее личным горем, потерей, как она считала, в «армии искусств».
А на даче у Любови Петровны шли работы по оборудованию и совершенствованию ее жизни, которая в нашем понимании уже давно достигла идеала. Орлова и Александров в тот год много путешествовали, были на музыкальном фестивале в Венеции со своим фильмом «Весна». Сохранились открытки Любови Петровны из Венеции Фаине Георгиевне и Ирине Сергеевне об этом фестивале.
Орлова писала:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
Очень я жалею, что не смогла довести свои хлопоты о санатории до конца. Беспокоюсь о Вашем здоровье. Вчера закончился фестиваль. „Весна“ получила премию. На Ваших кусках очень смеялись. Вы чудная актриса и я Вас очень люблю… Венеция с водяными улицами меня не устраивает для жизни. Завтра едем в Милан и Флоренцию. Затем в Рим. Думаю, числа 1-го будем в Москве, если не поедем во Францию. Впечатлений очень много. Все Вам расскажу при встрече. Целую Вас, дорогая. Гриша тоже Вас целует. Самый сердечный привет от нас Павле Леонтьевне. Ваша Л. Орлова. 16.IX.47. Венеция».
Тем летом по приглашению Орловой моя бабушка Павла Леонтьевна, Тата и я жили на даче во Внуково у Любови Петровны. Я не могу забыть этого дома. Огромная гостиная с камином в углу и каменным киноэкраном, встроенным в стену, деревянной лестницей, дубовыми лавками со сквозными сердцами по бокам, которые придумал Григорий Васильевич, такое же окошечко-сердце на глухой входной дубовой двери, большая крытая терраса, газон, цветы, елки, березы.
Под обаянием этой среды Павла Леонтьевна приготовила с семилетними детьми — Машей Голиковой и мной ностальгическое представление — попурри из басен Крылова и французских миниатюр. На это сомнительное зрелище на террасу пришли приглашенные соседи — Утесов с Эдитой, Софья Ефимовна Прут — мать всех Прутов, Лебедев-Кумач, Любовь Петровна и ее любимая сестра Нонна Петровна со своей семьей, Григорий Васильевич, Раневская. В доме Орловой и Александрова была какая-то театральность, слитая с комфортом. Позже Григорий Васильевич говорил о своей жизни с Любовью Петровной: «Это были сорок два года непрерывного счастья».
Сестра Любови Петровны — Нонна Петровна запомнилась мне удивительной мягкостью, даже нежностью характера. Это была женщина необыкновенно красивая — таких лиц сейчас нет. Огромные глаза и какой-то изысканный, полный достоинства облик ее обладали необычайной привлекательностью. У нее была тяжелая астма, в Москве она задыхалась. Врач сказал: «Вам надо дышать сеном, доить корову в хлеву — и все пройдет». Любовь Петровна выхлопотала ей во Внуково участок неподалеку от своего и разрешение иметь корову. Болезнь ушла. Есть фото Нонны Петровны — она обнимает корову, свою спасительницу.
В том же году Раневская писала о Любови Петровне: «Сказать про Любочку „добрая“ — это все равно, что сказать про Толстого — „писатель не без способностей“.»
В 1948 году у Орловой, Раневской и мамы была работа в фильме «Встреча на Эльбе» в разрушенном Кенигсберге. Об этом городе тогда говорили, что восстанавливать его не имеет смысла, погибли первоклассные, по-немецки сделанные городские подземные коммуникации, а главное — сонмище церквей, замков и памятников. Мама привезла из Кенигсберга, нелепо названного потом Калининградом в честь умершего в Москве в 1948 году Калинина, оплавленные в чудовищном военном огне бутылки, рюмки и найденные в развалинах остатки бюргерских сервизов из толстого белого мейсенского фарфора — салатницу, тарелку, чашку с немецким орлом и надписью на дне зеленоватым шрифтом: «Shonheit der Arbeit» — «Красота работы»…
А Раневская в этом фильме в небольшой роли богатой американки «миссис Мак-Дермот» придумала себе роскошную белоснежную челюсть, открытую в ослепительной улыбке, и всё — перед зрителем возникала Америка беспредельных возможностей.
Во время войны радиоприемники были запрещены, позже у нас появился мрачный темный ящик довоенного образца с окошком, где на узкой белой ленте прокручивались, как в кассе, цифры, а поперек окошка была натянута загадочная проволочка. Потом Фаина Георгиевна подарила Павле Леонтьевне роскошный советский радиоприемник «Мир», на светящейся зеленой шкале которого были обозначены все города мира социалистической ориентации. Но к этому шикарному «государственному» аппарату наши женщины относились прохладно — помех было больше, чем музыки. Правда, иногда Павла Леонтьевна отыскивала в эфире классику, и тогда на весь дом звучал ее взволнованный клич: «Гайдн!» или «Глюк! Фаина, скорее!» Фаина мчалась в комнату своей Лили, и они замирали. Если настроение у Раневской было хорошее, то после бабкиного драматического призыва она заговорщицки подмигивала мне, если находил сплин — слушала молча, уйдя в себя; а иной раз безнадежно восклицала в мой босяцкий адрес: «Какой ты серый!»
Фаина Георгиевна дружила с Надеждой Андреевной Обуховой, обожала ее голос. Рассказывала, что даже в последние годы Надежда Андреевна любила петь, пела много и с наслаждением любовные романсы. Слова любви в устах немолодой уже женщины звучали столь волнующе, такой трагически уходящей была культура и вся жизнь великой певицы, что забыть эти последние домашние концерты Обуховой было невозможно.
«Была в гостях у Надежды Андреевны, — написала Раневская на обороте фотографии Обуховой. — Она мне пела много, долго, а в клетках вопили птички, ей это не мешало, — потом мы ужинали, потом она рассказала, что получила письмо от ссыльного, он писал: „Сейчас вбежал урка и крикнул: „Интеллигент, бежи скорей с барака, Надька жизни даеть“, это по радио передавали Обухову. Сказала, потом загрустила, потом мы пили водочку, я забыла попросить подписать фото“.»
Раневская постоянно приносила в наш дом пластинки Обуховой, записи песен и арий Шаляпина, концертов Рахманинова, Прокофьева, симфоний Чайковского, музыки Баха, Бетховена, Шопена.
В конце сороковых годов Фаина Георгиевна привезла удивительные впечатления и подарки из Чехословакии и Польши. С восторгом описывала замок Гогенцоллернов, подземные пещеры, откуда был родом привезенный ею кусок кристаллической соли. Слегка лизнув его, Раневская страстно втягивала воздух через зубы и предлагала попробовать и мне. Наконец, из ее багажа был извлечен деревянный полированный ящик, очень красивый и похожий на огромную деревянную хлебницу с откидывающейся вперед крышкой. Внутри находился большой ярко-красный диск из сукна и черный блестящий звукосниматель с иголками. Это был проигрыватель — чешский «Супрафон». Много лет верой и правдой он служил нам, пока не ослабел мотор, однако расстаться с этим элементом чужой роскошной жизни было невозможно. Последним на нем звучал голос Ива Монтана. Потом как будто силы окончательно покинули старую машину. Его долго, но безуспешно чинили до полного взаимного изнеможения.
Фаина Георгиевна часто бывала во Внуково, в поселке, где жили Утесовы, Ильинские, семьи Лебедева-Кумача, Прута, Милютины. Одно лето, перед тем как мне идти в школу, мы с бабушкой и Татой жили у Орловой, а другое — у наших друзей Прутов на улице Гусева. Сейчас там кирпичный замок-крепость журналиста Боровика. А тогда в елках и орешнике стоял деревянный домик, который построил перед войной легендарный человек — сценарист Иосиф Прут. Он помнил имена и отчества всех людей на свете и умел «в уме» решать наши школьные задачки. Маленький участок его дачи был наполнен чудесными звуками — из орешника доносился бесконечный нежный свист: Рахманинов, Чайковский, отрывки из опер, арии и увертюры, иногда мелодии современных песенок. Свистела Фаина Георгиевна, она очень любила таким образом проводить время в зеленой чаще. Стоял июль 1948 года. В те дни ее душу переполняла музыка, казалось, Раневская полностью погружалась в нее, уходила от суеты повседневности.
Она говорила:
«Люблю музыку — Бах, Глюк, Гендель, Бетховен, Моцарт. Люблю Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна — как он угадал Лермонтова в „Маскараде“. Не могу простить Чайковскому „Евгения Онегина“: он мог написать музыку к сценам романа, но брать пушкинские стихи, которые — сама музыка, и еще впихивать туда князя Гремина!.. А Пятая и Шестая симфонии очень любимы».
«Люблю деревья куда больше, чем цветы; горжусь: Бетховен говорил, что может полюбить дерево как живого человека. Мне хочется гладить и целовать березу и даже любое шершавое дерево».
«Удивительно: читаю, удивляюсь — мои ощущения, мои мысли, но сказал это Бунин: „Я всю жизнь отстраняюсь от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся — буду мучеником! Ведь я просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразить! И чуя это, душа самоотстраняется…“
„Деревья всегда прекрасные — и зеленые и без единого листа. Я их люблю, как могу полюбить хорошего человека. В цветах нет, не бывает печали и потому к цветам равнодушна…“».
Во Внуково, в отдалении, у деревни Изварино, на пологом холме стояла церковь Ильи Пророка из красного кирпича, брошенная, с куполами из ржавого железа — она все равно притягивала внимание Раневской, Прутов, мамы, когда мы ходили вдоль внуковского оврага за грибами. Все шли по тропинке на дне оврага, слышался Фуфин свист и голоса наших дачников. Выйдя в поле из оврага, они осторожно рассуждали, что церковь на холме немножко похожа на храм Христа Спасителя, «…но тот был белый с золотом, а эта — другая, но почти такая же по пропорциям и столько же куполов…» — дальше я не слушал, убегал от них за грибами: земля была близко, всего в метре от глаз. Пчелы, осы и муравьи меня не трогали, а маму земляной шершень укусил так, что ей стало плохо, — была какая-то несовместимость, она могла тогда погибнуть — губы стали пухнуть, синеть, — но в овраг выходила летняя аптека детского сада, маме сделали укол — все обошлось.
Как-то за мной увязалась коза — идет да идет, тряся головой. Фуфа моментально вспомнила «Веселых ребят» — Утесова во главе стада и Любовь Петровну — у плетня. Мы довольно долго шли вместе с козой, войдя в образ — по внуковским улицам «Веселых ребят», где жили Утесов, Лебедев-Кумач, Дунаевский, Александров и Орлова.
Раневскую Любовь Петровна Орлова называла «мой дорогой Фей» или «Любимый Фей». Это Раневская уговорила сниматься Орлову в ее первом фильме:
«Я стала сниматься в кино благодаря Раневской. Меня не отпускал театр в мой первый фильм, и я собиралась уже отказаться от съемок, но Фаина запретила мне делать это, доказывая, что кинематограф станет моей судьбой», — говорила Орлова.
В один особенно жаркий день у Прутов на даче было решено идти купаться. Куда? Никакой речки я в округе не замечал. Был только пруд, которым кончалась дачная улица.
«Это не „Прут“, а „пруд“, — учила меня бабушка, — на конце не „т“, как у Софьи Ефимовны, а „д“!» В этом тесном пруду тогда бил холодный ключ, и однажды там утонул несчастный юноша — случился сердечный приступ. На этот пруд никто идти не хотел. А речка все-таки была — маленькая, незаметная, но не ручей — вилась себе среди кустов, выходила на луг перед ильинской красной церковью, и там среди холодной травы мы расположились для купания.
Я не умел плавать — бабушка, Фуфа и Пруты сидели на траве, а мама держала меня и ласково и медленно окунала в речную прохладную блестящую рябь — веселую и неожиданную, с желтым песчаным дном, похожим на полосатое нёбо у нашего кота.
Через год, в Сочи, я осмелел и решил постоять в воде у морского берега — набежала волна и легко опрокинула меня. Помню шум бегущей плотной воды в ушах и крепкие мамины руки, схватившие меня за бока, и — опять — свет, солнце и ее голос: «Здесь море — волны, это не Внуково!»
Последний раз Фаина Георгиевна отдыхала вместе с Павлой Леонтьевной во Внуково летом 1958 года. Фуфа сняла для бабушки комнату и террасу на даче напротив Прутов; моя мама и Фуфа бывали во Внуково наездами.
В одну из редких театральных пауз они привезли с собой нашего обожаемого сиамского кота Тики, попавшего к нам тем же путем, что и альбом Ива Монтана — от С. В. Образцова, который жил на другой внуковской улице и разводил в СССР Ива Монтана и сиамских котов. Короткий отдых кончился драматически: кот моментально исчез, и убитая горем мама несколько последних дней отпуска ходила по дачным улочкам, призывая беглеца: «Тики, Тики!» Кота обнаружили на седьмой день рядом с дачей. Мерзавец никуда не уходил, а сидел в кустах, внимательно наблюдая за мамиными мучениями, которые прерывались лишь беспощадной критикой Фаины Георгиевны в адрес всего сущего. В архиве Раневской в ЦГАЛИ есть большая фотография Тики, которую я подарил Фаине Георгиевне. На обороте она написала: «Я его страстно любила, называла Кон-Тики, он недавно умер».
Жестокость времени, окружающая нищета и постоянный страх сделали невыносимо трудной жизнь Фаины Георгиевны и Павлы Леонтьевны. Они находили забвение и отраду в дорогих им вещах, книгах, музыке — культуре XIX века. Много раз я слышал их возгласы: «Хочу в прошлый век!»
Раневская любила природу средней полосы России, покорившую Чехова и Левитана, и все пыталась писать акварелью сама стволы деревьев, пруд и дождливое пасмурное небо. Пушкинское «наше северное лето — карикатура южных зим» было ей дороже солнечных полотен мастеров «победившего соцреализма». Поэтому, наверное, она так часто возила нас в Серебряный бор, в Комарово, любила дубовые рощи и овраг во Внуково. Там она гуляла с Павлой Леонтьевной по дорожкам, и они вместе смотрели на зелено-красную церковь у деревни Изварино.
1950–1966
Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «Станция Ахматовка».
Замоскворечье — Ольшевская — Подруги — Ардов — Дети — Трудовое соглашение — Сквер Лаврентия Павловича — Окно комнаты — Свеча
Короткое время после приезда мамы из Ташкента мы жили в Замоскворечье, на Якиманке — там до войны недолго жили мои родители.
Как-то раз мама взяла меня к Роммам. Жили они рядом — на Полянке. Мы шли к ним летним днем, помню желтый трамвай, сбоку похожий на низко сидящего на четырех лапах кота, пустырь и веселых женщин с лопатами, хором певших что-то высокими голосами. Перед роммовским домом мы встретились с Раневской и вместе поднялись на лифте. Помню большие светлые комнаты, балкон, бело-желтые стены, Елену Александровну Кузьмину. Фуфа называла ее Лёля. Пока они беседовали, со мной разговаривала Наташа — она была немного старше меня, — дочь Елены Александровны. Михаила Ильича Ромма не было.
А потом я заболел, и Тата со мной переехала к Фуфе и бабушке — на улицу Герцена, где мы с вами уже побывали.
На Якиманке, еще до болезни, я запомнил один свой день рождения.
После эвакуации я бредил паровозами и в то утро, открыв глаза, увидел заботливо поставленный мамой у кровати на табуретку товарный поезд — черный металлический паровоз с красными колесами и два вагона. Это было полное счастье. Вечером мама пригласила к нам Нину Антоновну Ольшевскую с детьми — Мишей и Борей. Был декабрь. Они жили рядом — на Большой Ордынке. Мише — около 6 лет, нам с Борей — по 4.
Праздник кончился. На улице мороз. Нина Антоновна надела двум своим мужчинам валенки, одинаковые пальтишки, подняла воротники и крепко замотала им шеи поверх воротников одинаковыми шарфами, завязав узлом. Они стояли на сундуке — крепенькие малыши в шапках с завязанными опущенными «ушами», любимые ее дети, так умело утепленные, что была уверенность: так и надо. Лучше не может быть.
Нина Антоновна Ольшевская… Студентка мхатовской школы-студии Станиславского, где они вместе с Ириной Вульф и Норочкой Полонской учились в 20-х годах.
Мать Алексея Баталова. Жена Виктора Ефимовича Ардова, его верная спутница, сумевшая стать незаменимой хозяйкой его большого, до утра не засыпающего дома.
Пеленавшая, купавшая армию своих внуков, детей и внуков своих друзей и подруг — и в том числе моего сына Диму, учившая этому искусству десятки матерей из многих московских театров.
Друг нашего дома, моей матери, всей нашей семьи, она обладала непередаваемым обаянием, неистощимым юмором, иронией и добротой.
Когда в Москве бывала Анна Андреевна Ахматова, она останавливалась в маленькой комнатке у Ардовых, где когда-то жил Алексей Баталов. Ольшевская всецело принадлежала в это время Ахматовой.
Нина Антоновна говорила нам: «Я растворялась в Анне Андреевне, а она меня не замечала».
Не замечала — и не представляла себе московской жизни без Ольшевской.
Так сложилась жизнь, что с подругами Нина Антоновна встречалась, когда Ахматовой не было в Москве; а Раневская бывала на Ордынке, когда там была Ахматова.
Нина Антоновна приезжала к нам домой в день маминого рождения, иногда — вместе с Норочкой Полонской, поиграть в покер.
Мама тоже часто ездила на Ордынку к Ардовым, иногда брала меня с собой. Как-то я был на дне рождения Миши Ардова, несколько раз я ездил с мамой к Нине Антоновне и учился «вприглядку» у Ардовых играть в покер.
Ардов пил очень горячий чай. Это был крутой кипяток. Свою чашку и заварочный чайник Виктор Ефимович прогревал, ополаскивая несколько раз кипятком из чайника, который кипел на электроплитке, стоящей у его кресла рядом с кадкой зига-кактуса. Отработанный кипяток Ардов постоянно сливал в кактус. От ужаса экзотическое растение цвело таким крупным красным цветком, что все это напоминало муляж. Любой процесс в комнате сопровождал взглядом многолетний Кац — сиамский кот; обитала там и умнейшая такса, которая тоже прожила немало.
Над дверью в комнату Ардова висел большой портрет Анны Андреевны в коричневых тонах работы Алексея Баталова. Нина Антоновна и Виктор Ефимович с шутливой гордостью говорили нам, что Ахматова позировала всего двум художникам: Модильяни и Баталову. Об Альтмане и других не упоминали — так семейная история выглядела эффектнее.
Это было окружение Анны Андреевны и Фаины Георгиевны, это был московский дом Ахматовой, он ей нравился своей суетой, криками, телефонными звонками и разговорами, остротами, мальчиками, пеленками — Ордынка помогала ей оставаться живой в ее истерзанной жизни:
Эта женщина больна,
Эта женщина одна,
Муж в могиле, сын в тюрьме.
Помолитесь обо мне.
Нина Антоновна умела сделать так, чтобы Анна Андреевна чувствовала себя на Ордынке дома, — она держала в руках весь этот табор, не давая ему затихнуть, проголодаться, разойтись.
«Когда тяжко заболела Нина Ольшевская, Ахматова сказала: „Болезнь Нины — большое мое горе“, — вспоминала Фаина Георгиевна.»
«Ахматова любила семью Ардовых и однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву, домой к своим, к Ардовым. В Москве позвонила, пообещав, если я приду, рассказать мне „Турусы на колесах“. Я просила ее объяснить, что означает это выражение; „А вот придете — скажу“. Но я забыла спросить про эти „турусы“.»
У Раневской как-то спросили: «Вы хорошо знакомы с Виктором Ардовым?» Она ответила: «Не верьте тем, кто говорит не очень одобрительно о нем. Ахматова его любила. Анна Андреевна была дружна с его женой и очень любила их детей… Она любила эту толчею гостей у Ардовых на Ордынке, которую называла „Станция Ахматовка“.»
Можно по-разному относиться к творчеству Виктора Ефимовича Ардова, но рассказчиком он был изумительным. Когда 1 января собирались у нас мамины друзья на обед в честь ее дня рождения — мама родилась в неудобный «семейный» день 31 декабря, — к нам часто приходил Виктор Ефимович. И обед превращался в творческий вечер, концерт Ардова. Свои репризы он произносил — чуть сморщив нос — в чеканной форме, быстро, будто заранее имея готовый рецепт на любой случай.
На Ордынке, в присутствии Анны Андреевны, он бесконечно искал какие-то бытовые мелочи — очки, книжку, нож, вилку, следственным тоном объявляя каждый раз: «Так, па-прашу не расходиться — потеряна моя авторучка!» И так много раз. Ахматова парировала: «Сколько раз в день я должна не расходиться?!»
Я слышал от него бесчисленные фразы — его собственные и из Зощенко, например: «Желающие не хотят», о повестке в военкомат: «Здесь надо занять уклонистскую позицию», о смене партийного лидера: «На эту должность в их департаменте лежат штабеля кандидатов» и т. д. Он относился с огромным теплом к нашей семье — в молодости называл маму Сляра (осел), даже сочинил ей в 1930 году стихи, пародируя любимого ею Вертинского. Раневскую Ардов называл «смелый талант», писал: «Она играет конгениально Достоевскому», посылал Фаине Георгиевне свои публикации о ее творчестве, бесконечно отвечал на ее вопросы по телефону.
С его сыном — Борей Ардовым — я вижусь постоянно с перерывами в 5–10 лет.
В 1990 году у нас дома гостили болгарские архитекторы, и мы, посмотрев с ними старинные иконы в Третьяковской галерее — остальные залы были закрыты, — вышли на Большую Ордынку. Я снова увидел каменные столбы и решетку ограды, двор, где много раз был с мамой, арку справа от ворот с «вечной лужей» — как ее назвала Ахматова. Я рискнул без предупреждения повести болгар в этот дом. Мы поднялись на второй этаж, где когда-то было так беззаботно стоять перед крашеной входной дверью и знать, что сейчас нам непременно откроет кто-то, увидеть знакомое лицо в узком коридорчике и шумную компанию людей в большой комнате. Нам повезло и в этот раз. Открыл Боря Ардов. Он был, по-моему, даже рад нашему вторжению. Все познакомились. Боря показывал нам свой дом, рассказывал о всех комнатах, портретах, креслах, столах, стенных застекленных нишах-витринах, о комнате, где жила Анна Андреевна. Вспоминал, как внимателен был его отец к Анне Андреевне — прибил ручку к стене в туалете — так ей было легче, опираясь, вставать. Я слышал эти истории много раз от Фуфы, мамы и Нины Антоновны, на сей раз об этом рассказывал Боря.
Теперь в этой квартире — музей Ахматовой в Москве, их мемориальная квартира, но Ардовы там не живут. Борис живет в Абрамцево.
В младших классах школы он учился на двойки и вел себя очень плохо. Тогда Ахматова и Раневская заключили с ним письменное трудовое соглашение, договор: Боря обещал хорошо учиться, а Раневская обещала не ссориться со своими режиссерами и не уходить из театра. Соглашение было подписано, с одной стороны — «Боря Ардов», с другой стороны — «Анна Ахматова, Фаина Раневская».
Боря его бережно хранит.
Анна Андреевна рассказывала домашним, что, когда она хотела поделиться с Раневской чем-то особенно закрытым, они шли к каналу, где в начале Ордынки был небольшой сквер. Там они могли спокойно говорить о своих делах, не боясь того, что их подслушает КГБ. И они назвали этот скверик «Сквер Лаврентия Павловича».
Фаина Георгиевна Раневская постоянно звонила Виктору Ефимовичу. К телефону подходил Боря Ардов. Боря спросил: «Фаина Георгиевна, вы, наверное, знаете наш телефон наизусть?»
Раневская ответила: «Витя — мой Брокгауз и Ефрон».
Ей было проще узнать что-то позвонив ему, чем искать в книгах.
Раневской наконец-то нашли няньку для Мальчика — ее собаки. Фаина Георгиевна позвонила Ардовым: «Пришла женщина, протянула руку: „Я — Петрова“ — но от нее пахнет водкой и мышами; как это может быть?» Боря ответил: «Ну, водку она пьет, а мышами закусывает».
Раневская возмутилась: «Ты с ума сошел!»
А потом перезвонила: «Это — неплохо!»
Фаина Георгиевна с Борей Ардовым — в Петергофе. Все в ступеньках. Раневская держится за Борю: «Боря, когда у вас будет инфаркт, вы должны уметь так ходить — учитесь, шаг на ступеньку, вторую ногу подтягиваете и ставите на ту же ступеньку».
Там же, в Петергофе, все фонтанирует, из «Самсона» струя льет вверх и т. д. Раневская возмущенно сказала: «Это неправда!»
«Из окна комнаты всегда должен быть виден крест», — говорила Ахматова.
На Ордынке из окна комнаты, где жила Анна Андреевна у Ардовых, был виден крест колокольни церкви Святого Климента.
«Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я сделала? Пропищала, и только…» — из дневника Раневской.
Ахматова писала: «Рембрандтовские темные углы…» Она любила Рембрандта, его темные полотна и светлые лица на его картинах. Раневская говорила о Рембрандте понижая голос, страстно, восхищенно.
В начале 1950 года Раневская и вся наша семья пошли на фильм «Жизнь Рембрандта». Это был черно-белый зарубежный фильм. В конце фильма нищий, одинокий, стареющий Рембрандт, гладя в пустоту, гасит свечу — кончается жизнь гениального мастера. Раневская тогда как-то сгорбилась и долго молчала, пока мы выходили из зала.
Я часто вспоминаю этот вечер, «Жизнь Рембрандта». Ахматова говорила о Раневской: «Словно свечку внесли…» Может быть, свечу, которая радовала Ахматову, Раневская увидела в тот вечер в руках Рембрандта, на его полотнах, и Фаина Георгиевна узнала в нем себя — без родных, оставшихся где-то в Турции или Румынии, без ролей, которые она мечтала сыграть, без своей семьи, которая не сложилась…
И свеча оказалась гаснущей — в ее руках… Она горевала. Всю дорогу, пока мы медленно возвращались домой, молчала.
Рембрандтовские темные углы не давали ей покоя.
1947–1961
Мамке моей жить тысячу тысяч дней! Ничем не огорчаться, а с утра до ночи умиляться тому, что все мы живы, сыты и не вшивы! И не знать тоски и скук, когда дома водится внук!
Поселок в Москве — Стихи сумасшедших — Соседи — Домашние животные — Двор — Гольф — «Драма» — «К птицам» — Аллилуева — Новый год — Тата
После войны там, где еще булыжное Хорошевское шоссе соединялось с Беговой улицей и стоял старый деревянный Ваганьковский мост, стали строить жилой поселок из двухэтажных кирпичных домиков. Строили их пленные немцы по проекту Дмитрия Чечулина. Может быть, Чечулин видел в Германии до войны нечто подобное и перенес все это в Москву, или военнопленные, вернувшись на родину после освобождения, построили себе в Вюрсбурге подобный поселок — во всяком случае такой же, рассказывают очевидцы, существует сейчас в Германии.
На кухнях поначалу стояли печки. Лестницы были деревянные с балясинами. Из кухни был второй выход во двор. Между домами оставлены были роскошные пространства, которые жильцы предполагали превратить в сады и цветники. Фасады домиков демонстрировали гипсовую сытую жизнь после войны, пятиконечные звезды утопали в гирляндах и фруктах. Вот такой поселок в Москве. Говорят, Станин, посмотрев на макет этого поселка, мрачно сказал: «Не жаль вам московской земли».
Для стариков и детей это был рай, когда выросли сады и цветы и появились асфальтовые дорожки внутри дворов, можно было кататься на самокатах и велосипедах. Ужасно это было только для служащих — до центра было далеко, метро не было, а автобусы ходили переполненные. Бабушке, Тате и маме со мной дали на Хорошевке отдельную квартиру. Мама продала свой любимый туалетный стол-комод красного дерева — «туалет», как она его называла. На Пушкинской — в коммуналке — он стоял у нас углом, в его зеркале отражался наш быт, а под зеркалом была витринка для украшений, обитая внутри потертым зеленым бархатом, где долго лежала мамина коса. Туалет был продан вместе с косой в 1947 году, чтобы оплатить переезд на Хорошевку.
Поселок заселили заводскими работягами и разночинной интеллигенцией. Здесь поселились юристы, спортсмены, писатели, композиторы, актеры. Жил писатель Павел Нилин — с его сыном Сашей и сыном поэта Семена Липкина мы учились в одном классе. Жил здесь композитор Михаил Чулаки, директор Большого театра, со своей очаровательной женой — Ольгой Лаврентьевной. С ее сыном Витей Ашкенази мы тоже были одноклассниками, сидели за одной партой. В поселке жили поэт Евгений Долматовский, драматург Исидор Шток, поэтесса Мария Петровых.
Мама поставила в то время два спектакля в Театре имени Моссовета: «Девочки» Веры Пановой и «Студент третьего курса» Бороздиной и Давидсона. Это были прозрачные, радостные спектакли первых послевоенных лет. Потом их было много…
Раневская одобрила Хорошевку — ее Лиле и эрзац-внуку там будет хорошо. Но сначала не заладилось: проводили газ, и при осмотре техник зажег спичку у газового ввода — раздался взрыв. Я играл в футбол во дворе, помню: все стекла и нашем доме надулись, как пузыри, и вылетели, а с черного хода выбежал, держась за голову, человек — это был несчастный техник. Все остались живы. Через полчаса приехала на театральной машине бледная мама, а через час — готовая растерзать виновных мрачная Фуфа. Потом про взрыв забыли все — но не сам дом, он всю свою недолгую жизнь трескался, оседал, его ремонтировали, стягивали, красили — пока мы там жили, из привлекательного коттеджа он превратился в развалину.
Раневская бывала у нас почти через день, иногда ночевала.
Бабушкина племянница — Елена Владимировна Вульф в начале 50-х годов приехала к нам погостить из Углича под Новый год, когда отмечался день рождения моей мамы. Где-то на Беговой улице Елена Владимировна разыскала разноцветный кремовый торт с розочками, к которому Фуфа и бабушка не притронулись. Раневская уехала к себе. Стало ясно, что торт не понравился. Второй раз Елена Владимировна купила изысканный пражский торт. Бабушка была в восторге, позвонила Раневской: «Фаиночка, приезжай чай пить, Леночка торт купила!» Фаина Георгиевна спросила: «С розочками?» — «Нет, без розочек, хороший, приезжай!» Раневская приехала. Торт ей понравился. В момент трапезы к нам пришла делать уколы инсулина прикрепленная к Раневской ее любимая врач-диабетолог, увидевшая пациентку, поглощавшую большой кусок торта. Застигнутая врасплох, Раневская сказала: «Ах, извините, Тамара Ивановна, виновата перед вами очень. Колите безжалостно мое туловище».
Фаина Георгиевна дарила мне замечательные минуты перед тем, как уезжала вечером от Павлы Леонтьевны с Хорошевского шоссе к себе домой. Уже в пальто Фуфа садилась на край кровати и начинала «колыбельный» экспромт. Она называла это «стихами сумасшедших». Импровизируя, Фуфа декламировала беспрерывные строки, в которых фантастически переплеталась действительность с вымыслом; окружающие нас люди — с героями пушкинских, гоголевских и многих иных сказаний; должностные лица и государственные деятели — с животными и птицами; древнейшие одежды — с самыми современными мундирами; умные — с дураками, миллионеры — с нищими, красавицы — с уродами. Заснуть было невозможно, мы вместе содрогались в темноте от хохота и счастья сопричастности к рождению этого удивительного мира, где все можно, где царит случай и нет правил, кроме одного стихотворного размера, который если и нарушался, то так же утрированно, как и соблюдался. Одним из любимых персонажей был мужчина в малиновом берете по аналогии с «Евгением Онегиным», но его поведение никак не регламентировалось. Это короткое вечернее счастье объединяло нас, и я не мог дождаться, когда оно снова повторится.
С той же страстью Раневская отдавалась живописи. Павла Леонтьевна рисовала регулярно и суховато, чаще копируя известных мастеров, цепко схватывая их манеру письма. Фаина Георгиевна творила в противоположной манере. Ее этюды очень лиричны, полны акварельной влаги и осенней грусти и хотя, на первый взгляд, кажутся наивными, неповторимо обаятельные. Смотреть, как Фаина Георгиевна пишет акварелью, было так же интересно, как наблюдать за возникновением под ее пером «рож» — бесконечной вереницы стариков в очках и без очков, плотно «утрамбованных» на листе тетради, календаря, на обложке журнала или даже почетной грамоты. Все они рисовались анфас: грустные, косоватые, несимметричные, но знакомые и добрые — даже те, кого Фаина Георгиевна хотела наделить устрашающими чертами. «Рожи» мгновенно заполняли пустые страницы, появляясь неожиданно, в больших количествах. Это, очевидно, был для Раневской своего рода отдых, разрядка.
Не могу себе простить соревнования в живописи, которое я навязал Фуфе. Натасканный занятиями по рисунку в художественной школе, я предложил ей одновременно выполнить этюд «на время» из нескольких тем, которые я назвал. Фаина Георгиевна выбрала, конечно, пейзаж, как я и предполагал. Мне легко было сделать этюд — закатное небо от фиолетового к красному — и обратно, отражение в воде с синеватой полоской леса на горизонте, лодка и дерево на переднем плане у берега; это был подлый штамп.
А Фуфа билась от сердца — дождь, косые деревья, трава, все неустойчиво с наклоном влево — она была левша, рисовала, причесывалась левой рукой, только письма писала правой. Рисовала смущенно, но не сдаваясь, замечательно искренне. Это был другой мир, ее, только ее — не важно, соревнование это было или она рисовала одна…
А потом «соусом» пробовала себя в автопортретах — как будто серьезно и написала сама себе: «Я не умею рисовать».
Ее комнатой на Хорошевке была комната бабушки. Может быть, предметы, окружавшие четырнадцать лет Фаину Георгиевну в нашем доме, помогут лучше рассказать о ней, о ее привычках и симпатиях.
Курила она только на кухне и вообще у нас редко — потому что у Павлы Леонтьевны случались приступы кашля. В их комнате на окне были глиняные горшки с цветами — алоэ, аспарагус, «домашнее счастье», лилия. Большой горшок был покрашен Фуфой в красный цвет — эстетика Леже, с женой которого — Надей — она была знакома; стояло мягкое кресло с высокой спинкой — их было два: одно у Фаины Георгиевны, которое она тоже покрасила красной масляной краской, а другое она перевезла к бабушке. Когда Фуфа была у себя дома, кресло напоминало ей о Лиле. Стоял у окна письменный ореховый стол с двумя тумбами, на нем приемник — сначала старый ящик, а потом «Мир», о котором уже шла речь; еще на столе всегда стояла причудливая металлическая овальная корзина с синими лепестками по краю, в которую бабушка ставила селедочницу с водой, а Фуфа наполняла ее незабудками и фиалками. На столе — фотографии: Веры Федоровны Комиссаржевской с ее дарственной надписью бабушке, Василия Ивановича Качалова — с дарственной надписью Раневской и мы втроем в Куоккале в 47-м году. На столе стоял старый деревянный стакан, очень красивый, с «чеканкой» по дереву и билибинской картинкой «Царевна-лягушка», лежал палехский черный деревянный нож с «золотой рыбкой» — для разрезания книг.
Был в комнате бабушки привезенный из Старопименовского переулка платяной темный шкафчик в абрамцевском духе — с тремя квадратными окошечками, одно было повернуто по диагонали — в них были зеленоватые изразцы без сюжета. Шкафчик был неудобный, но стильный. Был еще восьмигранный туалетный столик. На нем стояла черная палехская шкатулка с изображением красно-белой мчащейся тройки; внутри все поверхности были ярко-красными. Другая бабушкина большая шкатулка из карельской березы, где лежали нитки, иголки и грибок с наперстком для штопки, у нас сохранилась. Карельскую березу Раневская любила: в память о Павле Леонтьевне приобрела потом гостинный гарнитур из карельской березы — но это было много позже — на Южинском. На граненом столе находился маленький бюст куклы из темного палисандрового дерева — стриженая девица с челкой. Лицо у куклы было скучное — я ее не любил; она служила грузом для бумаг. На стене висела длинная открытая книжная полка из ореха — там стояли четыре тома Пушкина, издания 1937 года, с пушкинским барельефом на желтоватой твердой обложке — подарок Фаины Георгиевны. Эти тома Пушкина тоже сохранились. У стены стояла бабушкина тахта, в углу — Фуфина раскладушка, потом — диванчик.
В это же время Фуфа подарила мне книгу Натальи Кончаловской «Наша древняя столица». С Кончаловской Фаина Георгиевна дружила еще до войны — есть их фотография, по-моему, в Кисловодске, в санатории. Помню, книга о Москве — тогда праздновали 800-летие — была рыжая, в тканом переплете с картинкой на обложке. Кто-то ее у нас увел. Остались в памяти стихи Кончаловской, из этой книги обрывки: «И звучат, звучат слова: Славен, славен град Москва!» и «Ведь свеча во чистом поле, на ветру горит скорей».
Наталья Кончаловская и позднее дарила Раневской пластинки, книги. Есть книга с такой надписью:
«Дорогой моей Фаине — с радостью преподношу эту книгу о моем деде Сурикове.
В первую ночь Нового года 1966-го, проведенную вместе за нашим никологорским столом, за живой, веселой нашей дружеской семейной беседой!
Любящая Вас крепко и всегда Наташа».
Бабушка старалась всегда быть в форме — тщательная прическа с «бабочкой» по бокам пробора, идеальная блузка с черной старинной брошью, тяжелые серьги в ушах. Раневская подарила Павле Леонтьевне золотое колечко с синим камнем, тросточку с янтарной загнутой ручкой — как у Абдулова. Еще Раневская, уже в 50-х годах, привезла нам застекленный книжный шкаф и деревянную люстру — из комнаты на Старопименовском. Люстра у нас и сейчас.
Вот и все их хорошевское богатство.
Несколько раз справляли вместе с Фаиной Георгиевной Новый год. Наш двухэтажный коттедж был населен актерами Театра Моссовета: внизу жили Пироговы, Осиповы, Парфеновы, Бенкендорфы-Злобины; наверху — Названовы-Викланд и наша семья. Все дружили; пожалуй, только Названовы существовали особняком. Маленькая Лена Осипова училась кататься во дворе на фигурных коньках, и никто не знал, что она станет чемпионкой и известным тренером Еленой Чайковской. На Новый год к нам поднимался Люся (Леонид) Пирогов, племянник знаменитого певца Большого театра Пирогова, и, видя Раневскую, своим мощным басом грохотал восхищенно: «Фаина Георгиевна, честное слово, честное слово, Фаина Георгиевна, даю вам честное слово, и т. п.». Целовал руки, становился на колени, глаза на мокром месте — это было растворение личности в обожаемом Таланте. Он, по словам Раневской, очень одаренный актер, играл мало, как и большинство актеров огромной труппы Театра Моссовета.
Я еще не понимал этого благоговения перед Фуфой и в детстве позволял себе нагловато и бесцеремонно садиться к ней на колени по ташкентской привычке.
«Как в кресло», — говорила Фуфа, наполненная противоречивыми чувствами. Невозможно забыть ее теплое, доброе дыхание, разговор — сидеть было очень уютно.
Раневскую нельзя представить без животных, которых она не то что любила, а жить без них не могла. Многих мы воспитывали вместе. Первым был Блэк — огромный эрдельтерьер, непослушный, как все домашние эрдели. Когда он вырос (это было у нас на Хорошевке), нашим пожилым женщинам стало трудно с ним справляться, а я был еще мал. Тогда Фаина Георгиевна отдала его своей подруге — Ирине Сергеевне Юккельсон, где он долго и счастливо жил в холе и неге.
Вместо необузданного Блэка Раневская завела чудесную черно-белую маленькую спаниеля — Мушку. Любила она ее, эти длинные уши, умный и кроткий взгляд, необычайно. Но собаку не уберегли — она умерла от чумки.
Первым котом был серый Кузя. Прожил он недолго, но упомянут в одном из писем Раневской. Зато второй кот, сиамский, взятый в семью моей мамой, прожил с нами почти двадцать лет. Назвали мы его Тики, в честь плота Тура Хейердала «Кон-Тики». Фаина Георгиевна сфотографировалась с ним у нас на Хорошевке, и этот портрет с котом и сигаретой в руке попал на обложку буклета о Раневской.
Последняя в ее жизни собака — дворовый Мальчик — скрасила одинокую старость Фаины Георгиевны, когда она жила в Южинском переулке. Она его обожала безмерно.
Когда в доме у Раневской не было животных, их заменяли книги Джералда Даррелла, очень близкие ей. Она много говорила о нем, восхищалась, всегда давала мне его читать. Фаина Георгиевна вообще относилась к книгам как к живым существам. Слава богу, что она могла до последних дней читать. Ее домашняя библиотека была открыта для всех. Она читала постоянно, раздаривала книги, боялась людей, которые мало читают.
Раневская «замечала» в дневнике:
«Читаю Даррелла, у меня его душа, а ум курицы. Даррелл писатель изумительный, а его любовь к зверью делает его самым мне близким сегодня в злом мире».
«Читаю, читаю, перечитываю. Взяла и Лескова перечитывать. „Юдоль“ — страшно и великолепно. Писатель он ни на кого не похожий, он не может не удивлять. Только Россия могла дать и Толстого, и Пушкина, и Достоевского, и Гоголя, и аристократа (от лавочника) Чехова, и мальчика Лермонтова, и Щедрина, и Герцена, и Лескова неуемного — писателя трагически одинокого; и в его время, и теперь его не знают, теперь нет интеллигентных, чтобы знать их вообще, писателей русских. У Лескова нашла: „Природа — свинья“. Я тоже так думаю! И всегда так думала я. Но люблю ее неистово (а „свинья“ — это о похоти).
Сейчас долго смотрела фото — глаза собаки человечны удивительно. Люблю их, умны они и добры, но люди делают их злыми».
Приехав из Польши и Чехословакии, где была с театром вскоре после войны, Фуфа привезла мне бархатные короткие штаны на лямках с желтыми деревянными пуговицами и нестандартным откидным клапаном. Были подарены также: легкое бежевое пальто, вишневая тончайшая «висючая» рубашка с короткими рукавами и цветные теннисные мячи. Хотела, чтобы я был элегантен. «Арбитром элегантиарум», по выражению Фаины Георгиевны, был для меня тогда задушевный приятель Огурец — вечно немытый, пальто без пуговиц, в шапке-ушанке, одно ухо которой висело, а другое торчало, что, впрочем, позволяло ему с легкостью растворяться в нашей дворовой компании, жившей по законам собственной красоты. Мы все тогда напоминали Челкаша с его обнаженным пролетарским происхождением.
В свои 8 лет я был худ и длинен. Изящный польский наряд, который я со слезами надел под нажимом всей семьи, тут же был замечен Огурцом сотоварищи, и все оставшееся мне детство пришлось доказывать, что я свой в доску. Тем не менее за Фуфино пальто я получил от возненавидевших меня хорошевских девочек прозвище Американец, постоянно выкрикиваемое вслед. «Все проходит, и это пройдет», — повторяла Раневская. Всеобщее опрощение происходило на ее глазах, мучительно обозначая примету времени, в котором она жила.
В то время, в 1949 году, в Союзе проходила кампания против «космополитизма», по радио звучали песни о перелетных птицах, не имеющих Родины.
Помню, в филиале Театра имени Моссовета в «Недоросле» замечательно играла Ляля Левыкина, высокая статная женщина с огромными умными глазами. Фаина Георгиевна пошла со мной к ней за кулисы поздравить. Я смотрел на Левыкину, видел ее подтянутый ленточкой для роли нос, добрые огромные глаза и не знал, что над ней уже сгустились тучи. Ее мужа обвинили в «космополитизме», все это Левыкиной было невыносимо. Ничего нельзя было сделать. Вскоре она заболела и умерла.
Безродный «космополитизм» стоил Раневской многих сил и здоровья. Когда речь заходила о людях, умеющих легко адаптироваться к любым обстоятельствам, Фаина Георгиевна или пожимала плечами, или относила это свойство к везению. Например, о Юрии Александровиче Завадском говорила, что «он родился в енотовой шубе».
Она все понимала, и сломанные судьбы огорчали ее тем больше, чем талантливей был человек.
Периоды нашей дружбы с Фаиной Георгиевной сменялись полосами ее разочарования и раздражения моими «способностями» и безрезультативностью многолетнего воспитания. Меня качало от полублатного окружения к великосветскому салону, который мысленно сооружала для меня Раневская, надеясь на ослепительную карьеру ее «эрзац-внука». Если входила в комнату, где я сидел, давно знакомая наша соседка, Фаина Георгиевна гневно восклицала: «Не смей сидеть перед стоящей женщиной, встань сейчас же!» — и потом, после короткой паузы, во время которой я пытался исправиться, почти безнадежно: «Как ты плохо воспитан!»
Фуфа и бабушка постоянно учили меня хорошим манерам:
«За столом нельзя петь — у твоей жены будет муж дурак», — говорила бабушка.
«Хлеб нельзя откусывать, нужно отламывать», — настаивала Фуфа. «Он у вас босяк!» — обращалась она к Павле Леонтьевне.
Фаина Георгиевна не подозревала о дворовых нравах, устоявшихся среди друзей Огурца. Стоило ему вынести во двор ломоть черного хлеба с куском сахара, как его собратья требовали: «Оставляй!» Оставлять было жалко, да и нечего. Универсальным ответом было: «Выноси!» — то есть возьми и сам вынеси такой же кусок себе. Уязвленный проситель обычно появлялся с непомерно большим куском, гораздо лучше и больше, чем у первого едока. Страсти разгорались, и через короткое время образовывался круг жующих конкурентов с огромными кораблями-бутербродами в руках. Не глядя друг на друга, участники откусывали куски хлеба, грубо нарушая правила хорошего тона, внушаемые мне Фуфой. Впрочем, и сама Раневская следовала этим правилам далеко не всегда.
Предметом моей зависти был самодельный самокат — героическое устройство для езды по асфальту. Это изделие имело два металлических подшипника, один — внизу вертикальной рулевой доски, а другой — в фюзеляжной части «салона», в хвосте горизонтальной доски. В передней части горизонтальной доски был укреплен торчком короткий кусок бревна. К нему-то и крепилась на проволочных петлях рулевая доска.
Аппараты издавали при движении бесподобный грохот нарастающей силы, когда по асфальту мчалась стая друзей с непроницаемыми лицами.
Долго терпеть отсутствие самоката я был не в состоянии. Домашнему изготовлению не поддавались два подшипника. Я обратился к Фуфе, умоляя их достать. Через короткое время после концерта с Абдуловым на подшефном заводе Фаина Георгиевна торжественно вручила мне два тяжелых предмета, завернутых в промасленную заводскую бумагу. Это были действительно подшипники, но не те! Они не могли быть колесиками, у них все было скошено! Для нас обоих это была трагедия. Раневская закусила губу. Временное поражение распалило ее страсти; Фуфа решила реабилитироваться. И вот она подарила мне роскошный трофейный немецкий подростковый велосипед «Мифа». Это был другой масштаб удовольствия, непомерное баловство.
Судьба «Мифы» сложилась еще драматичнее, чем неосуществленного самоката. У ребят во дворе настоящих велосипедов в тот момент еще не было. Я постоянно «оставлял» «Мифу» покататься, поскольку «выносить» они ничего не могли. Весь световой день на «Мифе» катался наш двор, а я стоял в беспросветном ожидании. Ситуация накалялась до тех пор, пока у соседей не появились еще более роскошные немецкие велосипеды «Диамант» и женский, презираемый всеми рижский велосипед «Тура», бросающий тень на его хозяйку своим названием. Когда появились наши полугоночные «взрослые» велосипеды «Турист», Фуфина «Мифа» была продана в семью архитекторов Тарановых.
В педагогическом отношении Раневская была человеколюбом и анархистом. Постоянно видя меня вечером за уроками, с первого по десятый класс, Фаина Георгиевна требовала от мамы и бабушки, чтобы я меньше занимался, больше гулял и дышал свежим воздухом; в конце концов, остался бы на второй год: главное — здоровье. Так повторялось в каждом классе, и, следуй я ее рекомендациям, только сейчас, в свои 50 с хвостиком, заканчивал бы среднюю школу, сохранив могучее здоровье.
Иногда она добивалась своего и везла меня с бабушкой в недалекий от нашей Хорошевки Серебряный бор.
Когда я учился уже в старших классах и Раневская рассказала нам на Хорошевке монолог одесситки, подслушанный ею во время гастролей:
«Воспитывание дитё заключается в том, чтобы делать наоборот, что дитё хотит. Бивало, мой Суня мне говорит: „Мама, я надену эта блюза“. Я ему говорю: „Нет, Суня, ты эта блюза не наденешь!“ Он мне говорит: „Мама, но ведь я тоже человэк!“ А я ему говорю: „Нет, Суня, пока живы родители, ты не человэк“. И что же ви думаете? Мой Суня кончил все образования на мэдаль. И первая его мисль — так это за мать. И до брака — он был чыст, как иголкэ!»
Как в вопросах педагогики, так и в хозяйственной области Фуфа была разрушителем; мама со страхом ждала очередной ее инициативы. После подарков и демократических педсоветов Раневской все начинали жить «на широкую ногу» — но весьма недолго. Возвращаться в наш бедняцкий бюджет и режим было мучительно.
Однажды зимой мы отправились с Фуфой в кинотеатр «Динамо», а после фильма вышли из-под душной трибуны на воздух и остались смотреть хоккей с шайбой.
Тогда, в 1949 году, закрытых хоккейных площадок еще не было, и на «Динамо» заливали поле у восточной трибуны. Фаина Георгиевна долго стояла на морозе, глядя на ярко освещенное ледяное поле, и вдруг начала возмущаться: «Как они вульгарны, какие некрасивые движения у спортсменов! В мое время играли элегантнее, не было этой спешки, драки. Фу, какая пошлость!» И решительно повела меня прочь. Оказывается, она решила, что мы смотрим классический английский гольф с его изысканными размашистыми ударами. Как давно она видела эту игру, «буржуазный» гольф, спутанный ею с канадским хоккеем!
В 1949 году Раневская создала свой концертный шедевр — инсценировку чеховской «Драмы». Работа над образом Мурашкиной проходила у меня на глазах. Фуфа показывала готовые куски роли бабушке — Павле Леонтьевне, советовалась с ней, бесконечно переделывала. Это было «строительство» роли, «сплошняк», как говорят в Архитектурном институте. Она тщательно продумывала каждую деталь костюма, аксессуары — шляпу, пенсне, сумку; сама сшила суровыми нитками из листов бумаги огромную рукопись «Драмы» — жирную тетрадищу, которую доставала из сумки в начале сцены. Раневская часто оставалась ночевать у нас на Хорошевке, и в квартире звучали песни «поселянок и поселян», несущих свои пожитки в кабак. Десятки вариантов были отброшены, прежде чем зазвучала единственная оставшаяся: «Во субботу, день ненастный, нельзя в поле работать…» Бесконечные пробы, обсуждения с Павлой Леонтьевной, упоение Чеховым, гениальное развитие его ремарок. И все время на устах: «Абдулов, Абдулов». Она была в нем уверена и не представляла другого партнера.
У «Драмы» был ошеломляющий успех, а Фаина Георгиевна жаловалась, что Осипу скучно, и, слушая ее монолог, он развлекает публику: ловит мух, играет с ними, бросает в графин с водой и т. д. А потом восхищенно приняла эти абдуловские находки и после смерти Осипа Наумовича сохранила их с Тениным в телезаписи. Абдулов не щадил себя и умер в 1953 году в расцвете творческих сил. Раневская тосковала и скучала по нему всю оставшуюся жизнь.
Около полугода работала Раневская над «Драмой» — в общем-то коротким рассказом Антона Павловича Чехова. Все время слышалось ее характерное «и-и-и-и» — она проверяла голос, читала, пела, доказывала, сердилась.
Раневская создавала свой шедевр, погружаясь в пучину недовольства собой. Это качество воспитала в ней моя бабушка. «Как только понравишься себе — все, ты уже не творец, а ничто, каботин, — постоянно твердила она Раневской. — Ты можешь лучше». Работа продолжалась далеко за полночь.
Характерная картина того периода. Зима. Фаина Георгиевна в мужских теплых сапогах на молнии, в сером длинном пальто с каким-то особым светлым меховым воротником мрачно выхаживает туда-сюда по Хорошевке — руки за спиной, нахмурена, вдох через нос, выдох вниз ртом — тренировка, чтобы быть в форме.
Помните — Крым, голод: «Пьеса оказалась в пяти актах, в ней говорилось о Христе, который ребенком гулял в Гефсиманском саду… Дама продолжала рыдать и сморкаться и во время чаепития. Пирог оказался с морковью, это самая неподходящая начинка для пирога… Это впоследствии дало мне повод сыграть рыдающую Мурашкину в инсценировке рассказа Чехова „Драма“, — писала Раневская.»
Я бесконечно рад тому, что сохранились удивительные письма, которые я получал в детстве от Фаины Георгиевны, письма, полные юмора, воспоминаний о шутках Абдулова, письма, говорящие о бескрайнем таланте Раневской, которая порвала начатые было «мемуары» и так мало оставила нам своего рукописного наследия.
Письмо Ф. Г. Раневской А. Щеглову, 1950 г. На конверте «Совершенно Секретно Гражданину Хвостикову-Запупинскому от гражданки Белокобылкиной».
Текст письма такой:
«Дорогой гражданин Хиздриков-Канапаткин!
Очень грущу, что не могу лично пожать Вашу честную, хотя и не очень чистую руку!
Болезнь приковала меня к постели. Это не особенно приятно — лежать на ложе, из которого винтом выскочили пружинки, которые имеют тенденцию впиваться в мою многострадальную попку! Но этим не ограничиваются мои несчастья: у меня выскочила печенка и торчит кулаком. Я ее впихиваю обратно, но она выскакивает как Ванька-встанька.
Это печальное обстоятельство лишает меня возможности выполнить Ваше поручение в магазине Культорга. Как только удастся вдвинуть печенку на ее обычную позицию, я Вам куплю марки всего земного шара. Куплю глобус и прочие культурные товары.
А пока обнимаю Вас и целую в спинной хребет. Желаю всего наилучшего. С глубоким уважением. Ваша племянница Канарейкина-Клопикова — из города Вырвизуб. Мой адрес. Улица Лахудрова, дом 4711.
P.S. Дорогой дядя, Афанасий Кондратьевич!
Я посылаю Вам 100 рублей, с тем, что бы Вы попросили Вашу мамашу — Клотильду Трофимовну — купить Вам всего, что вашей душе угодно!
Еще раз целую Вас в загривок и прочие конечности.
Напишите мне что-нибудь культурное, можно и не культурное.
Только напишите, дядюшка».
Письмо Ф. Г. Раневской А. Щеглову — 23. 11. 1950 г.
«Здравствуй, здравствуй, Казюля Абрамовна!
Очень скучно мне без тебя. Очень прошу скорее увидеться с тобой, африканская Пипишка!! Но я занята очень и, кроме того, разваливаюсь на куски вроде вашего дома. Но Ваш дом ремонтируют, а меня не ремонтируют, не заклепывают, не затыкают мои щели! Сегодня бабка меня мазала йодом, но паршиво мазала, без вдохновения, без творческого экстаза! Уж если бы я взялась мазать человека — я бы обязательно нарисовала на попке березку или птичку.
Когда будет время, пойду в магазин культтоваров и куплю тебе культурную игру!! Что бы тебе хотелось? Подумай и напиши мне. Только не проси барабан — он абсолютно не культурный, его делают из бычьего мочевого пузыря.
Тебе кланяется Абдулов, он меня заездил концертами, а когда я взмолилась и запротестовала, он сказал: „Что же Вы со мной делаете? Вы хотите, чтобы я с моим сыном стоял около магазина Елисеева с протянутой рукой и просил милостыню?“ Говоря эти жалкие слова, он пустил слезу. Мне стало его жаль, и я согласилась еще на несколько концертов.
Бабка сейчас ложится спать и требует, чтобы я кончала писать и тоже легла.
Очень завидую бабушке, что она тебя завтра увидит, а у меня премьера, приеду послезавтра, если у меня не будет по воле Абдулова 10 концертов в один вечер.
Обнимаю и целую тебя, Хлюстик Авдеевич, привет Тате!
Привет Кузьке. Скажи ему, чтобы он меньше бегал и дрался, иначе он плохо кончит! Из него сделают воротничок на шубку или ушастую шапку.
Пусть сидит дома и спит.
Посылаю тебе бутылку очень хорошего вина грузинского. Когда выйду в город, куплю пластинки, которые ты просил — „Сулико“ и „Каким ты был“.
Посылаю тебе смешную книжку, она чужая, а потому ты с ней обращайся по возможности бережней — твоя Фуфа!
(Рисунок Ф. Г. Раневской: автопортрет и фигура карлика в очках)
Это Фуфа в молодости!
Когда она бегала и гуляла, как Кузька!
Фуфин жених!»
Письмо Ф. Г. Раневской А. Щеглову в начале 50-х годов:
«Драстуйте дарагой дядичька.
Вам пишит ваша плимяница из города Краснокурьева.
Наш город Краснокурьев славитца своими курями. Куры у нас белыя и чорныя, и серинькия, а пачиму наш горад Называица Краснокурьев я ни знаю.
Я учюсь в первам класи и щитаюсь первая учиницай патаму что другие рибята пишат ище хужи меня. Дарагой дядичка пажалусты пришлите мне к новаму году многа падаркав за то что я так харашо пишу без адной ашипки а сичяс дядичка я Вам пасылаю шикалатку патаму что вы дядичька такой сукин сын что кроми шикалатки ничего не жрети. Дядичька у миня спортился корондашык и сафсем ни пишит а патаму я вас очинь кребко абнимаю и цулую Ваша плименица Дуся Пузикова».
Сочинения Раневской не исчерпывались только письмами к «эрзац-внуку». Еще драгоценней были ее пародии на деятелей искусства. Фаина Георгиевна прочла бабушке, а потом послала маме отрывок из пьесы — одну из пародий, написанную по горячим следам:
«Ирочка, это я забавляла Павлу Леонтьевну. Уверяю тебя, что я почти ничего не прибавила к его речи, было стыдно за него, за себя, за всю сволочь подхалимскую — актеров. Хихикали в буфете после собрания. Печален был смешливый Абдулов и я.
Досадно, что тебя не было на этой стыдобе! А может быть и лучше, что ты этого не слышала.
Мама очень веселилась, когда я ей читала главу из моей пьесы».
«Из „Пьесы о театре“:
(…трясут кофточки около подмышек, мужчины вытирают выи. Приглушенный ропот).
Выступление Распадского: „Друзья, мои прекрасные друзья, я счастлив (плачет), эти слезы поймите как проявление радости и счастья, что я вижу всех вас — лучших из лучших. Сейчас я понял, как я виноват перед вами, я ленился, я недооценивал такой могучий, здоровый, такой талантливый коллектив. Я спрашиваю себя: имел ли я право, я, недостойный вас, руководить вами? Нет, не имел! Тысячу раз нет! Отдаю себя в ваши руки! Воспитуйте меня, сделайте из меня достойного вас руководителя, ругайте меня, критикуйте; вы щадили меня, вы слишком снисходительно относились к такому прохвосту, лентяю, бездельнику, скажу больше — ничтожеству, каким я был все эти годы. Я рисовал, я неоднократно женился, я предпочитал вам Большой академический театр Союза ССР! Да, я любил балет, но отныне я полюблю только вас, не умеющих делать фуэте и па-де-дё! Я, презренный, духовно обнищавший, отныне хочу впитать в себя здоровый дух моего коллектива, хочу знать все ваши чаянья, желания, мечты. Пусть каждый из вас возьмет на себя обязанность учить меня, исправлять мои ошибки, а если будет необходимость, — наказывать меня сурово и беспощадно.“
(Хочет стать на колени.)
Все кричат „Не надо!“, „Ура!“, „Любим!“, крики переходят в овацию. Распадского качают, сотни рук подхватывают его покорное тело и опять подкидывают вверх. Летает он легко, как пушинка, закрыв глаза, беспомощно и благодарно улыбаясь, посылает воздушные поцелуи.
(Занавес.)»
Другим письменным шедевром Фуфы был пародийный «Дневник писателя» и цикл входящих в него стихов:
Дневник писателя
Понедельник
Сегодня наконец получил путевку в «Дом Творчества». Комната отдельная, чистая, сбегал в санузел. Чистота идеальная, не ожидал. Здесь много известных писателей, но никого не знаю.
Приехала какая-то пожилая в штанах. Ей подали к обеду что-то прикрытое салфеткой. Завтра с утра засяду за работу, говорят, Толстой с утра садился писать каждый день, даже когда ему не очень хотелось. Завтра попробую и я. Кроме того, сегодня понедельник, пойду на лыжах окислюсь, а завтра с утра трудиться, трудиться и трудиться, как говорил Алексей Максимович.
Вторник
Спал, как сурок, потом блаженствовал в санузле. Сегодня приехала еще одна толстая в штанах и на «ЗИМе». Видел в окно, как она вылезала из «ЗИМа», шофер понес за ней чемодан желтый, не наш и в наклейках.
Проклятая моя впечатлительность помешала сосредоточиться, собраться с мыслями. В вестибюле толстая громко смеялась. Накупила, наверное, за границей на четыре сезона. Выбила меня из колеи. Но я преодолел тяжелое чувство неприязни к зажиревшей негодяйке и заставил себя сосредоточиться. Придумываю название очерка. «Вечер в семье» или «У семейных огней», а м. б. просто «В семье». Краткость — сестра таланта. Не помню, кто это сказал? А м. б. это я сам, но забыл.
Толстая в штанах, что на «ЗИМе» и с наклейками, ржет, как лошадь, на весь дом и не дает сосредоточиться. Пойду завтракать. После завтрака засяду, как Толстой.
Среда
Толстая притихла, уселась за роман — пишет продолжение: «Степан Степанович». Говорят, этот опус со Степаном дал ей пол миллиона. — Пойду окисляться.
Четверг
Весь день был злой, как собака, — попробую написать лирические стихи. Как-то легко и просто родилось название:
ЗИМНЕЕ
Примят снежок —
И лыжники несутся весело гурьбой,
В лесу заснувшем,
Где когда-то мы с тобой,
Застыли в первом поцелуе,
Ты помнишь, милая, у старой туи!
Нам было в пору ту по двадцать лет!
Ты замерла,
И это был ответ на мой вопрос безмолвный:
«Да иль нет?!»
Ты помнишь, милая,
Как ласково склоняясь,
Ты в верности мне страстно поклялась,
А я сгребал снежок
Вокруг твоих замерзших ног!
Теперь тот снег на голове твоей
В кудрях пушистых притаился,
А внук наш маленький
В постельке вдруг зашевелился.
А на окне застывшие узоры,
Ворота нашей дачи на запоре.
Мы вместе, мы вдвоем,
Мы охраняем наше счастье
И наш дом!
Написал одним дыханием и без помарок. У Долматовского бы взяли, а мне не везет.
Пятница
Перечел вчерашние стихи, был взволнован до слез, уже отослал Софрону, что-то скажет Толя! Неужели же не почувствует их силу? Приехала еще одна толстая в штанах, рассердилась, что здесь нет биллиарда, и, кажется, вечером уезжает. Скатертью дорога!
Весь день чешутся руки на стихи. Неужели так действует «Дом Творчества»? Все может быть. В Москве бы мешали телефоны и мелкие мысли, а здесь постепенно сползает с души все ненужное, опошляющее. Но творческое влияние отняло силы. Чувствую расслабленность в мышцах. Говорят, Бальзак, дописывая «Отца Горио», сам чуть не умер. Пойду окисляться, а потом обед. Вспомнил, что к обеду той, что в штанах, опять подали что-то прикрытое салфеткой. Неужели и сегодня повторится этот гнусный блат! Придется искоренить. Напишу А. Суркову и подпишусь: «Неподкупный собрат».
Суббота
Пробовал читать, но почему-то моментально засыпаю. Надо будет зайти в Литфонд проверить кровяные шарики. Нет ли малокровия мозга? Вскочил от страшного шума в коридоре. Это толстая в штанах меняла чемодан в наклейках с той, которая упала на лыжах. Лыжница (она теперь на костылях) доказывала, что ее кофточка из шерсти дороже чемодана и требовала в придачу кое-что из косметики.
К обеду давали кружочки из мяса с луком — надо будет узнать рецепт.
Те, что в штанах, к обеду не спускаются во избежание конфликтов. Им носят в комнату. Завтра возьмусь искоренять этот чудовищный блат.
Позвонили из редакции — стихи приняты! Поощрение поднимает творческий дух. В голове появились заготовки сценария, очерков, поэм.
Воскресенье
Сломал вечное перо.
Упала на лыжах еще одна толстая в штанах и вывихнула что-то женское. Воспользовался приездом врача и просил его меня обследовать. Врач нашел сильное переутомление, предписал полный покой. Подчиняюсь.
Обе толстые теперь неотлучно сидят у телевизора. Они оказались доброжелательными. Одна одолжила перо, другая дала тему: юноша любит девушку, девушка любит юношу. Завтра засяду за работу.
Понедельник
Приехали два писателя, у которых ремонтируют дачи, была страшная драка. Потом они помирились. Я с ними выпил. Сегодня чувствую прилив сил и сажусь за массовую песню.
К ПТИЦАМ
Куда, куда летите, гуси?
В каком бы ни были краю,
Скажите девушке, что звал когда-то Дусей,
Что песню для нее я вновь пою!
И песню ту, что звонче нет на свете,
Я посвящаю, птицы, Вам, и ей!
Что я мечтаю, птицы, об ответе,
Когда вернетесь вновь
В широты Родины моей!!
Летите ж дружно
Стаей легкокрылой,
Скользите и парите в небесах,
И не забудьте поклониться милой,
Кого всегда я вижу наяву и в снах!!
Не знаю, что со мной, опять рождал без одной помарки. Чувствую, что «К птицам» мое credo — как говорили древние.
Опять шум в вестибюле — сбежал вниз: дерутся те, что помирились, у которых свои дачи. Мне тоже дали по шее, но я сделал вид, что не заметил.
Завтра засяду за большой роман — уже придумал название — «Отцы и дети». Вспомнил, что такое название уже есть, кажется у Гоголя. Придется назвать «Дети и их отцы». Впереди адова работа. Завтра с утра окислюсь и за дело.
Вторник
Спать не пришлось. Ночью приехали гости к тем, что ремонтируют свои дачи. Пели хором «Пшеницу золотую», «Шумел камыш» и другие массовые песни, я включился. Очень ругались те, что на костылях, потом Толя читал свои стихи.
Буду объективен — мои лучше!
Воспользовался нетрезвым состоянием Петьки и одолжил у него косуху. Надеюсь, он не вспомнит.
Пятница
Утром написалось что-то большое, незыблемое, думаю, что-то даже выше, чем «К птицам».
ПРИЗНАНИЕ
Зашумели, загудели бураны,
С ветки падает мерзлый лист,
А летом уйду на баштаны
Слушать птичек веселый свист.
Растянусь на земле родимой,
Долгим взглядом вопьюсь в вышину,
Сердцем чистым отдамся любимой,
Что ушла навсегда в тишину.
Читал толстым — они прослезились, сказали, что сильнее Блока. Отрадно сознание, что расту, расту!
Бегу окисляться!
Воскресенье
Косуху, что перехватил у Петьки, проиграл в «козла». Настроение подавленное. Опять пропало казенное полотенце, подозревают меня. Безобразие! Надо будет повесить обратно, когда все будут спать.
«К птицам» принято! Это подняло тонус. Думаю, что из всех литературных жанров мне больше всего даются стихи. Все же засяду за пьесу — это самое доходное. Уже придумал название: «В даль далекую».
Понедельник
Сейчас прочитал в газетах, что писатель Коберды Кобердаев получил орден. Эх!
Взял Серафимовича, надо пополнить багаж.
Приехала на жемчужной «победе» Татьяна Пэц и с ней еще две мелкие жульницы пера.
На этом «Дневник писателя» обрывается…
Конечно, Раневская понимала, что безумно талантлива. Знала — люди ждут ее появления на экране, в театре, но по-детски расстраивалась, что любят персонажи, а не ее, ревновала к ним.
Даже в нелепой постановке «Рассвет над Москвой», где Фаину Георгиевну уговорили играть «совесть народа» (мать директорши ткацкой фабрики), зрители встречали появление Раневской на сцене горячими аплодисментами. Так было на всех спектаклях, в которых она играла.
Бабушка была единственным человеком, кому Раневская позволяла и кого даже просила делать замечания о ее работе.
Вот часть письма Павлы Леонтьевны 1954 года — Фаине Георгиевне и маме на гастроли в Харьков — о радиопостановке водевиля с Яншиным и репетициях пьесы «Сомов и другие»:
«А ты, мне показалось, не во всю свою силу играла, как-то робко, неуверенно, и пела уж очень тихо и грустно — а ведь старуха эта разухабистая пройдоха. Может быть, я ошибаюсь, и ты меня прости и не огорчайся — я ведь всегда к тебе придирчива и требую от тебя того, чего никто не может, а можешь одна ты. Я обожаю твою Мерчуткину и Мурашкину и Лесковскую передачу и готова слушать каждый раз с возрастающим интересом, а это просто пьеса скучная, хоть и „классика“, и халтурная постановка…
Названов говорит, что Завадский не бывает на репетициях „Сомова“, значит, ты опять одна, Ируся. Может быть, это к лучшему…»
«Сомов и другие» — первый спектакль, где мама работала с Раневской. Это был тяжелый экзамен для мамы, который она выдержала. Спектакль получился.
Благодаря своей широкой известности Раневская помогала многим устроиться, перебраться в Москву, иногда посылала деньги — лишь бы не погиб талант, лишь бы состоялся художник, не считаясь с мучительными хлопотами перед чиновниками. А сама больше, чем многие, нуждалась в поддержке, ждала тепла, искала, на кого опереться. Однажды привезла голландскую кофемолку и попросила меня, «единственного мужчину в семье», прикрепить ее к стене. Но когда я, в свои 14 лет, вкривь и вкось начал прилаживать эту заморскую штуковину, отобрала у меня все и с какой-то обидой и горечью быстро прибила кофемолку к косяку — крепко и умело, как все, что она делала.
Хорошевка была для Раневской домом, где жили люди, которым всегда хотелось помочь, где она чувствовала себя чуть-чуть триумфатором, волшебником, приносящим сюрпризы, подарки, неожиданности. Как-то Фаина Георгиевна привезла к нам Светлану Сталину, с которой в это время встречалась, хотела познакомить ее с Павлой Леонтьевной. А может, хорошо понимая состояние Светланы (шел 1954 год), надеялась хоть чуть-чуть компенсировать ее замкнутость, рассеять ее одиночество. Помню молодую рыжеватую женщину, очень скованную, с крепко сжатыми губами. Все, что было в ней внешне некрасивого, немного напоминало ее отца, но связать эту в общем-то интересную женщину с цветными фотографиями вождя из «Огонька» было невероятно трудно. Говорила она негромко, но не испуганно, а уверенно. Обед быстро закончился, но надолго осталось ощущение какой-то несовместимости: Светлане Иосифовне так и не удалось найти верный тон, попасть в атмосферу нашей семьи. После ее ухода в комнате словно повисло ощущение беды. Фуфа приезжала к бабушке, когда была машина — метро она не переносила, в автобусе к ней приставали зрители; одна пассажирка в Одессе протиснулась к Раневской, завладела ее рукой и торжественно заявила: «Разрешите мысленно пожать Вашу руку!»
В конце концов Раневская решила нанять на время шофера с машиной, некоего Завьялова, человека хмурого и необаятельного; однако с его помощью Фаина Георгиевна часто приезжала на Хорошевку, ночевала, оставалась на праздники, ездила с бабушкой в Серебряный бор.
На Хорошевке Раневская встречалась с Ахматовой, когда та иногда останавливалась в Москве у Марии Сергеевны Петровых, жившей в нашем «писательском» поселке. Тогда я видел из окна Фуфу, вдыхающую через нос ненавистный ей морозный воздух, с руками за спиной, в мужских сапогах — она направлялась к Петровых, через несколько коттеджей от нас. По словам Раневской, Ахматова очень любила Петровых и говорила о ней: «Маруся — ангел», считала ее очень талантливой.
Когда Фуфа приезжала на Хорошевское шоссе, чтобы отвезти бабушку гулять в Серебряный бор, начинался переполох, сборы и поиски амуниции. Брали и меня. В «Серебчике», как звал Серебряный бор Огурец, Фуфа и бабушка доезжали, как правило, до нынешнего пляжа с левой стороны от Центральной аллеи. Там они спешивались, и начинался поход за кислородом. Новые посадки сосен были тогда еще молодыми, невысокими, и Фаина Георгиевна с бабушкой гуляли по дорожкам среди подлеска и редких старых сосен. Чаще всего это случалось в середине зимы, которую Фуфа не переносила. «Я ненавижу зиму, как Гитлера», — говорила она, снег называла саваном, но гуляла всегда с бабушкой не меньше часа. Я машинально наблюдал привычный мне союз двух людей — Фуфу и бабушку, опирающуюся на ее руку.
Актеры и студенты, постоянно бывавшие у нас — каждый раз непохожие, маленькие и большие, тихие и шумные, — создавали в доме атмосферу вечно меняющегося состояния и настроения. Мама вела с 1948 года «интернациональный» режиссерский курс в ГИТИСе, и ее студенты из разных стран были влюблены в Раневскую, с которой мама их познакомила. Вот они вместе на фотографии: Раневская, Анисимова-Вульф, Иржина Мартинкова (впоследствии главный режиссер пражской «Латерны магики»), Борис Владимиров, больше известный как Вероника Маврикиевна из дуэта двух старушек, в котором вместе с ним выступал Борис Тонков, внук гениального архитектора Федора Шехтеля, суровый и сухощавый Кутим — албанский Гарибальди, семья иранцев, латышка Вента, очаровательная немка Эльза. Порой они все вместе собирались за столом на Хорошевке, пели свои очень разные песни…
Часто заходили «моссоветовцы», актеры и режиссеры других театров — Карташова, Михайлов, Полонская, Ольшевская, Сошальская, Панков, Сазонова, Талызина, Бероев, Бортников, Бородин, — репетировали, ночами готовились к каким-то экзаменам, до рассвета играли в покер (Раневская не играла), шутили, придумывали друг другу прозвища. Основателю радиотеатра Осипу Абдулову — «Улица Радио», Юрию Завадскому за легкость характера и невосприимчивость к неприятностям — «Пушок» (возможно, не без помощи Фаины Георгиевны). А партнеру по съемкам в «Весне» Михаилу Сидоркину досталось «долгоиграющее» имя «Арбуз с бровями», потом перешедшее к генсеку Леониду Ильичу. Заходил живший рядом драматург Исидор Шток, ловил по «Миру» песни Раджа Капура и, весело улыбаясь, смотрел на Раневскую своими голубыми глазами.
Настроение эрзац-внука иногда портилось, и Фаина Георгиевна, глядя на мое не омраченное мыслями лицо, полушутливо предрекала, что в старости я стану сварливым профессором, с гнусным характером, и тут же все изображала. Моментально возникал образ суетливого старца, сутулого и мелочного, козлиным, дребезжащим голосом требующего от всех необычайных привилегий, тишины и почтения.
В нашей семье недостижимым эталоном мастерства считался Чарлз Спенсер Чаплин. В одну из новогодних ночей у нас встретились две компании — Фаина Георгиевна приехала к бабушке с кем-то из своих друзей, а ко мне пришли мои одноклассники Гена Бурд и Боря Румшиский. Боря по прозвищу Рума — небольшого роста мальчик, в полном смысле слова вундеркинд, впоследствии стал уникальным математиком, работавшим в закрытых институтах, в частности, над проблемой машинного перевода на любой язык. Он сумел не только теоретически решить эту проблему, но и создал в своей лаборатории опытный действующий экземпляр. А Гена — микробиолог — в 39 лет стал доктором наук. Сейчас они оба в Америке, а тогда этим молодым людям было по 16 лет. Фаина Георгиевна, раньше хорошо знавшая «рыжего Генку», как она его называла, все внимание обратила на новичка — Руму. Поговорив с ним немного, она неожиданно принялась гримировать его жженой пробкой, какими-то черными щеточками, что-то приклеивала, причесывала шевелюру, накинула на него чей-то черный пиджак — и вот перед нами возник Чаплин. Рума не сопротивлялся и весь тот вечер оставался в образе Чарли Чаплина, доставляя Раневской радость своим видом. Она, возможно, понимала, что увидеться с Чаплином сможет только на Хорошевке, в новогоднюю ночь, на минуту отдавшись волшебству этого новогоднего превращения.
Когда мне исполнилось 17 лет, в нашей проходной комнате на Хорошевке Тата остановила меня, села на свой топчан и вдруг мучительно сказала: «Леша, я, наверно, скоро умру» — и заплакала.
И вот март 1957-го года. Мама и Фуфа вместе пришли из Боткинской больницы с перевернутыми лицами: умерла их Тата, Наталья Александровна Иванова, пятьдесят лет ангел-хранитель нашего дома.
1953–1973
Сначала бессонница, потом приходит сон — когда просыпается дом и дети сбегают с лестницы, торопятся в школу. Боюсь сна, боюсь снов…
На семи ветрах — Полонская — Уланова — «Порги и Бесс» — Рихтер — Румыния — Тяжелая пора — Белла — Никонов — Башмак — Ахматова — «Сэвидж» — «Письма читателей» — Твардовский — Тверская-Ямская — Мама
В начале 50-х годов Раневская получила двухкомнатную квартиру в высотном доме на Котельнической набережной.
Раневская так долго жила в коммуналках, что ее новая квартира в высотном доме была для нее радостно-почетной неожиданностью.
Это была квартира высшей категории. Когда мы всей семьей в 1952 году в первый раз приехали к Фаине Георгиевне посмотреть новую квартиру — все было прекрасно. Роскошный подъезд рядом с главным входом в кинотеатр «Знамя» (теперь «Иллюзион») — в чем-то символическая близость кинематографа к жилью Раневской. Торжественная лестница к просторному лифту, второй этаж, тяжелая двустворчатая дверь квартиры с щелью почтового ящика. Квартира обещала стать ей удобным пристанищем. Большой квадратный холл с заранее повешенной «государственной» люстрой имел двойной тамбур для звукоизоляции от лестницы. Две квадратные смежно-изолированные комнаты, высокие потолки, на вид — более трех метров, идеально окрашенные стены, лепнина по карнизу и на потолке, высокая остекленная филенчатая белая дверь в гостиную — это было здорово! Дальше — коридор с большой гардеробной-кладовой вел к роскошной ванной. Налево — второй выход на лестницу, направо — большая кухня с двухкамерной мойкой, большой газовой плитой, «государственными» белыми шкафчиками и зимним холодильником под окном.
Это было опять детище архитектора Чечулина — как и наш поселок на Хорошёвке, к тому времени уже начавший разваливаться, — сооружение сталинского классицизма с развернутыми по фасаду скульптурами и барельефами окаменевших в экстазе мускулистых созидателей.
Но Раневской было не до скульптур. Ей досталась чечулинская изнанка — левое крыло величавой композиции, каменный внутренний двор. А там — выход из кинотеатра и место, где разгружали хлебные фургоны.
Фаина Георгиевна с ненавистью слушала знакомые народные выражения рабочих-грузчиков, отчетливо звучавшие на рассвете у ее окна, а вечером с тоской наблюдала шумные толпы уходящих домой кинозрителей. «Я живу над хлебом и зрелищем», — жаловалась нам Фуфа.
Как-то Раневской позвонила Ксения Маринина, режиссер телепередач «Кинопанорама», хотела заехать.
«К-Ксаночка, в-вам не трудно купить хлеба в нашей булочной?» — попросила Фаина Георгиевна. Ксения Маринина рассказывала, очень похоже копируя Раневскую:
«К-Ксаночка, хлеб надо обжечь на огне, а то рабочие на него ссали», — попросила Фаина Георгиевна, когда Маринина пришла.
«Все готово — обожгла хлеб», — вскоре сообщила Маринина.
«А вы д-долго его обжигали, Ксаночка? Ведь они д-долго на него ссали!» — удрученно говорила Раневская в очаровательной интерпретации Марининой.
Все окна квартиры выходили во двор, где был выезд из огромного гаража для автомашин жильцов высотного дома. На крыше гаража была детская и спортивная площадка. Все это гудело, кричало и шумело. Неудобство оказалось еще и в том, что от этого дома, расположенного рядом с Кремлем, добраться без машины куда-либо было очень проблематично. До Хорошевки очень редко и долго ходил лишь один автобус, и то — с пересадкой. У Раневской никогда не было своей машины, но все соседи внушали Фаине Георгиевне, что «ее» место в гараже нужно во что бы то ни стало сохранить, и бедная Фуфа, стараясь быть практичной, долго платила за свой пустой бокс.
Она очень тосковала в своем Котельническом замке. Правда, ее часто навещали друзья. Рядом, в доме на Швивой горке, жила Вероника Витольдовна Полонская, Норочка — последняя любовь Маяковского, самая близкая подруга моей матери. Полонская иногда заходила к Фаине Георгиевне, хотя Раневская не могла забыть и простить легкомыслия Норочки в молодости — считала, что та должна была понять, кем был Маяковский. Раневская записала тогда:
«Сплетен было так много в то время, потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня, хотя бы год — она славная, только славная, как Натали, непонимающая, кто рядом». И потом еще: «Чем чаще вижусь с Норочкой Полонской, тем больше и больше мне жаль Маяковского».
На стенах гостиной Раневской висели гипсовая мадонна с младенцем, гипсовый вдавленный профиль Пастернака, подаренный Сарой Лебедевой, который должен был висеть затылком к свету для правильного освещения, в застекленной этажерке лежала посмертная маска Пушкина и переехавший из Старопименовского белоснежный Чехов со смытым домработницей гипсовым лицом. В квартире не было привычных обоев, каждый новый гвоздь оставлял заметное отверстие. У Фуфы на стенах еще не было множества фотографий с дарственными надписями, еще были живы ее близкие и любимые люди.
Иногда у Фаины Георгиевны бывала Уланова. Вскоре после войны Фуфа приехала вместе с Галиной Сергеевной на каком-то маленьком тупоносом «форде» сказочно синего цвета на дачу, где мы отдыхали. Уже тогда Фаина Георгиевна знакомила бабушку с Улановой — с необычайно восхищенным уважением. Уланова держала себя удивительно просто. Помню, все пошли гулять к пруду, и там Галина Сергеевна учила меня правильно бросать камешки — «как мальчишки», сбоку, и так, чтобы они при этом летели как можно дальше. В котельнической квартире у Фуфы на стенах ее комнат я видел нежные акварели и темперные этюды: букеты полевых цветов, подаренные Раневской мужем Галины Сергеевны Улановой Вадимом Рындиным, который встретился с Раневской еще у Таирова в Камерном театре, был в восхищении от театра, от Алисы Коонен, был свидетелем московского дебюта Раневской. Он бывал у Раневской иногда один, чаще с Галиной Сергеевной. Они были соседями Фаины Георгиевны — их квартира размещалась там, где и сейчас живет Галина Сергеевна, — в центральном высотном блоке котельнического дома.
Рындин дарил Фаине Георгиевне множество редких книг, импортных красок, пастелей, голландскую темперу — он был театральным художником, тогда — главным художником Большого театра, часто бывал за рубежом. Фаина Георгиевна очень нежно к нему относилась, называла «Вадим», иногда уменьшительно-ласкательно «Вадимчик».
Однажды Раневская и Уланова приняли участие в нетрадиционном официальном мероприятии. После XX съезда ее и многих других известных деятелей культуры пригласили на процедуру сдачи лауреатских знаков «старого образца», то есть «сталинских» лауреатских медалей. Я хорошо помню Фуфины награды — ордена и эти лауреатские медали — профиль Сталина размещался на небольшом диске, прикрепленном колечком к красной орденской планке. Все это у Раневской называлось «похоронные принадлежности». Сталинская премия 1-й степени сопровождалась золотой медалью с золотым сталинским барельефом, 2-я степень имела золотого Сталина на серебряном диске, а третья была, по-моему, вся серебряная или бронзовая. Фуфа показывала домашним, как перед официальным правительственным чиновником, проводившим прием старых медалей, недавние верноподданные «отца народов» с омерзением бросали эти «культтовары» в огромный ящик, демонстрируя свое публичное очищение от скверны.
Фаина Георгиевна рассказала эту историю нам и потом Ахматовой, когда та гостила у Раневской на Котельнической. Анна Андреевна, приезжая в Москву, останавливалась обычно у Ардовых, на Ордынке. Но иногда Ардовы не могли ее принять, и тогда Ахматова жила на Беговой улице у Марии Сергеевны Петровых, о которой уже шла речь, или у Раневской.
«Когда мы начинали с Анной Андреевной говорить о Пушкине, я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась другая: воздушная, неземная. Я у нее все расспрашивала о Пушкине… Анна Андреевна говорила про пушкинский памятник: „Пушкин так никогда не стоял“. И про ленинградский, что у Русского музея: „Он так не стоял“…»
«Однажды я позвонила ей по телефону — она была в Москве — и сказала ей, что сегодня видела во сне Пушкина. Она крикнула в трубку: „Иду“ — и примчалась на такси, чтоб услышать мой сон».
«Мне думается, что так, как А. А. Ахматова любила Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она, показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала: „Нет, вы только посмотрите на это!“ Журнал с Дантесом она держала отстранив от себя, точно от журнала исходило зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые были глаза. Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть. Ненавидела она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией, точно преступление было совершено только сейчас, сию минуту».
«Она была великой во всем, была она добрейшей, я видела ее кроткой, мягкой, заботливой. И это в то время, когда ее терзали».
У Раневской хранились две эпиграммы Осипа Мандельштама, посвященные Ахматовой. Раневская рассказывала, что, когда Ахматова впервые прочла эти эпиграммы, она была удивлена тем, что не нашла в них привычной по отношению к ней мандельштамовской иронии:
АННЕ АХМАТОВОЙ
Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой.
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены?
АННЕ АХМАТОВОЙ
Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода.
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.
В середине 50-х в Москву приехал из Америки театр с оперой «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Это событие в жизни Москвы происходило в Большом театре, билет стоил 60 рублей. Фуфа рискнула пойти на необычную балетную оперу и пригласила меня в сопровождающие, забыв или простив мою публичную катастрофу в Риге с красным борщом.
Это был царский жест: в Большом театре я до того был лишь один раз — наш Хорошевский сосед Леонид Григорьевич Пирогов повел всех соседских по дому актерских детей на «Руслана и Людмилу» — в Большом пел его отец и его знаменитый дядя — Пироговы. Помню наполнившую зал знакомую музыку, огромную серо-синюю прозрачную Голову, нескончаемую бороду Черномора, шумные танцы, восторг и необычайную усталость после этого зрелища. А теперь, через несколько лет, там же — «Порги и Бесс».
Фуфа со мной двигалась в первые ряды партера, помню, левая сторона. Она была чуть-чуть другая, чем дома, может быть — как на смотре или на экзамене, если бы он ей предстоял. Кивала многим, улыбалась сдержанно. Померкла люстра, началась опера. Это было здорово. Все американцы на сцене были свободные, двигались легко — и не было привычных пачек, бород, камзолов, а музыка была неожиданная — до сих пор помню колыбельную.
В антракте Фаина Георгиевна побывала со мной в буфете, чем-то меня угостила и купила для бабушки апельсины. Кто-то ее отвлек. Фуфа поручила апельсины мне. Я был в восторженно-подавленном состоянии от Большого театра. Освещенный зал, огромное, великолепное пространство, Гершвин, золотые ярусы, ложи опять превратили меня в сомнамбулу, как лет пять назад в зале рижского ресторана. И я… забыл Фуфины апельсины. Мы вернулись в зал. Фуфа обнаружила пропажу фруктов. Это было ужасно. Весь путь в буфет мы вновь проделали уродливой деловой походкой среди плывущей в фойе роскошной публики. Апельсины нашлись, но в Большой театр Раневская меня больше с собой не брала — для Фуфы я стал окончательным рецидивистом. В этом она не ошиблась — с рассеянностью я долго не мог расстаться. К следующему моему дню рождения — 16-летию — Фаина Георгиевна подарила мне ручные часы «Маяк» с латунным желтым циферблатом, я их очень любил. Однажды оставил таксисту «Маяк» в залог, а когда вернулся, чтобы расплатиться и взять часы, — такси и «Маяка» след простыл. От Фуфы я скрыл пропажу, потом купил такой же «Маяк», но это было, конечно, не то.
Молоденький американский пианист Ван Клиберн, получивший первую премию на конкурсе имени Чайковского в 1957 году, очаровал бабушку и Фуфу, как и всю аудиторию. Клиберна Раневская тогда ласково называла «Ванечка».
После войны Раневская боялась надолго разлучаться с Павлой Леонтьевной, беспокоилась о ее здоровье, скучала. Из поездок, со съемок Фаина Георгиевна спешила написать ей письмо, открытку — посоветоваться, пожаловаться, успокоить:
«Мамочка, попытаюсь тебе объяснить, почему я в таком раскисшем состоянии и подавленности… Когда я вылезла с сырой, не сделанной, не проверенной и не готовой ролью, да к тому же еще ролью, которая мне чуждая и противная, я растерялась, испугалась, вся тряслась, забывала текст, путалась и в итоге испытала что-то вроде нервного шока, потрясения. На премьере ввиду всего вышесказанного был полный провал, на втором спектакле я расшиблась и на третьем еле двигалась, потом я уже на спектаклях разогревалась, но играла и продолжаю играть плохо. Пойми — я не бытовая актриса, быт мне не дано играть, не умею, — я перевела роль в план реалистической буффонады, но и это не верно, а может быть, роль незначительна…»
«Мамонька-золотиночка… Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к 1-му июля. Отпускают делать зубы, 15-го июля опять съемки, пересъемки и досъемки, т. е. продолжение кошмара. Забот накопилось множество… рада, что скоро обниму тебя, мою родную, дорогую. Не унывай, не приходи в отчаяние. Твоя Фаина».
Раневская всегда любила балет, в Ленинграде обожала Татьяну Вечеслову, часто бывала в Большом театре — видела любимую Екатерину Гельцер, позже — незабываемую Галину Уланову, дружила с Ниной Тимофеевой, Раисой Стручковой. Но не могла простить, когда «стали топтать ногами» Толстого:
«Анна Каренина» — балет. Господи, мне смерть пошли и поскорее!
В общем: «Жизнь бьет ключом по голове!»
Так писала восхитительная Тэффи…
Тэффи — великолепная, трагическая и очень несчастная в эмиграции, моя любимейшая прозаик, самая талантливая. Мне повезло, прочитала сейчас почти всю ее, а после нее взяла записную книжку Ильфа и не улыбнулась.
Году в 16-м в Кисловодске я познакомилась с ней, помню ее очень модно одетой, миловидной, печальной.
Из Парижа привезли всю Тэффи. Книг 20 прочитала. Чудо, умница.
Раневская вспоминала:
«В Большом театре, когда танцевала Уланова, ко мне подошел Рихтер. Я сидела в партере.
„Знаете, что я о вас думаю? Эта женщина что-то понимает“, — сказал он.
Я попросила: „Покажите мне руки“.
Он ответил что-то похожее, не помню точно: „Руки ни при чем“.
Обожает Вагнера, холоден к Рахманинову. Провела всю ночь у Булгаковой, была Ахматова и еще кто-то. Рихтер играл всю ночь до утра, не отходя от рояля. Я плакала, этого нельзя забыть до конца жизни».
«Ты читал Бабеля? — много раз спрашивала меня Раневская. Однотомник Бабеля вышел в 1957 году. — Ах да, где ты мог…» А потом, когда я попросил дать его мне прочесть единственный раз, не смогла отпустить этот томик от себя; и я сидел у нее дома и читал. Фаина Георгиевна постоянно возвращалась к Бабелю:
«Перечитываю Бабеля, оторваться не могу. Какое он чудо, читаю, читаю, волнуюсь, восхищаюсь. Анна Андреевна однажды мне сказала, что не встречала человека, который бы так чувствовал искусство, как я. Она всегда просила меня читать ей „Закат“. Спасибо Горькому за Бабеля. Не переставая читаю „Конармию“. Это тоже чудо. Читаю, перечитываю, знаю почти все наизусть».
Фаина Георгиевна торопилась — у нее дома на Котельнической лежали письма ее сестры из Парижа и брата из Румынии — нашлись ее родные, была жива ее мать.
В 1957 году Раневская решила ехать. Решила увидеть свою семью, которую потеряла 40 лет назад.
В Румынию Раневская поехала поездом.
На фотографии — рукой Раневской: «Я обнимаю мою старенькую мать, рядом брат и племяша. 57 г. В Румынии».
В Париже жила старшая сестра Фаины Георгиевны Белла. Мать хотела видеть их всех вместе. Раневская попыталась это сделать — собрать всех у матери в Румынии. Она спешила. В архиве, на обороте сохранившейся фотографии, я разобрал черновик письма в очередную инстанцию, написанный в 1957 году в Румынии рукой Раневской:
«Просьба поддержать мое ходатайство перед румынским министром иностранных дел о телеграфном распоряжении румынскому консулу в Париже выдать в срочном порядке въездную визу в Румынию гражданке Белле Аллен для свидания со своей матерью и со мной».
Но тогда Белла не смогла приехать в Румынию, встречи всей семьи не получилось.
Долгое время Белла жила в Париже, потом вышла замуж, перебралась в Турцию. Однако ее муж умер, Белла осталась одна. Она знала, что в Москве живет ее сестра — лауреат многих государственных премий, кинозвезда, крупная театральная актриса и, очевидно, богатый человек. Еще раз написала Фаине письмо, просила прислать ей приглашение, хотела вернуться в Россию, жить с сестрой.
Раневская начала хлопотать.
Фаина Георгиевна рассказывала Ахматовой о похоронах Пастернака: «…Была нестерпимая духота, над нами — над огромной толпой висели свинцовые тучи, а дождя не было, гроб несли на руках до самой могилы, Б. Л. в гробу был величавый, торжественный. А. А. слушала внимательно, а потом сказала: „Я написала Борису стихи“.
Запомнила не все, но вот, что потрясло меня:
…Здесь все принадлежит тебе по праву.
Висят кругом дремучие дожди.
Отдай другим игрушку мира — славу,
Иди домой и ничего не жди.
Да, висели дремучие дожди, и мысли у всех нас были о славе, которая ему больше не нужна, обо всем, что было в этих строках».
Павла Леонтьевна все чаще болела. Раневская делала все, чтобы сохранить бабушку: привозила лучших врачей, доставала кремлевские лекарства, устроила Павлу Леонтьевну в Кунцевскую больницу.
«Пойдем посмотрим, как плавают уточки», — говорила она мне, — и мы сидели и смотрели на воду, я читала ей Флобера, но она смотрела с тоской на воду и не слушала меня. Я потом поняла, что она прощалась с уточками и с деревьями, с жизнью…
Мама и я навещали бабушку в Кунцево — в отдельной палате лежала маленькая старушка, вдруг переставшая быть капризной. Одна в этой палате, наедине с приближающейся бесконечностью, она смотрела на нас покорно и виновато. Когда приступ кашля проходил, ей становилось легче. Навсегда уходила от нас бабка, мать, первый педагог Раневской, актриса старого и нового театра, со всей своей историей и долгой жизнью. Шел 1961 год.
«Я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной Павлой Леонтьевной. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она во мне воспитала человека, воспитала актрису. Она научила трудиться, работать, работать, работать. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала. Никаких ночных бдений с актерской братией, никаких сборищ с вином, анекдотами, блудом. Она научила радоваться природе, „клейким листочкам“. Она научила слушать, любить, понимать лучшую музыку, она водила смотреть в музее то, что создавало для меня смысл бытия. Она внушила страсть к Пушкину, она запрещала читать просто книги, она дала познать лучшее в мировой литературе. Она научила быть человечной.
Умирая, она поцеловала мне руку, сказала: „Прости, что я тебя воспитала порядочным человеком“.
Она умерла у меня на руках. Теперь мне кажется, что я осталась одна на всей планете».
На обороте фотографии Павлы Леонтьевны Вульф — рукой Раневской: «Родная моя, родная, ты же вся моя жизнь. Как же мне тяжко без тебя, что же мне делать? Дни и ночи я думаю о тебе и не понимаю, как это я не умру от горя, что же мне делать теперь одной без тебя?»
После смерти Павлы Леонтьевны Вульф Раневская бросила курить. На окнах, полках и просто на столе лежали пачки и блоки сигарет, она раздаривала их знакомым. Фаина Георгиевна курила 50 лет — бросать было трудно. В вазе на столе лежали кубики черных соленых сухариков, они помогали ей не курить. Фаина Георгиевна говорила, что ей легче, когда вокруг открытые пачки сигарет, когда их много везде: «Я хожу среди них, бросаю им вызов — могу не курить».
Она часто замолкала, глядя вниз, в одну точку. Потом встряхивалась, вытирала глаза и говорила мне: «Я бы убила того, кто научил тебя курить. Возьми себе эти сигареты».
От тех дней осталась открытка Раневской, адресованная в Ленинград Ахматовой:
«Дорогой Раббик, узнала, что Вы нездоровы. Мечтаю о Вашем приезде в Москву, хочется быть с Вами… Пожалуйста не хворайте. Хотела написать большое письмо, хотела порассказать о себе, о том, как мне теперь одиноко, как обессмыслилась моя жизнь…»
И приписала на обороте открытки, там, где репродукция «Террасы кафе» Ван Гога: «Раббинька, я уже не курю, а без папиросы не могу связать и двух слов. Крепко обнимаю».
Но на Котельнической набережной у Фаины Георгиевны был период в начале 60-х годов, когда она не чувствовала себя одинокой.
Раневская добилась у министра культуры СССР Фурцевой, бывшей в те годы с Фаиной Георгиевной в хороших отношениях, не только возможности пригласить сестру, но и прописать ее в своей котельнической квартире.
Раневская подошла к Фурцевой и сказала: «Спасибо, дорогая Екатерина Алексеевна, вы — мой добрый гений».
Фурцева ответила: «Ну что вы, Фаина Георгиевна, какой же я гений, я простой советский работник».
И вот Изабелла Георгиевна Аллен получила от Фаины Георгиевны письмо с приглашением и приехала в Москву. Приехала окончательно, поменяв у нашего государства 1000 долларов на 900 рублей по курсу. У ее знаменитой младшей сестры не оказалось богатства, машины, виллы и всего остального, и сестры стали жить вместе на Котельнической, каждая в своей комнате.
Белла и в старости оставалась очень красивой женщиной: огромные грустные глаза, правильные черты лица. Обаятельная и даже слегка кокетливая немолодая женщина, она тщательно следила за собой. В ее комнате из украшений стояли лишь медные, безумной красоты, турецкий кувшин и чайник.
Изабелла Георгиевна не могла адаптироваться к социалистической действительности и так рассказывала о своих прогулках по незнакомой Москве: «Я заказала очки на улице какого-то сентября, где это, Фаина?» Имелась в виду улица 25 Октября, ей неведомого.
Когда Белла шла в продуктовый магазин и подходила ее очередь, она спрашивала продавщицу: «Как здоровье вашей матушки? А батюшки?» Сзади медленно наливалась злобой московская очередь.
Фаина Георгиевна повела однажды Беллу в самый лучший актерский ресторан, в ВТО; пока ждали официанта, Белла заметила: «Здесь же невозможно сидеть, так пахнет бараньим жиром».
Впрочем, впечатления Беллы о Турции были столь же критичны. «Все турки дураки — они вешают картины под самый потолок! Представляете, как надо задирать голову, ведь они же сидят на полу», — передавала Раневская рассказ сестры.
О парижских нравах Белла тоже рассказывала нечто своеобразное. Вспоминает моя тетка Елена Владимировна Вульф, слышавшая рассказ Беллы. «В пасхальную ночь на площади перед собором Парижской Богоматери давали мистерию о распятии Христа. Почему-то Изабелла Георгиевна имела возможность ходить за кулисы этих уличных спектаклей. Она рассказала, что молодой актер, усатый и бородатый, в гриме Христа, с набедренной повязкой, в терновом венке с каплями крови на челе и ланитах, курил за кулисами сигару и пощипывал девчонок, изображающих жен-мироносиц, умащивающих тело Христа после снятия его с креста. Девчонки пищали: „Мы жаловаться будем!“ Такой вот атеистический репортаж…»
Беллу разыскал ее давний поклонник, влюбленный в нее еще в молодости Николай Николаевич Куракин, сын князя, оставшийся верным своей любви до 70 лет. В Советской России он собирал и ремонтировал церковную утварь, реставрировал паникадила для соборов. Это был высокий, седой, подтянутый старый мужчина с красивым низким голосом и голубыми, очень светлыми глазами. Они с Беллой долгие часы проводили в ее комнате, откуда доносился сочный куракинский бас. Николай Николаевич по-прежнему был влюблен, это выглядело и комично и грустно. Фаина Георгиевна уставала и злилась за стенкой в своей комнате: «Старый осел, совсем сошел с ума».
Николай Николаевич рассказывал мне об английских акварелях, он сам писал этюды. Он обладал несомненным обаянием «уходящей натуры», в его глазах светились решительность и отчаяние одновременно.
Потом Изабелла Георгиевна тяжело заболела и в 1963 году умерла, прожив вместе с сестрой всего несколько лет. Раневская похоронила ее на Донском кладбище, сама выбрала камень из лабрадора и написала на нем: «Изабелла Георгиевна Аллен. Моей дорогой сестре».
Трудно складывались отношения Фаины Георгиевны и моей мамы, относившейся с великим уважением к таланту Раневской, масштабу ее личности. Мама боялась одного — характера Фаины Георгиевны.
Когда в жизни и творчестве Раневской наступали критические моменты — она много раз меняла театры, уходила от Завадского и возвращалась к нему вновь, — Ирина Вульф становилась защитницей интересов и Раневской, и Театра имени Моссовета, стремясь смягчить конфликт и всячески способствуя примирению и возвращению Раневской в труппу.
В начале 60-х годов у Завадского в Театре Моссовета появился новый директор — Михаил Семенович Никонов.
Завадский говорил про него: «Никонов — это фетиш: театру, где Михаил Семенович, сопутствует успех, удача. Теперь у нас будет „Кунктатор“ — свой римский полководец, взвешивающий все возможные и невозможные шансы».
От своего медлительного римского прототипа Никонов отличался сокрушающей настойчивостью — он подчинял всех импульсу художника и открывал дорогу творческому замыслу.
Фетиш Никонова был создан его собственными силами.
В музее Всеволода Мейерхольда в Пензе хранится письмо, написанное после ареста Мейерхольда, в котором общественность театра, дирекция ручаются за своего художественного руководителя, ходатайствуют о его скорейшем освобождении, выражают решительную солидарность с творческой позицией мастера. Письмо поражает уверенностью, мужеством и смелостью тона. Рядом с датой написания — 1937 год — стоит, наряду с другими, подпись «директор театра М. С. Никонов».
Я видел это письмо недавно, когда строил Дом молодежи в Пензе.
Никонов был лучшим московским театральным директором начала 60-х годов, вторым дыханием «Моссовета».
Он убедил Юрия Александровича пригласить Ию Саввину в театр. Это было предложение мамы — пригласить Саввину на роль Норы, которую уже не один год исполняла Любовь Петровна Орлова. Ия Сергеевна играла блестяще, после дебюта ее поздравляла публика, Никонов, Завадский, сама Орлова.
Не без участия Никонова вернулась в «Моссовет» и Раневская, которую Павла Леонтьевна несколько лет подряд склоняла к возвращению. В конце концов Ирина Вульф убедила Юрия Завадского вернуть в театр Раневскую. Они так и остались навсегда вместе: имя Раневской и Театр имени Моссовета.
В Театр имени Моссовета пришли молодые Вадим Бероев, Валентина Талызина, Олег Ануфриев, Валерий Золотухин, Маргарита Терехова, Борис Щедрин, Александр Леньков, другие студийцы; началось сотрудничество с Александром Штейном, Виктором Розовым. Вот что вспоминал о постановке своей пьесы Виктор Сергеевич:
«Спектакль „В дороге“ получился славным. И главным его событием было открытие юного актера Геннадия Бортникова. Зритель сразу полюбил его. И, как это ни удивительно, в этом же спектакле тоже впервые в жизни дебютировал ныне известный актер театра и кино Валерий Золотухин. Он играл небольшую роль Пальчикова. Играл чисто, звонко, и его эпизод всегда покрывали аплодисменты зрительного зала».
У меня появился конкурент — мама была без ума от Геннадия Бортникова, рассказывала о нем Раневской, восхищалась его пластикой, музыкальностью, его живописью. Ирина Сергеевна говорила о нем: «Мой театральный сын». Бортников стал открытием театральной Москвы в 1962 году. После «Дороги» его встречали толпы поклонниц.
Я даже специально пошел на спектакль — посмотреть на соперника: выразительная, какая-то хитроватая пластика, обаяние каждого жеста; очень высокий — из зала этого не чувствовалось.
После Югославии (в 1963 году она ставила в Белграде Островского) мама репетировала с Раневской их второй совместный спектакль: Фаина Георгиевна играла роль Марии Александровны Мордасовой в спектакле «Дядюшкин сон» по Достоевскому.
Расскажу один случай, который лишь чуть-чуть высветит оттенки их совместной работы. Шли репетиции «Дядюшкиного сна». В черновом прогоне пролога роль Марьи Александровны репетировала Варвара Владимировна Сошальская, на время заменившая Фаину Георгиевну, а Раневская сидела в зале вместе с мамой, режиссером спектакля. Все действующие лица высвечивались прожекторами за черным тюлем на авансцене. В полутемной мизансцене Варвара Владимировна стояла к тюлю ближе всех и, случайно наступив ногой на нижний его край, незаметно для себя прорвала его. Пролог кончился, прожекторы погасли, в темноте тюль пошел вверх, и бедная Сошальская, подхваченная нижней обшивкой тюля, была поднята на угрожающую высоту. Поднялся крик, тюль остановили, включили свет, и перед присутствующими предстала следующая картина: под самым верхом сценического портала, как белочка, полусидела-полувисела Сошальская, судорожно вцепившись в тюль руками. В этот момент раздался спокойный категорический голос Раневской: «Ирина, я так сделать не могу!..» Все кончилось благополучно. Спектакль с Раневской состоялся.
Днем 24 января 1964 года в проектную мастерскую, где я работал, позвонила мама: «У тебя сын!»
Родился Дмитрий Алексеевич, молодой человек трех с половиной килограммов.
Раневская прислала поздравление — мой детский ташкентский башмак и в нем ее письмо:
«Еще и башмаков не износил — как сам родил! Кундиль, по старому поверью, башмачок — символ счастья. 20 с лишним лет я его хранила для тебя, и, как видишь, в твоей судьбе башмачок оправдал свое назначение! Храни его для дальнейших его функций! Любящая Фуфа».
К нам на Хорошевку приехала Нина Антоновна Ольшевская купать Димку и показывать, как с ним обращаться, — к ее трем детям к тому времени добавились и внуки. Мастерство и ловкость рук Нины Антоновны завораживали, как петля Нестерова, — никакого страха перед новорожденным существом, какой двадцать четыре года назад овладел Раневской в Уланском переулке, когда она боялась меня уронить.
Это был последний визит Нины Антоновны перед ее болезнью.
Ахматова была приглашена в Италию на вручение Международной литературной премии Этна-Таормина в Катанье. В декабре она должна была ехать вместе с Ольшевской, но в октябре 1964 года у Нины Антоновны случился инсульт, и в Италии Ахматова была без Ольшевской. О ее поездке Раневская записала:
«Анна Андреевна с ужасом сказала, что была в Риме в том месте, где первых христиан выталкивали к диким зверям. Передаю неточно — это было первое, что она мне сказала, говорила о том, что Европе стихи не нужны. Что Париж изгажен тем, что его очистили, Notre Dame вымыли от средневековья».
В 1965 году Театр имени Моссовета повез в Париж «В дороге», «Маскарад» и «Дядюшкин сон».
Но Раневская отказалась от поездки в Париж. Это было трудное для нее решение. Очень. Раневская уступила свою роль в «Дядюшкином сне» Марецкой, которая в ином случае оказывалась не занятой в парижских гастролях.
Нервное напряжение перед Парижем, во время гастролей, семейные трудности не прошли даром — мама заболела. После больницы она долечивалась в санатории имени Герцена под Москвой. К ней приезжали в санаторий актеры Олег Анофриев, Валерий Золотухин, Николай Афонин. Афонин жил в котельническом доме — был Фуфиным соседом. У него был горбатый «Запорожец». Иногда Афонин подвозил Фаину Георгиевну из театра домой. Как-то в его «Запорожец» втиснулись сзади два человека, а впереди, рядом с Колей Афониным, села Раневская. Подъезжая к высотке, она спросила: «К-Колечка, сколько стоит ваш автомобиль?» Афонин сказал: «Две тысячи двести двадцать рублей, Фаина Георгиевна». — «Какое блядство со стороны правительства», — мрачно заключила Раневская, выбираясь у своего подъезда из горбатого аппарата.
Доставалось от нее и коллегам.
«У нее не лицо, а копыто», — беспощадно говорила об одной актрисе Раневская.
«Смесь степного колокольчика с гремучей змеей», — говорила Фаина Георгиевна о другой.
Главный художник театра Александр Васильев характеризовался у Раневской так: «Человек с уксусным голосом».
Весной и летом 1965 года Фаина Георгиевна была на киносъемках в Ленинграде. Она ненавидела сценарий, роль; уставала, терзалась. «Плевок в вечность», «Деньги кончились, а позор остался» — как только не называла она свою киношку.
В августе 65-го я приехал к Фуфе в Ленинград, в ее 300-й номер, где она жила, читала, писала письма, бросала свои вещи, уезжала сниматься. И только цветы этого лета ждали Раневскую в ее комнате, в Ленинграде. Был день ее рождения…
Осенью Фаина Георгиевна вернулась в свой высотный дом, где ее мучила давно знакомая тоска:
«27/XI 65. Сегодня мне приснилось, что я звонила по телефону, разыскивая Павлу Леонтьевну. Кто-то ответил в трубку что-то невнятное, и вдруг я явственно услышала ее голос, она сказала: „Кто-то зовет меня к телефону“ — и тут нас разъединили, я пыталась вновь позвонить, но забыла номер, проснулась в тоске. Приходила Норочка Полонская — добрая душа, я хотела рассказать ей сон, я под впечатлением сна ведь день — и постеснялась. Потом пришла Ирина, которая когда-то мне сказала, что не любит, когда ей пересказывают сны. И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю — ничто так не дает понять и ощутить своего одиночества, как когда некому рассказать сон. День кончился, еще один. Напрасно прожитой день — никому не нужной моей жизни. Ночь, 2 часа».
Когда была бессонница, Фаина Георгиевна читала Чаплина, вписывала в блокнот с изображением ее высотного дома:
«Искусство игры актера определяется его раскованностью, полным освобождением, актер особенно должен уметь владеть собой, внутренне себя сдерживать. Какой бы бешеной ни была сцена, в актере всегда должен жить мастер, способный оставаться спокойным, свободным от всякого напряжения, он ведет и направляет игру страстей. Внешне актер может быть очень взволнован, но мастер внутри актёра полностью владеет собой, и добиться этого можно лишь путем полного освобождения. А как достичь такой раскованности? Это трудно. Мой способ, наверное, очень индивидуален. До выхода на сцену всегда так страшно нервничаю, и бываю так возбужден, что к моменту выхода, вконец измученный, уже не чувствую никакого напряжения». — Чаплин.
Теперь в старости я поняла, что «играть» ничего не надо.
«11/XII 65. Если бы я вела, дневник, я бы каждый день записывала одну фразу: „Какая смертная тоска“, и все.
Я бы еще записала, что театр стал моей богадельней, а я еще могла бы что-то сделать».
Утром 5 марта 1966 года в домодедовском санатории под Москвой умерла Анна Андреевна Ахматова.
Из записей Раневской:
«Умирая, Ахматова кричала „воздуха“, „воздуха“. Доктор сказала, что когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она уже была мертвой…
Почему, когда погибает ПОЭТ, всегда чувство мучительной боли и своей вины. Нет моей Анны Андреевны — она все мне объяснила бы, как всегда. Недавно звонила Арс. Тарковскому, благодарила за книгу стихов его. Книгу он мне прислал. Он сказал: „Нет Ахматовой, некому читать стихи“. Мне понравился и голос его, и манера говорить, и стихи его: „И некому стихи мне прочитать. И рукопись похожа беловая на черновик…“»
«Сначала бессонница. Потом приходит сон, когда просыпается дом и дети сбегают с лестницы, бегут в школу. Боюсь сна, боюсь снов.
Вот вошла в черном Ахматова, худая — я не удивилась, не испугалась, — спрашивает меня: „Что было после моей смерти?“ Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко „Памяти Ахматовой“, — решила не говорить. Во сне не было страшно, страх — когда проснулась, — нестерпимая мука. В то же утро видела во сне Павлу Леонтьевну — маленькая, черная, она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле. Как я всегда боялась того, что случилось. Боялась пережить ее. 1966, декабрь».
В 1966 году у Раневской премьера в «Моссовете». Ия Сергеевна Саввина вспоминала:
«1966 год. Репетиции „Странной миссис Сэвидж“. Режиссер — Леонид Викторович Варпаховский. Фаина Георгиевна стосковалась по работе. Готова репетировать с утра до ночи и „пилит“ режиссера за торопливость, дескать, зачем хватает человек столько работы — „я вас возненавижу: вы халтурщик“, — говорит шутливо, хоть подоплека серьезна.
Отвлекается неожиданно. Сидим, Фаина Георгиевна, рассказывая что-то, встает, чтобы принести книгу, возвращается, продолжая говорить. Мы внимательно слушаем, и вдруг: „Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: не могу стоять, когда мужчины сидят“. Села. Всем неловко. Раневская дарит улыбки — оценивая юмор и элегантность замечания…
Говорит о Варпаховском:
— Этот режиссер — единственный, после Таирова, кто не раздражает меня. Но и он работает не по моей системе. Откуда вы взялись? Ах да, вы мейерхольдовец! Ох, эти новаторы погубили русский театр. — И обращаясь ко мне: — С приходом режиссуры кончились великие актеры, поэтому режиссуру я ненавижу (кроме Таирова). Они показывают себя.
— А я люблю режиссуру и мечтаю о хорошей.
— Потому что хоть вы и родились техничкой-профессионалкой, но вы учитесь, а я знаю это пятьдесят лет. Мне бы только не мешали, а уж помощи я не жду… Режиссер говорит мне — пойдите туда, станьте там, — а я не хочу стоять „там“ и идти „туда“. Это против моей внутренней жизни, или я пока этого еще не чувствую. Станиславский говорил (хоть я никогда и не цитирую старика): „Когда мышь выходит из норы, она бежит по стенке“. Понимаете? Не знает еще, дурочка, что за комната, чьи там ноги, уши, звуки, — и бежит по стенке. Я ненавижу мышей, но в данном случае их понимаю… Да, я „испорчена“ Таировым».
Саввина продолжает: «Впервые я пришла в квартиру Раневской, когда она была больна, и мы репетировали „Странную миссис Сэвидж“ у нее дома. Высокая, седая, красивая (становясь старше, хорошела, но, когда ей говорили об этом, обижалась: „Вы надо мной издеваетесь“), в длинном черном халате, она казалась больше своей квартиры, словно не вмещалась в нее. Так же не вмещается ни в какие слова. У Андрея Платонова есть строки как будто про нее: „Он скучал от своего таланта, как от одиночества, не зная, как нам высказать это, чтобы мы поняли“.
Мне нравилось заходить в театр, когда играла Раневская. Дверь из общего коридора, ведущая в ту закулисную часть, где артистические уборные, закрыта. Все стараются говорить тише. Сцена вымытая, пахнет не пылью, а свежестью. „Я сегодня играла очень плохо. Огорчилась перед спектаклем и не могла играть: мне сказали, что вымыли сцену для меня. Думали порадовать, а я расстроена, потому что сцена должна быть чистой на каждом спектакле“.
Раневская раздражалась по мелочам, капризничала „не по делу“, как считали многие. Так решила однажды и я, когда репетировали „Сэвидж“. И взбунтовалась. Потом боялась, что Фаина Георгиевна никогда не простит меня, а она сама позвонила, и мы часа четыре говорили и обе плакали. Чувствуя мое раскаяние, Фаина Георгиевна уверяла, что виновата во всем она, что не имела права не щадить мои нервы.
Величие ее откровенности тогда потрясло меня: „Я так одинока, все друзья мои умерли, вся жизнь моя — это работа. Совсем молодой я осталась в России одна, без родственников, по двум причинам — не мыслила жизни без театра, а лучше русского театра в мире нет. Но это не главное. Возможно ли оставить землю, где похоронен Пушкин и где каждое дуновение ветра наполнено страданием и талантом твоих предков! Это ощущение Родины — моя жизнь. И вдруг я позавидовала вам. Позавидовала той легкости, с какой вы работаете, и на мгновение возненавидела вас. А я работаю трудно, меня преследует страх перед сценой, будущей публикой, даже перед партнерами. Я не капризничаю, девочка, я боюсь. Это не от гордыни. Не провала, не неуспеха я боюсь, а — как вам объяснить? — это ведь моя жизнь, и как страшно неправильно распорядиться ею“.
Гипертрофированная эмоциональность, нервная сосредоточенность в работе — булавочный укол мог привести к взрыву. Она думала над ролью, выстраивала ее заранее, но все умозрительные решения могли в секунду разрушиться ее внутренним эмоциональным ходом, который иногда оказывался правильней и сильней ранее построенного. Интуитивно она разрушала то, что сама придумала. Интуитивно жаждала существовать на сцене „как бог на душу положит“. У нее поэтому спектакли бывали неровные — сильнее, слабее, но всегда интересные. Просто появление на сцене, такой личности — уже событие: зрителя завораживал магнетизм ее духовного богатства.
Варпаховский говорил, что с Раневской надо работать бережно, она сама понимает свои ошибки и переделывает. И действительно, после прогона первого акта „Сэвидж“ Фаина Георгиевна сказала: „Мне раньше все было неудобно, а теперь я принимаю ваши предложения. Мне удобно, я вам очень благодарна“. Но часто первым ее душевным движением бывало все же сопротивление.
Когда „одели“ сцену декорациями, выяснилось, что игровая площадка максимально приближена к зрительному залу.
— Где первый ряд?
— Первый ряд вот…
— Что? Этого не будет.
— Почему?
— Я убегу, я боюсь публики. Я вам аплодирую, но я не буду играть. Если бы у меня было лицо, как у Тарасовой… А у меня ужасный нос, он мне испортил и личную жизнь, и карьеру… Макет великолепный, фантазия богатая, рояль надо купить коричневый…
Говоря это, Фаина Георгиевна отодвигала стулья метра на два в глубину сцены.
Трудно было работать с ней, если считать требовательность придиркой, но если принять и понять ее нормы существования, попытаться хоть как-то соответствовать им — работа превращалась в наслаждение. Я испытала это в „Странной миссис Сэвидж“. Доброту моей Фэри играла не я, ее играла Раневская своим проникновением в характер и судьбу этой девочки. (К примеру, один из ее советов: „Фэри — аристократична. Вы говорите: „Зубной врач меня любит“ — и показываете зубы. Это не надо, это вульгарно. Я не вмешиваюсь в дела других актеров, но вам должна сказать из чувства симпатии“.) Она сострадала болезни Фэри, прощала ей озорство, любовалась ее неуклюжими попытками развеселить окружающих, и это ее понимание и соучастие давало мне силу и легкость, желание играть. Я полюбила эту роль из-за Раневской.
Придиралась. Говорила, мешают работать, если одеты неправильно. А вдуматься, какая же это придирка: „Пришла девочка, репетировала. Милое существо в брючках. Говорю ей — „вот так и играйте“. А на сцену выходит девочка в мини-юбке, уродующей ее фигуру, делающей ее совсем не тем человеком, который со мной репетировал… играть было трудно“.
Можно воспринять эти слова как раздражение за то, что пренебрегли ее советом, а по существу это было внимание к партнеру. Однажды в „Сэвидж“ Фаина Георгиевна сказала, что мне надо бы поменять платье. „Фаина Георгиевна, я так к нему привыкла, что надеваю платье и очки — и я уже Фэри“. — „Понимаю. Ради бога, если это вам помогает“. Потом я вдруг увидела, что за долгое время платье просто потеряло форму, в нем нельзя уже было выходить на сцену. Раневская первая заметила это, но из уважения к моему актерскому самочувствию не настаивала. „Ну что же, преодолевайте игрой недостатки вашего внешнего вида“ — вот что она, наверное, думала, как бы согласившись со мной».
Фаина Георгиевна писала:
«С Ией Сергеевной Саввиной мне довелось играть в одном спектакле. Оговорилась, не признаю слова „играть“ в нашей актерской профессии. Скажу: существовать в одном спектакле. Это была первая встреча, в которой я полностью убедилась в том, что моя партнерша умна, талантлива. Для меня партнер самое главное. Она была настолько правдива, настолько убедительна, что мне было трудно представить себе ее иной, но тут же вспомнила пленительную „даму с собачкой“ в кинофильме, вспомнила ряд других ее работ в кино и театре иного плана, и мне стало ясно, что я встретилась с большой актрисой большого дарования, и очень этому обрадовалась…»
Саввина мечтала уговорить Раневскую написать книгу о своей жизни. Вот запись об этом Раневской:
«Книгу писала 3 года, прочитав порвала. Книги должны писать писатели, мыслители или же сплетники: М. Алигер, Наталья Ильина и пр. А главное, у них желание рассказать о себе… и между прочим об Ахматовой».
«Меня терзает жалость. Кто-то сказал: жалость — божественный лик любви. Ночью болит все, а больше всего совесть. Жалею, что изорвала дневники, — там было все…
Не буду писать книгу о себе, не хочу делать свою жизнь достоянием публики. Лифтерши бы зачитывались этим опусом. И к тому же у меня непреодолимое отвращение к процессу писания. „Писанина“. Лепет стариковский, омерзительная распущенность. Ненавижу мемуары актерские. Кроме книжки Павлы Леонтьевны. Страдание есть главный, а может быть единственный закон бытия всего человечества. Достоевский.
Для меня — загадка: как могли Великие актеры играть с любым дерьмом? Очевидно, только мало талантливые актеры жаждут хорошего, первоклассного партнера, чтоб от партнера взять для себя необходимое, чтоб поверить — я уже мученица. Ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться, и вся моя долгая жизнь в театре — Голгофа — хорошее начало для „Воспоминаний“.»
«Маргарита Алигер меня ругательски ругала, узнав, что я порвала рукопись книги моей жизни, которую писала в течение трех лет. Маргарита Алигер взяла с меня слово, что я начну восстанавливать в памяти все, что уничтожила. Слово придется сдержать.
Но восстановить в памяти все, что я писала хронологически, было бы очень утомительно, поэтому вспоминать буду первое, что придет в голову.
Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе — это была бы „жалобная книга“ — „Судьба-шлюха“.»
И, наконец, вспомним ее Крым 1921 года:
«Зима в тот год была Страстной неделей,
И красный май сплелся с кровавой Пасхой,
Но в ту весну Христос не воскресал».
«Забыть такое нельзя, сказать об этом в книге моей жизни тоже нельзя. Вот почему я не хочу писать книгу „О времени и о себе“.»
Она мучилась этим — писала, восстанавливала, силы уходили. Раневская повторяла что-то главное по два, три раза — хотела, чтобы мы прочли все, — и не могла решиться, вспомнить, расположить в хронологии.
Я спросил ее однажды: «Как умер Горький?» Она долго молчала, а потом как-то нехотя, в сторону, тихо сказала: «Он много знал…»
Что еще знала Раневская? У нее было мучительное желание рассказать. Это видно из сотен рассыпавшихся страничек ее стихийного архива, страничек, которые она хотела для нас сохранить.
Успех «Странной миссис Сэвидж», любовь и забота друзей, в первую очередь Нины Сухоцкой, моей мамы, отвлекали Фаину Георгиевну от горьких мыслей. И вот в конце 1966 года она анонимно послала своей приятельнице Татьяне Тэсс новое сочинение — письма несуществующего «читателя» и его «племянника»:
Рукой Раневской: «Разыграла Татьяну Тэсс. Копия (прошу сохранить)».
«Здравствуйте, Татьяна Тэсс!
Увидел я Вашу карточку и невозможно смотреть без волнения, как Вы загадочно улыбаетесь — „Огонек“ № 45 индекс 70 663. Рассказ при ней также написан с большим знанием дела, хоть я и не люблю чтения про буржуазный слой, чуждый советским людям. Из Вашего яркого сочинения видно, что наши люди лучше заграничных, хотя я и пострадал от нашего советского. Я был обокраден племянником на почве доверия к людям. Этим летом я решил удалиться на свежий воздух для поправления организма. Как говорится, годы берут свое, и женские капризы подорвали здоровье, а по просьбе вышеизложенного родственника я оставил его в моем домишке на предмет сторожения имущественного фонда, т. к. последнее время наблюдается, что в Малых Херах неспокойно от тунеядцев и бывали случаи нападения с помощью холодного оружия. Это нежелательное явление со стороны молодежного туризма, которые повадились наблюдать достижения предков по линии церквей, а также банных заведений далекого прошлого. Возвратился я полный сил, как тут же обнаружил пропажу кальсон (2 пары темно-фиолетовых с начесом), а также пиджака (люстрин) и настольной лампы (импорт). Зная, как перо в Ваших руках хлестко бьет по явлениям, и как душевно, горячо Вы переживаете на страницах прессы отрицательные стороны нашей действительности, прошу Вас написать про мой случай, имевший место. И еще должен сказать, когда читаю произведения, сходящие с Вашего пера, всегда переживаю острые переживания. В Вашем пере волнует борьба за правду и хорошее внутри человека. Мои соседи того же мнения, и мы часто обсуждаем совместно Ваши умные сочинения, выхваченные из жизненных процессов людей. Когда получаем газету, перво-наперво ищем Ваше фамилие, а если ее нету, то и не читаем, скука одолевает, пишите, Татьяна, чаще. Пишите, почему нет снижения цен и других достижений? Почему к нам в Малые Херы не приезжают выдающиеся артисты для обмена культурными ценностями? Многое еще хочется поведать Вам, зная Ваше чуткое отношение к трудящим. К примеру: выходил я больную курицу (чахотка легких). И что же Вы думаете, на основании найденных у соседей во дворе перьев и пуха она была похищена в период именин бухгалтера завода „Путь в коммунизм“. Прошу этот случай описать с присущей Вашему таланту верой в человека. Или возьмем такое: у моего кореша случился геморрой, после чего он не долго думая скончался, не дождавшись врача. Несмотря на мои позывные, врачиха явилась через отрезок времени. Совместимо ли это с нашей Конституцией?
В это, Татьяна, Вам надо вникнуть, чтобы покончить с пережитками нашей счастливой жизни! В наступающем новом 1967 году желаю еще острей оттачивать Ваше гневное перо на благо Родины. Желаю счастья в личном разрезе, с глубоким почтением Кафинькин А. И.
Мой адрес Малые Херы, Бол. Помойная (быв. Льва Толстого), собственный дом».
«Татьяна!
Привет с Парижа. Я нахожусь в преддверии для наблюдений над явлениями. Конечно, город на уровне, плохого не скажу, но и хорошего мало. Из достопримечательностей имеется башня, на самой верхушке ресторан. Население в основном французы и женщины легкого поведения. Чем нас бьют французы — это магазинами. И товары разные бросаются в глаза. Был в ночном заведении, где показывали разные штуки в области половых отношений. Конечно, такого в Союзе ССР нам с Вами не покажут. Посольские ребята затащили в музей, где люди стояли возле каменной фигуры, которая в настоящее время стоит без рук. Кто ей руки пообломал, пока не выяснили, но следствие ведется. Кругом говорили, что она красавица, но не верьте, Татьяна, например, моя жена покойница была интересней. Подводили меня к картинке в другой раме, на картинке нарисована женщина мало интересная, кругом говорили, что у ней особенный взгляд глаз, но я ничего особенного не заметил. У нас в Манеже были покрасивше, а что без рук статуя, то это даже хулиганство. Я нигде у нас не видел, чтобы в парке „девушка с веслом“ стояла без весла, а тем более без рук. Много у них жульничества, так что можем соревноваться.
Как вы знаете с газет, была в Париже „Неделя марксистской мысли“. Я всю неделю делился мыслями с другими нашими советскими. Сейчас начинаю изучать все по-ихнему для обмена опытом. Уже выучил слово „нон“, по-ихнему „нет“, „бонжур“, по-ихнему: „как живем?“ Водка по-ихнему — тоже „водка“. Так что больших трудностей нету. Наша комиссия, где я работаю над проблемами — уже пришла к выводу. По слухам, следующая командировка намечается в Австралию, так что по приезде с Парижа придется углубиться в изучение австралийского языка. Дали маху, Татьяна, а то бы ездили вместе на континенты, приоделись бы, выступали бы по вопросам, и тему уже подготовил: „Прогнозирование будущего на почве настоящего“.
Теперь моя специальность — „наше будущее“. Скоро увидите мое фотографие за круглым столом прогнозистов-оптимистов.
Если надумаете приехать: Париж, Советское посольство, А. Кафинькину.
Купил Вам касторовую шляпку, пальто с перьевым воротничком. Жду».
«Я верил, Татьяна, в Ваш неуклонный рост на основе Вашего пера, в преддверии Вашей эскалации, а прочитал про художественную диффамацию артистки Раневская и понял, что Вы иссякли, как таковая.
Артистку не знаю и знать не хочу. И зачем Вы на нее пустили Вашу научную мысль? Зачем Вас метнуло на пережитки счастливого прошлого нашей суровой действительности? Старуха, согласно Вашему яркому описанию данных поведения, ненормально помешанная, такая и ларек может ограбить. Артистки, как факт, все легкого поведения, им только в ресторанах закуски есть и мужей отбивать, а Вы на них углубили взгляд людей, у которых еще хватает совести совать мне газету и восклицать о смысле Вашего апофеоза.
В мои молодые годы прошлых лет я знал артистку — было на что посмотреть. Фамилие ей было — Лобзальская. Глаз у нее, правда, косил, но играла она броско, с танцами и в трико, и такие протуберанцы выделывала ногами, что дух захватывало. А когда в Бенефис играла „Драму в суфлерской будке“, — людей выносили из зала, а кто оставался сидеть — был в обмороке, но тем не менее никто про ее рентабельную игру не писал в газете на 4 столбца.
Писать надо про людей, как я, про мой возраст.
С Вашими рассуждениями про таких, как я, надо с большой буквы кричать. У артистов ничего не проходит красной нитью, а я многие годы жил с буржуазной отрыжкой в голове, говел, имел сношения, а под влиянием Вас пробудился, и теперь прошу вернуть мои гражданские права. Под влиянием Вас ездил в Тамбов, на коллоквиум мысли, где состоялся форум в направлении. Дорога в два конца, ресторан-кафе, где отравился свежей рыбой. Снимал Люкс на две койки с водоснабжением. Все это во имя Вас, с Вашим призывом к моей духовной пище. Махните про меня, рука не отсохнет, Татьяна! Пишите про простого Советского человека, как он, малограмотный, читает лекции по вопросам, пишет версии про открытия, читает доклады про новейшую живопись нового направления. Под Вашим пером я подвергался и теперь на грани. Пусть люди знают, как я вырос на ниве.
В Тамбове после вопросов была драка, но в перемирии поели грибов в кафе „Восторг“. Женщины в Тамбове преобладают с кривыми ногами, но есть одностороннее движение.
Гулял с одной блондинкой, встреченной на коллоквиуме. Но у нее воображение выражает отсталость научной мысли и нет в ней взгляда Ваших глаз, что неуклонно врезались в память. Пришлите, Татьяна, свое свежее фото, чтобы я ориентировался.
С нетерпением жду Вашего выступления по моей части и в Вашем органе.
С пламенным приветом! Афанасий Кафинькин.
Года бегут, а друга нет как нет.
Расходы увеличилися втрое.
Веселой прошлой жизни след простыл и след,
И никуда уж не годится и здоровье.
А в прошлом было все:
Ломился стол от кушаний, напитков,
Колбасы всех сортов, копчености,
С вязигою пирог и женский смех
Вокруг веселый и игристый.
Где это все? — вот что интересно! Посвящается Т. Тэсс. С уважением А. Кафинькин».
«Вы меня не знаете глубокоуважаемая Татьяна Григорьевна. Мое фамилие Усюськин, по матери происхождение имею от рода Кафинькина, ныне покойного дяди моего. Разбирая имущество дяди найдено письмо где покойник просит передать Вам привет и благодарность за внимание к разного рода явлениям нашей счастливой действительности на почве неполадок имеющих место. Дядя (царство ему небесное) не задолго до кончины покончил с буржуазным прошлым и поступил в партию где был членом с большой буквы.
Я тоже являюсь членом по просьбе дяди. Текущая действительность обнаружила большие достижения с Вашим участием в общественной жизни где Вы выявляете значение происходящего на почве роста нашего сознания. Спасибо Вам за нравственное значение событий. Остаюсь преданный Вам Усюськин».
В январские дни 1968 года Завадский послал Фаине Георгиевне поздравление:
Телефонограмма
«Дорогая Фаина! Очень рад, что Вы в строю. Обнимаю.
Ю. А. Завадский
г. Москва, 24 января 1968 года».
Резолюция Фаины Георгиевны:
«Не верю ни одному слову.
Раневская».
Фаина Георгиевна рассказывала нам с мамой, что, когда на гастролях у нее случился однажды сердечный приступ, Завадский лично повез ее в больницу. Ждал, пока снимут спазм, сделают уколы. На обратном пути спросил: «Что они сказали, Фаина?» — «Что-что — грудная жаба».
Завадский огорчился, воскликнул: «Какой ужас — грудная жаба!»
И через минуту, залюбовавшись каким-то пейзажем за окном машины, стал напевать: «Грудная жаба, грудная жаба».
Фуфа рассказывала это, потягивая мою руку вниз своею рукой, и смеялась своим особенным заразительным смехом, который я очень любил — с похрюкиванием.
«Перечитываю Толстого, — писала Фаина Георгиевна, — наслаждаюсь, как только можно наслаждаться им. И вдруг так остро, так мучительно захотелось к Павле Леонтьевне на Хорошевское шоссе, где больше нет ее, где нет и дома, в котором она жила. Дом сломан. Хотелось ей читать, ее угостить чем-либо вкусным, рассказать смешное, она любила смешное. Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительна, лучше бы ее не было… Лучше бы память навсегда убить».
Раневская почти не спала. Писала, вспоминала, тосковала:
«Стук в дверь. Утро раннее, очень раннее. Вскакиваю в ночной рубахе:
— Кто там?
— Я, Твардовский. Простите.
— Что случилось, Александр Трифонович?
— Откройте.
— Подождите, сейчас, наброшу халат.
Открываю.
— Понимаете, дорогая знаменитая соседка. Я мог обратиться только к вам. Звоню домой — никто не отвечает. Понял — все на даче. Думаю, как же быть. Вспомнил, этажом ниже — вы. Пойду к ней, она интеллигентная. Только к ней одной, в этом доме. Понимаете, мне надо в туалет.
Глаза виноватые, как у напроказившего ребенка.
Потом я кормила его завтраком. И он говорил:
— Почему у друзей все вкуснее, чем дома?
Был взволнован, сидел у меня до вечера, его искали, а когда догадались зайти ко мне, он извинялся, но все продолжал говорить о святом каком-то, о Папе.
Он бывал у меня, просил водку. Спрашивал, нет ли у меня водки. Я ему не давала ее. В гостиной долго смотрел на портрет Ахматовой. Его слова: „Вот — наследница Пушкина!“»
«И еще.
Приехал из Италии: „Вы, конечно, начнете сейчас кудахтать: ах, Леонардо, ах, Микеланджело. Нет, дорогая соседка, я застал Италию в трауре. Скончался Папа Римский… Мне сказали, что итальянские коммунисты плакали, узнав о его смерти. Мы с товарищами решили поехать к Ватикану, но не могли добраться, т. к. толпы народа в трауре стояли на коленях за несколько километров до Ватикана“.
И тут он мне сказал: „Мне перевели энциклику Папы. Ну, какие же у нас дураки, что не напечатали ее“. Сказал это сердито, умиляясь Папой, призвавшего своих двух братьев-издольщиков и сказав им: „Братья мои, я ничего вам не оставляю, кроме моего благословения, потому что я из этого мира ухожу таким же нагим, каким я в него пришел“.»
«В темном подъезде у лифта стоит Твардовский (трезвый). Я: „Александр Трифонович, почему вы такой печальный?“ Опустив голову отвечает: „У меня мама умерла“. И сколько в этом было детского, нежного, святого, что я заплакала. Он благодарно пожал мне руку. Такая у меня нежность к нему, такая благодарность за то уважение, которое он во мне вызывает.
Мы часто встречаемся у лифта. Александр Трифонович (нетрезвый) пытается открыть лифт, вертя ручку в обратную сторону. Подхожу и вдруг слышу, в ответ на мое предложение помочь: „Может быть, вы меня приняли за Долматовского? Так я не Долматовский“.
Я рассмеялась. Твардовский гневно: „Ничего не вижу смешного“.
Какая мука, какая тоска смертная, когда уходят такие, как Твардовский…»
У Фаины Георгиевны есть листок, где она пишет:
«Мои любимые мужчины — Христос, Чаплин, Герцен, доктор Швейцер, найдутся еще — лень вспоминать».
А вот еще:
«Влюбилась в Шоу. Больше всего в жизни я любила влюбляться: Качалов, Павла Леонтьевна, Бабель, Ахматова, Блок (его лично не знала), Михоэлс — прелесть человек. Ек. Павл. Пешкова, М. Ф. Андреева мне были симпатичны. Бывала у обеих. Макс. Волошин, Марина Цветаева — чудо-Марина. Обожала Е. В. Гельцер. Мне везло на людей».
После Хорошевки мы переехали с мамой на 3-ю Тверскую-Ямскую, куда долго зазывали Фаину Георгиевну на новоселье. Лифта в нашем подъезде не было, Раневской пришлось подниматься на третий этаж.
Наспех сделанный ремонт, один книжный шкаф, Раневской же и подаренный, книг много, стеллажей нет — часть книг нашла временное пристанище во встроенном шкафу.
«А тут что у тебя, Ирина?» — спросила Фаина Георгиевна. «Тут Алеша пока поставил книги», — предчувствуя беду, тихо ответила мама. «Боже мой, книги-пленницы, какой ужас, томятся за дверью! — гневно произнесла Раневская. — Как вы можете так жить?!»
Это послужило для нее поводом больше не приходить к нам. «Вы к нам не заглянете, Фаина Георгиевна? У час перестановка», — осторожно спрашивала мама, выходя с ней из театра. «У вас же книги-пленницы, я этого не вынесу», — коварно припоминала Раневская с деланным негодованием, не желая признаваться, что ей трудно подниматься к нам без лифта. Ей было уже 72 года.
Однажды мы побывали у Фуфы в котельническом доме с моим другом и вымыли ей посуду. В результате я получил от Фуфы такое письмо:
«9.02.69 г.
Лешенька, — это мелочь, но она растрогала меня до слез (буквально) — я так умилилась, что разревелась, когда увидела вашу с Генкой доблесть! Я так умилилась твоему вранью засоренному раковине (лень переделывать), ты так вдохновенно врал про застрявшую бумажку, а я верила. Милый дурачок, ведь утром все это бы сделала подлая старуха, а я и так редко тебя вижу, а ты чуть ли не все время торчал на кухне.
Но так хорошо вы потрудились!! У моей мерзавки еще ни разу не была такой чистой посуда. Очевидно, я совсем не избалована, п. ч. этот твой поступок очень меня взволновал. Обнимаю и целую твою любимую плохо выбритую мордочку. — Генке спасибо. Твоя Фуфа.
P.S. Приходи, когда будешь рядом».
А еще через месяц от Раневской мне пришла нота протеста с продуктами:
Рисунок
«Алексею (совершенно секретно)
Люблю и ответа не жду я!
29. 03. 69 г.
Кундель Абрамович, —
Собачий мустанг, —
Африканский Нибелунг,
Заячья Кофточка!
Дошли до меня слухи, что работаешь как каторжник, и не жрешь ни хера! Зачем так огорчать старую глубокоуважаемую Фуфу? Зачем?! Вот тебе за это кафиньки и бананы выращенные на плантациях буржуазного мира, где бананы жрут даже свиньи, — а возможно и обезьяны.
Пожалуйста будь здоров.
Твоя небезызвестная Фуфа».
В 1969 году состоялась премьера спектакля «Дальше — тишина», где Раневская и Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер — Раневская, Барклей Купер — Плятт. Раневская отдавала Люси Купер все свои силы…
Под Новый год Раневская слегла.
Ростислав Янович прислал Фаине Георгиевне письмо — уже не с Советской площади, от «хвоста Юрия Долгорукого», где Плятты жили раньше, а из башни на пересечении Бронных улиц. У них новоселье, над ними — Святослав Рихтер, до театра еще ближе, чем от Юрия Долгорукого, они вдвоем с Ниной Бутовой счастливы:
«28 декабря 1969 г.
Милая, дорогая Фаина Георгиевна!
Я вначале думал написать Вам что-нибудь „остроумное“, скомбинировав это из текстов нашей пьесы, но как-то не „сострилось“…
Я просто крепко Вас целую и желаю Вам (и себе, и всем), чтобы Вы поскорее стали здоровой! Пусть все хворости останутся в старом, 69-м году, а в новом будет только здоровье и счастье от полноты жизни на сцене, где Вам только и надо быть! Очень хочется поскорее ввести Вас под руки в ресторан м-ра Нортона и чокнуться с Вами реквизиторской бурдой, которая в Вашем присутствии неизменно становилась для меня нектаром. Итак, за Ваше здоровье! Пью!..
Я многократно справлялся у Ирины, можно ли Вас навестить, но она отвечала, что — позднее. Когда Вам будет „до меня“, позвоните, если это у Вас под рукой, по нашему новому телефону, и я прискачу. А если Вам звонить будет трудно, то я сам разведаю обстановку.
С Новым Годом!
С новым здоровьем!
С новым счастьем!
Старикашка Купер».
В больнице тогда, в 1970 году, Раневская познакомилась с Шостаковичем и потом записала:
«Я не имею права жаловаться — мне везло на людей. Нельзя жаловаться, когда общалась с Шостаковичем.
Мы болели в одно и то же время. Встретились в больнице. Нас познакомил Михаил Ильич Ромм.
Я рассказала Дмитрию Дмитриевичу, как с Анной Андреевной Ахматовой мы слушали его Восьмой квартет: „Это было такое потрясение! Мы долго не могли оправиться“.
На следующее утро (он уже очень плохо ходил) в дверях моей комнаты стоял Шостакович с пакетом в руках. И сказал мне: „Я позвонил домой. Мне прислали пластинки с моими квартетами, здесь есть и Восьмой, который вам полюбился“. Он еле-еле удерживал пакет в руках, положил на стол, а потом, приподняв рукав пижамы, сказал: „Посмотрите, какая у меня рука“. Я увидела очень худенькую детскую руку. Подумала: как же он донес? Это был очень тяжелый пакет.
Спросил, люблю ли я музыку? Я ответила: если что-то люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка.
Он стал спрашивать:
— Кого вы любите больше всего?
— О, я люблю такую далекую музыку. Бах, Глюк, Гендель…
Он с таким интересом стал меня рассматривать.
— Любите ли вы оперу?
— Нет. Кроме Вагнера.
Он опять посмотрел. С интересом.
— Вот Чайковский, — продолжала я, — написал бы музыку к „Евгению Онегину“, и жила бы она. А Пушкина не имел права трогать. Пушкин — сам музыка. Не надо играть Пушкина… Пожалуй, и читать в концертах не надо. А тем более танцевать… И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо. Вот у Булгакова хватило такта написать пьесу о Пушкине без самого Пушкина.
Опять посмотрел с интересом. Но ничего не сказал.
А на обложке его квартетов я прочла: „С восхищением Ф. Г. Раневской“.»
Фаина Георгиевна призналась в письме Орловой, что «изменила» ей в больнице с Шостаковичем.
Любовь Петровна написала тогда в больницу:
«Целую, обнимаю, Любимый Фей!
Спасибо за письмо.
Измену с Шостаковичем прощаю.
Буду Вам звонить.
Целую и обнимаю
Ваша вечнолюбящая Люба».
Мы старались чаще навещать ее, нужно было познакомить Фаину Георгиевну с Таней — моей молодой женой. Заламывая в отчаянии руки, мама предупреждала: «Танечка, только не возражайте Фаине Георгиевне!» Когда мы приехали к ней на Котельническую, Раневская долгим взглядом оглядела Таню и сказала: «Танечка, вы одеты как кардинал». «Да, это так», — подтвердила Таня, помня заветы Ирины Сергеевны. Вернувшись домой, мы встретили бледную маму с убитым лицом: Раневская, пока мы были в дороге, уже позвонила ей и сказала: «Ирина, поздравляю, у тебя невестка — нахалка».
Ходить с Раневской по улице было нелегко. Подмечая десятки типажей, характеров, порой обсуждая их вслух, она зачастую останавливалась посередине тротуара. Я сгорал от стыда, когда Фаина Георгиевна громко говорила мне «на ухо» о проходящей даме: «Такая задница называется „жопа-игрунья“ или: „С такой жопой надо сидеть дома!“»
Как-то мы сидели с ней в скверике у дома. К Раневской вдруг обратилась какая-то женщина: «Извините, ваше лицо мне очень знакомо. Вы не артистка?» Фуфа резко парировала: «Ничего подобного, я зубной техник». Женщина, однако, не успокоилась, разговор продолжался, зашла речь о возрасте, собеседница спросила Фаину Георгиевну: «А сколько вам лет?» Раневская гордо и возмущенно ответила: «Об этом знает вся страна!»
Раневская все чаще «отдыхала» в Кунцевской больнице. В июле 71-го года мама была там у Фаины Георгиевны. Фуфа сидела бледная, усталая, с загипсованной рукой.
— Что случилось, Фаина Георгиевна?
— Да вот спала, наконец приснился сон. Пришел ко мне Аркадий Райкин, говорит: «Ты в долгах, Фаина, я заработал кучу денег», — и показывает шляпу с деньгами. Я тянусь, а он зовет: «Подойди поближе». Я пошла к нему и упала с кровати, сломала руку.
Свое 75-летие Фаина Георгиевна встретила в больнице. Нам разрешили навестить ее. Гипс сняли, но боль не проходила.
«Врач намазал мне руку обезболивающим кремом для спортсменов, боль прошла. А он командует: „А теперь — как солдат, как солдат — смелее, махать, махать!“ Потом действие мази кончилось, и я всю ночь кричала от боли… Наверное, у этого врача очень хорошая анкета», — вздыхала Раневская. И продолжала: «На солнце бардак. Там какие-то магнитные волны. Врачи мне сказали: „Пока магнитные волны, вы будете плохо себя чувствовать“. Я вся в магнитных волнах…»
К Раневской в больницу пришли Марина Влади и Владимир Высоцкий и оставили ей записку:
«28 августа 1971.
Дорогая Фаина Георгиевна!
Сегодня у вас день рождения. Я хочу вас поздравить и больше всего пожелать вам хорошего здоровья… Пожалуйста, выздоравливайте скорее! Я вас крепко целую и надеюсь очень скоро вас увидеть и посидеть у вас за красивым столом. Еще целую. Ваша Марина.
Дорогая наша, любимая Фаина Георгиевна!
Выздоравливайте! Уверен, что Вас никогда не покинет юмор, и мы услышим много смешного про Вашу временную медицинскую обитель. Там ведь есть заплечных дел мастера, только наоборот.
Целую Вас и поздравляю и мы ждем Вас везде — на экране, на сцене и среди друзей. Володя».
Позже, уже дома, на Котельнической, Раневская написала:
«Володя Высоцкий. Он был у меня — он был личность».
Раневская и мама очень любили и уважали Вадима Бероева, известного зрителю по кинофильму «Майор Вихрь», где он играл главную роль. Он нравился мудростью своих красивых глаз, культурой. Он играл почти во всех последних спектаклях мамы, но был уже болен, пил, слабели ноги, она пыталась помочь, разрешила ему играть в войлочных ботинках. Он ушел непростительно рано — его мир не совпадал с его окружением. Он был одним из немногих молодых партнеров, кого любила Фуфа, его даже звали Фуфовоз — он выводил ее на поклоны в спектакле «Дядюшкин сон».
Раневская не могла играть «Странную миссис Сэвидж» без Бероева — любила его, грустила:
«Любимый актер, прекрасный Вадим Бероев — погиб…
„Сэвидж“ отдала Орловой. Хочу ей успеха. Наверно, я не актриса.
Живу в грязном дворе, грохот от ящиков, ругань, грязь. Под моим окном перевалочный пункт. Шум с утра до ночи.
Куда деваться летом? Некому помочь. Мне 75 лет».
Май 1972 года. Шли репетиции «Последней жертвы». Фаина Георгиевна репетировала Глафиру Фирсовну. Ирина Сергеевна Анисимова-Вульф ставила свой сороковой спектакль, свой третий спектакль с Раневской, властно вошедшей в ее семью, в ее жизнь, в сердце ее матери 55 лет назад.
Их жизнью стал театр, к которому они шли с разных сторон одинаково мучительно и страстно. Их объединили любимые люди, кинематограф и театр.
9 мая мама скоропостижно скончалась. В карауле стояли студенты ГИТИСа, актеры, архитекторы. Раневская не пошла в театр на панихиду.
На листках, обложках, в телефонной книжке — Раневская писала снова отчаянные, растерянные слова: «Ирина умерла, не могу примириться».
«9-го мая умерла Ирина Вульф. Не могу опомниться. Будто я осталась одна на всей земле. Я обижала ее — не верила ей. Она сказала: „Вас любит Ниночка и я, а вы не дорожите этим“.»
«Умерла Ирина. Дикая жалость. И поговорить теперь уже не с кем. Такое сиротство».
«Со смертью Ирины я надломилась, рухнула, связь с жизнью порвана. Такое ужасное сиротство не под силу. Никого не осталось, с кем связана была жизнь».
Пришло письмо от Орловой:
«Дорогая, любимая Фаина Георгиевна!
Скорблю всем сердцем о постигшем нас горе. Не могу поверить, что моего друга, Ирины Сергеевны нет с нами. Непостижимо… Боже мой, как все трагично. Как играла, не знаю и ничего не понимаю…
Всеми мыслями, душой и сердцем с Вами, моя дорогая и любимая и единственная.
Ваша, Люба Орлова. 14-V-72».
И опять — Раневская:
«9-го мая умерла Ирочка Вульф. Я одна теперь на земле, страшно. Мы были дружны, я сердилась на нее, но я, видимо, любила ее. Роднее после Павлы Леонтьевны не было никого. Я узнала ее ребенком… Мне стыдно, что я пережила ее. В ее смерть я не верю, не верю, что не увижу. Меня гонят в больницу, но надо играть. Одно утешение: скоро все кончится и у меня. 15-е, май, 72 год».
На Донском рядом с надписью «Незабвенной памяти Павлы Леонтьевны Вульф — осиротевшая семья» Раневская сделала надпись: «Ирина Вульф. 1972».
Каждую субботу или воскресенье я старался бывать у Фаины Георгиевны; когда уходил, она всегда нагружала меня бананами, отрезала буженины, посылала конфеты Тане. Она чувствовала мое горе глубже меня. А я спасался работой — в это время подходило к концу строительство Дворца пионеров в городе Кирове. Я подарил Фаине Георгиевне буклеты с видами этого здания, принес медаль — работа была отмечена премией Совета Министров СССР. Раневская поцеловала меня и, помолчав, сказала: «Вот, не дожила Ирина».
1973–1982
Боже мой, как прошмыгнула жизнь, я даже не слышала, как поют соловьи.
Переезд — Нежность — Орлова — Мальчик — Захарова — Награда — Письма — Дневники — Тоска — Глаза — Руки — Одежда — Еда — Островский — «В долготу дней» — День рождения — Разлука
В 1973 году Раневская переехала в кирпичную 16-этажную «башню» в Южинском переулке. Сюда, в тихий центр, она перебралась по настоянию своей подруги Нины Станиславовны Сухоцкой, жившей по соседству.
Наверное, это было правильно — Фаине Георгиевне стало легче жить: театр был рядом, забегали актеры. Дом был построен скучно, но капитально — «для хороших людей».
Помню, в какой-то солнечный осенний день Ия Саввина, Петр Штейн и я помогали Фаине Георгиевне переезжать с Котельнической, под градом ее рекомендаций укладывали книги: они должны были путешествовать в том же соседстве, в каком стояли на ее полках.
Каменный тупик Котельнического дома. Ни одного дерева. Серый асфальт. Раневская не жалела, что уезжала отсюда, хотя на Южинском она оказывалась в окружении номенклатуры, а здесь, на Котельнической, остались ее друзья — Роман Кармен, Михаил Жаров, Вадим Рындин, Галина Уланова.
В ее новой квартире на Южинском тоже был небольшой холл-прихожая с остекленными дверями, как в высотке, но уже не белыми, а «под дуб»; прямо — большая гостиная, направо — коридор, приводящий в большую кухню; налево по коридору — спальня, направо — туалет и ванная. Симпатии Раневской были в равной степени отданы гостиной и кухне.
Нам стало проще бывать у Раневской. Квартира на Южинском была новая, чистая, почти такая же, как на Котельнической, но спальня была с большой лоджией, выходящей в зеленый скверик. Начинался новый этап в жизни Фаины Георгиевны, казалось, ничего страшного уже не случится. В какой-то степени восстанавливалась ее прежняя жизнь в центре — рядом с Тверской, с друзьями, с теми, кто ее любил.
Раневская с Ниной Станиславовной и со мной ездила в хозяйственные магазины, покупала для дома крючки, лампы, занавески. Еще раньше Фаина Георгиевна купила мебельный гарнитур из карельской березы, украшенный лебедиными головками на длинных шеях. Гарнитур был поставлен в новую гостиную. Стены заняли любимые фотографии с дарственными надписями — от Рихтера, Пастернака, Шостаковича, Ахматовой, Улановой, Бабановой, Вульф; рельеф Пиеты и гипсовый контррельеф Пастернака, виды Кракова, фотографии собак. Как всегда было много цветов; на полке стояла знакомая «безликая» скульптурка Чехова. Потом появился цветной телевизор, соединивший Раневскую с внешним миром. На столе в гостиной и спальне стояли фотографии Павлы Леонтьевны, повсюду — книги. В углу спальни — бабушкина коричневая палка с загнутой янтарной ручкой.
В гостиной — огромная бегония размером с дерево, с листьями любимого Раневской лилового цвета, которая попала к Фаине Георгиевне из дома Алисы Коонен.
Фаина Георгиевна пыталась заменить мне мою старую семью. Какая-то особая нежность, как когда-то в Ташкенте, вновь возникла между нами. Мне было неимоверно жаль ее, сидящую одну перед телевизором, иногда засыпавшую в кресле, с открытой входной дверью, чтобы не звонили, когда она отдыхает. Она внимательно вглядывалась в меня, когда я приходил к ней домой, и часто делала мне, как она говорила, «еврейский комплимент»: «Ви знаете, ви очень плохо виглядите!» И тут же требовала есть все, что было на столе и в холодильнике, «пока не пришла Нина», — заговорщицки шептала мне Фаина Георгиевна, намекая на ревнивую Нину Сухоцкую.
Если приходила моя Таня, Фаина Георгиевна бодрилась, подтягивалась и меньше грустила. Однажды она потребовала у Тани, инженера по профессии, объяснить ей, почему железные корабли не тонут. Таня пыталась напомнить Раневской закон Архимеда. «Что вы, дорогая, у меня была двойка», — отрешенно сетовала Фаина Георгиевна. «Почему, когда вы садитесь в ванну, вода вытесняется и льется на пол?» — наседала Таня. «Потому что у меня большая жопа», — грустно отвечала Раневская.
Фаина Георгиевна специально держала крупу для кормления воробьев и многочисленных голубей, слетавшихся к лоджии и кухонному окну, едва Фуфа появлялась в их поле зрения. Вся лоджия была покрыта толстым слоем их «отходов» — пол, подоконники, прекрасное кресло с высокой спинкой, которое Раневская покрасила в красный цвет.
Однажды вместе с Ниной Станиславовной и Мальчиком Раневская поехала отдыхать на дачу и оставила нам ключи, чтобы Таня могла поливать цветы. Целый месяц Татьяна оттирала голубиные слои с лоджии, с красного кресла и подоконников, поливала цветы.
Вернувшись, Раневская была возмущена: «Куда делось говно?!»
И в тот же день, обзвонив всех своих знакомых, спешно насобирала несметное количество дорогих шоколадных наборов, вызвала меня к себе и вручила для Тани две связки конфетных коробок — в знак признательности за цветы и чистоту.
Таня иногда приходила помочь к Фаине Георгиевне вместе со своей младшей сестрой Олей, которая очень нравилась Фуфе. Раневская подарила Оле серую беличью шубку, очень старенькую; сказала: «Вам нужно теплее одеваться, поправьте ее, она вам идет». Недавно я узнал, что эту шубу подарил сорок лет назад своей дочери Сталин, когда Светлана была еще школьницей. По-моему, поправить сталинский подарок Оле так и не удалось.
Раневской было нелегко: дуло из окон зимой — их надо было заклеивать; ее тахту потребовалось перетягивать, я нашел неподалеку от Южинского мастерскую, откуда на Южинский пришел мужчина, от него пахло водкой — Раневская гневно выставила его прочь, мне тоже не поздоровилось. Тогда я упросил макетчика из своего института, Смурова, помочь Раневской. Он оказался чутким и деликатным человеком, прощал Фаине Георгиевне все ее придирки, исполнял ее прихоти, молча все переделывал и добросовестно выправлял. Раневская его полюбила. В ее телефонной книжке — Коля Смуров.
Верные друзья — Нина Станиславовна Сухоцкая и Елизавета Моисеевна Абдулова — часто бывали у нее, помогали. «Елизавета Моисеевна досталась мне в наследство от Абдулова, а Нина — от Коонен», — удрученно говорила Фаина Георгиевна. «Нина очень много говорит», — жаловалась она. Но если их долго не было, Раневская волновалась.
В 1973 году, когда Раневская переезжала, Театр имени Моссовета отмечал свое пятидесятилетие. В зале — приглашенная номенклатура, коллеги и театралы. Раневской на юбилее не было. Завадский сидел в президиуме, он только что стал «Гертрудой» — Героем Социалистического Труда. «Завадскому дают награды не по способностям, а по потребностям. У него нет только звания „Мать-героиня“, — говорила Раневская.»
На этом вечере с поздравлениями выступил хозяин Москвы Промыслов и прочел по бумажке: «Мы высоко оцениваем спектакль Завадского — „Петербургские сновёдения“.» Зал охнул. А Ардов — он сидел рядом с нами — радовался: «Так им и надо». Я вспомнил слова Фуфы: «Опять у нас неграмотное правительство!».
Фаину Георгиевну часто спрашивали, почему она не ходит на беседы Завадского о профессии артиста. «Дорогие мои, — отвечала Раневская, — я не люблю мессу в бардаке».
Фаина Георгиевна сохранила последнее письмо Любови Петровны Орловой:
«Моя дорогая Фаина Георгиевна! Мой дорогой Фей!
Какую радость мне доставила Ваша телеграмма! Сколько нежных, ласковых слов! Спасибо, спасибо Вам!
Я заплакала (это бывает со мной очень-очень редко). Ко мне пришел мой лечащий врач, спросил: „Что с вами?“ Я ему прочла Вашу телеграмму и испытала гордость от подписи „Раневская“ и что мы дружим 40 лет и что Вы моя Фея! Доктор смотрел Вас в „Тишине“ и до сих пор не может Вас забыть. Спросил, какую Вы готовите новую роль. И мне было так стыдно и больно ответить, что нет у Вас никакой новой роли. „Как же так, — он говорит, — такая актриса, такая актриса! Вот вы говорите, и у вас нет новой роли. Как же это так?“
Я подумала — нашему руководству неважно, будем мы играть или нет новые роли. Впрочем, он сказал: „Ведь ваш шеф слишком стар, он страдает маразмом и шизик, мне так говорили о нем“. Я промолчала, а когда он ушел, я долго думала: как подло и возмутительно сложилась наша творческая жизнь в театре. Ведь Вы и я выпрашивали те роли, которые кормят театр…
Мы не правильно себя вели. Нам надо было орать, скандалить, жаловаться в Министерство, разоблачить гения с бантиком и с желтым шнурочком и козни его подруги. Но… у нас не тот характер. Достоинство не позволяет.
Я поправляюсь, но играть особого желания нет. Я вся исколота. Вместо попы сплошные дырки, а вместо вен жгуты на руках. Я преклоняюсь перед Вашим мужеством и терпением. Ведь Вас каждый день колят!..
Я нежно Вас целую, обнимаю, очень люблю. Всегда Ваша. Люба Орлова. 6-I-74».
Орлова умерла 26 января 1975 года. Раневская писала:
«Любовь Орлова! Да, она была любовью зрителей, она была любовью друзей, она была любовью всех, кто с ней общался. Мне посчастливилось работать с ней в кино и в театре. Помню, какой радостью было для меня ее партнерство, помню, с какой чуткостью она воспринимала своих партнеров, с редкостным доброжелательством. Она была нежно и крепко любима не только зрителем, но и всеми нами, актерами. С таким же теплом к ней относились и гримеры, и костюмеры, и рабочие — весь технический персонал театра. Ее уход из жизни был тяжелым горем для всех знавших ее. Любочка Орлова дарила меня своей дружбой, и по сей день я очень тоскую по дорогом моем друге, любимом товарище, прелестной артистке. За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег моих я не была так дружески привязана, как к дорогой доброй Любочке Орловой».
На Южинском у Раневской появился подкидыш — собака Мальчик, ее страстная любовь. Он хотел гулять, о нем нужно было заботиться.
Раневская писала:
«Москва — незнакомый город, чистый, красивый и чужой. Сносят старые дома и на их месте делают скверы».
«Осквернение Москвы» — называла это Фуфа, но ее Мальчику скверы нравились.
«Лешенька, погуляй с ним подольше, он не успевает все сделать» — и мы ходили с ним по большому кругу, он внимательно всматривался в архитектуру земли, иногда поливал ее, переваливаясь, шел по второму кругу. Но когда я тянул поводок к дому — четырьмя лапами становился в упор, не сдвинуть — еще!
Фуфа тратила несоразмерные деньги на жизнь, стараясь меньше думать о быте, нанимала домработниц, которые ее раздражали.
Наконец нашли для Мальчика няньку:
«Собачья нянька, от нее пахнет водкой и мышами, собака моя, подкидыш, ее не любит и не разрешает ей ко мне подходить. Нянька общалась с водой только в крестильной купели, но она колоритна. Сегодня сообщила, что „ехал мужчина в транвае и делал вид, что кончил институт, на коленях держал партвей, а с портвея сыпалось пшено, и другой мужчина ему сказал: „Эй, ты, ученый, у тебя с портвея дела сыплются“.“ Животных она любит, людей ненавидит и называет их „раскоряченные бляди“. Меня считает такой же — и яростно меня обсчитывает. С ее появлением я всегда без денег и в долгах.
Сегодня выдавала фольклор. Мой гость спросил ее: „Как живете?“ — „Лежу и ногами дрыгаю“. Милиционер говорит: здесь нельзя с собакой гулять, а я ему: „Нельзя штаны через голову надевать“.»
«Пошла в лес с корзинкой, а там хлеб; милиционер спрашивает: „Что у тебя в корзине, бабушка?“, а я говорю: „Голова овечья и п…а человечья“. Он меня хотел в милицию загнать, а я сказала: „Некогда, спешу на электричку“.
Май. Диалог с домработницей:
— Что на обед?
— Детское мыло и папиросы купила.
— А что к обеду?
— Вы очень полная, вам не надо обедать, лучше у ване купайтесь.
— А где сто рублей?
— Ну вот, детское мыло, папиросы купила.
— Ну, а еще?
— Та что вам считать?! Деньги от дьявола, о душе надо думать. Еще зубную купила пасту.
— У меня есть зубная паста.
— Я в запас, скоро ничего не будет, от ей-богу, тут конец света на носу, а вы сдачи спрашиваете».
«Завтра еду домой. Есть дом и нет его. Хаос запустения, прислуги нет, у пса моего есть нянька — пещерная жительница. У меня никого. Что бы я делала без Лизы Абдуловой?! Она пожалела и меня, и пса моего — завтра его увижу, мою радость; как и чем отблагодарить Лизу, не знаю… Завещаю ей Мальчика! 13/XI 77.».
«Мой подкидыш в горе. Ушла нянька, которая была подле него 2 года (даже больше). Наблюдаю псину мою. Он смертно тоскует по няньке. В глазах отчаянье. Ко мне не подходит. Ходит по квартире, ищет няньку. Заглядывает во все углы, ищет. Упросила няньку зайти, повидаться с псиной. Увидел ее, упал, долго лежал не двигаясь, у людей это обморок, у собаки большее, чем обычный обморок. Я боюсь за него, это самое у меня дорогое — псина моя, человечная».
«Сижу в Москве лето, не могу бросить псину. Сняли мне домик за городом и с сортиром, а в мои годы один может быть любовник — домашний клозет. Одиноко, смертная тоска…»
Раневская была дружна с Брониславой Захаровой, актрисой МХАТа, которая стала ее помощником, внимательным слушателем. Мальчик привязался к Броне, Раневская ревновала, написала стихи:
Масик маленький, родной,
Он приполз ко мне домой,
Он со мной и день и ночь,
Потому что он мне дочь!
Посвящение Масику, бросившему, изменившему мне ради Брониславы Захаровой. 78 г.
«Ласкай Мальчика, — говорила Фаина Георгиевна Броне, — даром, что ли, хлеб ешь?» Это значило, что надо взять рожок для обуви на длинной ручке и чесать Мальчику бока. Эта палка для обуви называлась «ласкалка».
Бронислава Захарова сохранила свои записи этого времени о Фаине Георгиевне:
«Читала ей Цицерона.
Медсестра сказала Фаине Георгиевне: „Редко встретишь женщину, читающую такую книгу“.
Фаина Георгиевна ответила: „Не только женщины, но и мужчины редко встречаются такие“.»
Читали Маяковского. — «Он гений. Это мещанство — не читать Маяковского».
«Запомни на всю жизнь — надо быть такой гордой, чтобы быть выше самолюбия».
«Жить можно только с тем, без которого не можешь жить» — это сказала мне Анна Ахматова.
«Анна Андреевна рассказывала Фаине Георгиевне, что она читала публикацию о найденных недавно в Малой Азии керамических табличках, на одной из которых было написано: „Этот дом построен до рождения Иешуа“.»
«О Набокове: „Писать умеет, только писать ему не о чем“.»
«Когда нужно пойти на собрание писателей, такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой».
«И Толстой, и Сологуб пишут о смерти, но после того, как ты знаешь, что думает о смерти Толстой, незачем знать, что думает по этому поводу Сологуб».
«Если человек выйдет на площадь и начнет кричать, какой он несчастный, то его сочтут за сумасшедшего; а актер это делает каждый раз, и ему это позволено; ну разве это не сумасшествие?»
«Поклонница просит домашний телефон Раневской. Она: „Дорогая, откуда я его знаю. Я же сама себе никогда не звоню“.»
«Анна Андреевна мне говорила: „Вы великая актриса“. Ну да, я великая артистка, и поэтому я ничего не играю, мне не дают, меня надо сдать в музей. Я не великая артистка, я великая жопа».
«По телефону разговаривала с Цявловской о Пушкине и плакала. Говорила: „Это Жуковский виноват, он мог бы предотвратить дуэль!“
Это все после просмотренной по телевизору передачи о Пушкине, плохо снятой, безвкусной. Возмутил ее финал с детьми».
«Слова Давыдова: „Абсолютно бездарный актер — такая же редкость, как абсолютно гениальный“.»
Давыдов выступал в провинции с «Горе от ума» и заболел. Ему сказали, чтобы он не волновался, так как за него будет играть талантливый украинский актер местной труппы. Выйдя в роли Фамусова, он сказал: «Хто там ходить? Хто там бродить? Хто симхвонию разводить?»
«Возмущалась книгой Л. K. Чуковской, которая в трагические для Ахматовой дни 1946 года, после известного партийного постановления и до 1952 фактически ее избегала».
«Приходила Тэсс. Она не ко мне приходила, а к икре, салату, колбасе, телевизору. Единственное стоящее рассказала:
В Петрограде в 1919 году на одной квартире собрались Александр Блок и многие известные поэты, писатели, человек двенадцать. Ели фаршмак из мороженой картошки и воблы. Засиделись и все остались ночевать. Блока положили в отдельной комнате. Часа в три ночи пришел комиссар с милицией проверять документы. Хозяин сказал: „Тише, там отдыхает Александр Блок“.
Комиссар: „Что, настоящий?“
Хозяин: „Стопроцентный!“
Комиссар: „Ну, хрен с вами“ — и ушел».
«Показывала Нину Станиславовну: „На Тверском бульваре такой воздух, просто Швейцария! — Останемся в Москве!“
„Знаете, почему Толстой не любил Шекспира? Это два медведя из разных эпох в одной берлоге“.
„Любимый анекдот (играла):
В суде:
— Вы украли у соседей курицу?
— Нужна мне была ваша курица!
— Соседи жаловались, что вы заглядывали в окна.
— Нет у меня других забот.
— Пострадавшие утверждают, что вы хотели украсть не одну, а две курицы, и хотели залезть в курятник.
— Делать мне было нечего.
— Преступление наказуется треми годами тюрьмы.
— Есть у меня время сидеть в тюрьме.
— Вас сейчас возьмут под стражу и поведут в тюрьму.
— Здрасьте, я ваша тетя“.
„Скоро 60 лет, как я на сцене, а у меня есть только одно желание — играть с актерами, у которых я могла бы еще поучиться“.
„Сегодняшний театр — торговая точка. Контора спектаклей… Это не театр, а дачный сортир. Так тошно кончать свою жизнь в сортире. Я туда хожу, как в молодости ходила на аборт, а в старости рвать зубы. Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я недо… И в театре тоже. Кладбище несыгранных ролей. Все мои лучшие роли сыграли мужчины“.
„Приезжал театр Брехта, — записывает Раневская. — Вторично Елена Вейгель спросила меня, почему же вы не играете „Кураж“, ведь Брехт просил вас играть Кураж, писал вам об этом.
Брехта уже не было в живых. Я долго молчала, не знала что ответить. Потом виновато промямлила: у меня ведь нет своего театра, как у вас“. Но ведь геноссе Завадский обещал Брехту, что он поставит „Кураж“. Я сказала, что у геноссе Завадского плохая память.
Мне на приеме в его честь Брехт сказал, что видел меня в спектакле „Шторм“ и тогда понял, что в театре есть актриса для „Кураж“. Мне добрые люди советовали эту беседу и письмо Брехта опубликовать в театральной газете, но я не из умелых и деловых, а письмо куда-то сунула. Вот так!»
Шел восьмидесятый год ее жизни.
Центральное телевидение готовило передачу к юбилею Раневской и попросило Фаину Георгиевну помочь в определении отрывков из ее фильмов.
Она написала:
«Обязательно:
1) „Шторм“ полностью,
2) фильм „Первый посетитель“: дама с собачкой на руках,
3) „Дума про казака Голоту“,
4) „Таперша“ Пархоменко,
5) „Слон и веревочка“,
6) „Подкидыш“: „труба“ и „газировка“,
7) „Мечта“: тюрьма и с Адой Войцик,
8) „Матросов“ или „Небесный тихоход“,
9) Фрау Вурст — „У них есть Родина“,
10) „Весна“,
11) Гадалка — „Карты не врут“,
12) „Свадьба“: „приданое пустяшное“,
13) „Человек в футляре“: „рояль“,
14) „Драма“,
15) „Золушка“:
1) сцена, где она бранит мужа за то, что он ничего не выпросил у короля,
2) сцена примерки перьев,
3) отъезд „познай самое себя“.»
Позже — после 27 августа, своего 80-летия, — Раневская горько добавила наискосок списка:
«Сцены по просьбе телевидения. Показ сцен не состоялся. Забывчивое оно, это телевидение.
Все было в фонотеке, была пленка, пропавшая на телевидении. Ко дню моего 80-тилетия нечего показать! Мерзко!»
Зачем ее огорчили? Могли бы хоть что-то ей объяснить — ведь к 100-летию эту пленку показали по ТВ, она есть — там почти все, отмеченное Раневской.
Ия Сергеевна Саввина вспоминала:
«Я не помню, чтобы Раневская что-нибудь для себя просила, искала какую-либо выгоду. При этом у нее было обостренное чувство благодарности за внимание к ней. В связи с 80-летием ее наградили орденом Ленина, и мы, несколько человек, приехали с цветами поздравить Фаину Георгиевну (постановление опубликовано еще не было, только в театр сообщили, и Раневская ничего не знала). Реакция ее была неожиданной; мы привыкли к ее юмору — даже болея, шутила над собой. А тут вдруг — заплакала. И стала нам еще дороже, потому что отбросила завесу юмора, которым прикрывала одиночество».
Плятт в этот вечер подарил стихи:
Вечером 14-го апреля 1976 года, в честь награждения Ф. Г. Раневской орденом Ленина
ЗРИТЕЛЯМ
Я вам признаться не боюся:
Когда женился я на Люси,
Меня лишь чувства волновали, —
Приданого за ней не дали…
С тех пор прошло уже полвека.
И нет счастливей человека,
Чем я сегодня: мне дана
Орденоносная жена!
Ростислав Янович часто подписывался именем своего персонажа из спектакля «Дальше — тишина».
Брежнев, вручая в Кремле Раневской орден Ленина, выпалил: «Муля! Не нервируй меня!» — «Леонид Ильич, — обиженно сказала Раневская, — так ко мне обращаются или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился, покраснел и пролепетал, оправдываясь: «Простите, но я вас очень люблю».
Раневскую любил не один Брежнев. Ее благодарными почитателями и давними друзьями были Виктор Некрасов и Аркадий Райкин, Петр Капица и Святослав Рихтер, Сергей Лемешев и Самуил Маршак, Верико Анджапаридзе и Татьяна Пельтцер.
«Милый, дорогой Виктор Платонович, — писала Раневская еще в Киев Виктору Некрасову, — не могу писать писем, а потому послала телеграмму. Боюсь, что вы ее не получили. Телефонистка-кретинка уверяла, что Крещатик — фамилия. Я орала в трубку: Катя, Роман, Елена, Щорс… Телефонистка спросила, что это — щорс?
Нестерпимо грустно. Очень хочется с Вами увидеться.
Браню себя, даже ненавижу себя за то, что болтала всякую ерунду (хотела произвести впечатление) и не давала Вам говорить — Вашу книжку читала с восторгом, с восхищением и чувством черной зависти…»
В дни юбилея Раневской Виктор Некрасов написал ей письмо (все отточия — некрасовские):
«26. 8. 76
Дорогая, дорогая Фаина Георгиевна!
Вот видите, как в жизни случается. Вернулся я из леса, норвежского леса на берегу озера, включил транзистор, послушал последние известия и вдруг слышу, как Завадский поздравляет Вас! Вот так вот, прекрасно модулируя, говорит о Вас массу прекрасных, одно лучше другого, слов… А потом объявляют пьесу с Вашим участием. И Вашего неизменного Ростислава Плятта…
Я развалился на диване и, устремив глаза на сосны и ели, стал слушать историю о стариках и детях в этой проклятой Америке…
И услышал Вас… И вспомнил Вас. Единственный мой визит к Вам, визит, который…
Да что говорить. И почему я больше к Вам не зашел? А, успею… И вот, успел…
А ведь я к тому же Ваш должник. Должен Вам десятку, а м. б. и больше…
Итак, насколько я понял со слов Завадского, Вам стукнуло… А вот сколько, и не знаю. Он не сказал. И тут уж я должен сказать — какое это имеет значение? Наша Раневская всегда молода! Сердцем, душою…
Так ли это, дорогая Фаина Георгиевна? Ох, как хотелось бы, чтоб так — жить, по-моему, и сердце и душа должны соответственно возрасту. Так или иначе, но Вы для меня остались той, какая Вы есть. (Дальше эпитеты, которые Вам самой хорошо известны…)
Короче — я в Вас тогда влюбился. И люблю до сих пор. За все…
…Так я и не узнал, чем же кончилось все в этой американской семейке. Узнал только, что Вы приготовили плохой обед. А дальше затрещало и исчезло…»
Прочитав очередную книгу В. Лакшина, Раневская написала ему: «Дорогой Владимир Яковлевич!
Сейчас закончила — взволновалась-захлебнулась Вами. Чехова и Бунина люблю всю жизнь, Вас полюбила, когда впервые прочитала о Булгакове, а узнав эту Вашу работу, уже до конца дней буду любить Вас одного из всех пишущих сейчас. Я серая, я не критик литературный, я все сердцем беру — читала и волновалась Вашим даром…»
Лакшин ответил:
«Дорогая Фаина Георгиевна!
Жизнь есть сон. Давно живу, как во сне: стремлюсь к усидчивости и покою — и беспрерывно разъезжаю (на днях вернулся из Грузии); хочу видеть одних людей — вижу почему-то других; даже книги читаю по необходимости, не те, какие хотел бы.
Но мой сон включает в себя и одно безусловно радостное видение — Ваше присутствие на земле. Оттого разрешите поздравить Вас с новым годом и подтвердить мою любовь и душевную преданность Вам. В. Лакшин».
Дружеский привет Сергея Яковлевича Лемешева:
Если хочешь сил духовных
И физических извлечь,
Пейте соков натуральных —
Укрепляет грудь и плечь!
Это сочинил предприимчивый шашлычник в Ялте, в 1926 году.
Доброго Вам здоровья и полного благополучия, дорогая Фаина Григорьевна!
Ваши В. и С. Лемешевы.
Поздравление от драматурга Иосифа Леонидовича Прута:
«Телеграмма, это — отписка. Когда любишь, то не может хватить места на телеграфном бланке, чтобы выразить другу свою любовь. Ты та, дружбой чьей я всегда гордился, как горжусь тем, что ты существуешь.
Многие поздравляют тебя в эти дни. Хочу сделать это и я. Пусть в жизни твоей все будет так, как я тебе желаю. Тогда к высокому званию прибавятся еще и тонны здоровья, успехов, творческих радостей.
Фаина, дорогая подруга. Когда я услышал по радио твой голос, то сказал человеку, стоящему рядом со мной: „Это говорит Раневская, великая артистка!..“ Крепко тебя целую, желаю непотревоженного счастья. Твой И. Прут».
Из дневника Раневской:
«29 января 77 г. У меня сегодня день особый, счастливый день. Сейчас позвонил Аркадий Райкин, а он ведь гениальный. Он сказал, что хотел бы что-то сыграть вместе со мной. Горжусь этим, очень горжусь. Что-то, значит, хорошее во мне есть — в актрисе…»
Письмо академика Петра Леонидовича Капицы:
«Дорогая Фаина Григорьевна,
Я был очень тронут Вашей телеграммой с поздравлениями по случаю присуждения мне Нобелевской премии, хотя Ваше восхищение моим гением основано только на доверии к общественному мнению, а мое восхищение Вашим талантом основано на прямом восприятии.
Вспоминаю, как мы встретились с Вами у Валентины Михайловны Ходасевич, и Вы повергли тогда меня ниц непрерывным потоком остроумия.
Мы были бы очень рады, если бы Вы собрались когда-нибудь к нам.
Примите, пожалуйста, наши самые лучшие пожелания к Новому году.
Искренне Ваш П. Капица».
Знакомство Раневской со Святославом Теофиловичем Рихтером началось в 1980 году, когда после спектакля он послал ей громадный букет красных роз.
А когда подарил ей свою фотографию — он за роялем, — то надписал: «Великой Фаине с любовью. Святослав Рихтер».
Телеграмма 1981 года:
«С большой нежной любовью всегда молодого Леонида Утесова крепко обнимает старая Раневская».
Поздравительная открытка 1979 года — с бабочками — Татьяне Ивановне Пельтцер:
«„Татьянин день“ Таничка! Я так крепко Вас люблю, что, борясь с ленью, пишу записку — карандашом — моим сверстником!
Вы не представляете, как мне хочется Вам много сказать, и только хорошего, моя дорогая, моя славная Таничка!
Люблю Вас за талант, за доброе сердце, за все, что люблю в Человеке. Ваша Раневская.
P.S. Пусть бабочки всегда летают над Вами, даже зимой».
«Знакомые спрашивают: „Ну, кого ты сегодня жалеешь?“ Толстого!.. Уходил из дома, где столько детей нарожал. Гений несчастный!
Мне кто-нибудь в мире объяснит, что это за старик? В последнее время я не читаю ни Флобера, ни Мопассана. Это все о людях, которых они сочинили. А Толстой — он их знал, он пожимал им руку или не здоровался.
80 лет — степень наслаждения и восторга Толстым. Сегодня я верю только Толстому. Я вижу его глазами. Все это было с ним. Больше отца — он мне дорог, как небо. Как князь Андрей, я смотрю в небо и бываю очень печальна.
Самое сильное чувство — жалость. Я так мечтала, чтобы они на охоте не убили волка, не убили зайца. И как же могла Наташа, добрая, дивная, вытерпеть это?
Я отказалась играть в „Живом трупе“. Нельзя отказываться от Толстого. И нельзя играть Толстого, когда актер П. играет Федю Протасова. Это все равно, что если б я играла Маргариту Готье только потому, что я кашляю.
Как незаразительны великие идеи! После того, что написано им… воевать, проливать кровь?
Человечество, простите… подтерлось Толстым».
У Раневской был «Монолог о старухах» — о себе и о других:
«Старая Харя не стала моей трагедией, в 22 года я уже гримировалась старухой и привыкла и полюбила старух моих — в ролях, а недавно — в последний раз к сверстницам писала в письме: „Старухи, я любила вас, будьте бдительны“.
Книппер-Чехова, дивная старуха, однажды сказала мне: „Знаете, я начала душиться только в старости“.
Старухи бывают — ехидны, а к концу жизни бывают и стервы, и склочницы, и негодяйки, а к старости надо добреть с утра до вечера!
Самое ужасное — это обидеть, огорчить человека, ударить собаку, не покормить ее голодную».
«Впервые я увидела Бирман в МХТ в спектакле „Хозяйка гостиницы“. Было это году в 15–16-м, не помню точно.
Все это я помню ярко до такой степени, точно я видела вчера: Божественного Станиславского и поразившую меня актрису, игравшую в этом спектакле.
Самое сильное впечатление во мне оставили два актера: Великий Станиславский и наиталантливейшая Бирман. Впоследствии мне довелось с ней играть в театре Моссовета в спектакле „Дядюшкин сон“ по Достоевскому. И тогда мне показалось, по тому неистовству, с каким она творила свою роль, что-то нездоровое в ее психике — и все равно это было необыкновенно талантливо».
«Я была летом в Алма-Ате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила: „У вас нет такого ощущения, что мы на небе?“
Он сказал: „Да. Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое“. — „Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду“. Он рассмеялся…
Мы были дружны. Эйзенштейна мучило окружение. Его мучили козявки. Очень тяжело быть гением среди козявок».
Вспоминала о Маршаке. Маршак плакал о своем горе, а Раневская о своем, о Лиле. Самуил Яковлевич позвал Фаину Георгиевну к себе — это было в Барвихе, в доме отдыха: «Приходите, Фаиночка, поплачем вдвоем». Потом пошли в кино. Раневская первая ушла из зала, за ней вышел Маршак. Весь зал охнул — решили, что у них роман.
Раневская: «Ах, как с ним было интересно!»
«Нет уже и Миши Яншина, любила его слушать, актер был редкостно талантливый, и слушать было его интересно. Рассказал мне, как однажды на репетиции отказался следовать указанию Станиславского…
Станиславский опешил. Сказал: „Репетиция окончена“ — и вышел. Яншин испугался, актеры на него накинулись, хотели отколотить. Яншин убежал домой, плакал, проклинал себя. Наутро его позвали к телефону. Яншин понял — его увольняют. К телефону подошел К. С. и сказал: „Я долго думал, почему вы не захотели следовать моему указанию, в чем была моя ошибка, и понял, вы были правы“. Говоря это, Яншин заплакал. Заплакала и я от любви к К. С.».
«Система, система, а каким был Станиславский сам, на сцене не пишут, не помнят или перемерли, а я помню, потому что такое тоже не забывается до смертного часа. И теперь, через шесть десятков лет, у меня перед глазами, как и Мих. Чехов, как Чаплин, как Шаляпин — такое не забывается. Я люблю в этой жизни людей фанатичных, неистовых в своей вере. Поклоняюсь таким. Вот так».
«Великий Станиславский попутал все в театральном искусстве. Сам играл не по системе, а что сердце подскажет».
«У меня 2 Бога: Пушкин, Толстой. А главный? О нем боюсь думать».
«Все думаю о Пушкине. Пушкин — Планета! Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина?»
«Я читаю очень поздно и на ночь почти всегда Пушкина. Потом принимаю снотворное и опять читаю, потому что снотворное не действует. Тогда я опять принимаю снотворное и думаю о Пушкине. Если бы я его встретила, я бы сказала ему, какой он замечательный, как мы все его помним, как я живу им всю свою долгую жизнь… Потом я засыпаю, и мне снится Пушкин. Он идет с тростью мне навстречу. Я бегу к нему, кричу. А он остановился, посмотрел, поклонился, а потом говорит: „Оставь меня в покое, старая блядь. Как ты надоела мне со своей любовью“. 1981 г.».
Посмотрев «Петербургские сновидения», Раневская написала о Бортникове:
«Гена должен забыть все: приятелей, знакомых, угощения, выпивки, Гена должен ходить в лес, смотреть на небо, на деревья. Именно в лес, а не в гости.
Гена должен рисовать, он это умеет делать, Гена обязан сейчас состариться на 1000 лет и вновь родиться — чтобы играть Раскольникова, нужно в себе умертвить обычного, земного, нужно стать над собой — нужно искать в себе Бога.
Как мне жаль, что я не могу быть для него тем, чем была для меня Она.
Гена должен в себе убить червяка тщеславия, он должен сказать себе — я ничего не сыграл еще, я плюю на успех, на вопли девочек и мальчиков — я должен прозреть. Я остался один на один с собой, с Родионом. Господи, помоги ему!
Я ничего не требую от Гены, потому что роль эта делается годами, но что я хочу от Гены?.. Гена хорош, но он как надо заживет, когда поймет каждой клеткою, что он делает, когда перестанет вспоминать и говорить текст, а начнет кровоточить сердцем».
Раневская подарила Геннадию Леонидовичу килограмм черной икры — для придания сил. Он говорил об этом сам.
Однажды в театре они поднимались вдвоем в лифте. Наверху лифт остановился, открылись двери. На этаже перед лифтом ждали люди. Раневская разыграла публичное смятение: «Мы были с вами вдвоем. Вы меня скомпрометировали, Гена. Вы обязаны на мне жениться!..»
Чувство враждебности. «Не угнетайтесь, в этом виноваты не вы, а ваш талант», — так меня убеждали. Но почему же я бываю счастлива таланту! Писала Инне Чуриковой, Алле Демидовой, хвалила, радовалась.
«Талантливая Елена Камбурова. Услыхала ее однажды по радио, и я туда писала о ней с восхищением.
Ее преследуют за хороший вкус».
«В телепередаче недавно увидела актрису Неелову. Два больших отрывка большой актрисы. Позвонила в театр, ее телефона не дали.
Она была у меня, в ней есть что-то магическое. Магия таланта. Очень нервна, кажется даже истерична. Умненькая, славная, наверное несчастна. Думаю о ней, вспоминаю. Боюсь за нее. Она мне по душе, давно подобной в театре, где приходится играть (хотя я и не признаю этого слова в моей профессии), не встречала. Храни ее Бог — эту Неелову. 1 марта 80 г.
Если окружение — богема — она погибнет.
Вчера вечером она мне позвонила, опять все думала о ней. Сочетание в ней инфантильного с трагическим. Вызывает во мне восхищение талант ее и сострадание к ее беззащитности. Огорчает то, что помочь ей я бессильна. Ей нужен учитель, а я не умею, она сама с собой не умеет, да и не хочет сделаться такой, какой должна быть! 2 марта 80 г.»
Комнаты Раневской выходили на солнечную сторону. В гостиной было много цветов и домашних растений — Ванька-мокрый, лилия, аспарагус, алоэ, много других. Они стояли на широком подоконнике и на полу, в холле при входе, на кухне. После спектакля Фаина Георгиевна приходила с цветами. Букетов было так много, что их всегда кто-нибудь помогал внести в дом. Поникшие цветы Фуфа бросала в ванну, наполненную водой, и всегда следила, чтобы в кувшинах был запас отстоявшейся воды. Пол в ванной часто бывал заставлен этими кувшинами.
Под зеркалом на полочках около раковины у Фуфы стояли многочисленные бутылочки из стекла и металла с блестящими крышками, сетчатый пульверизатор, лежал открытый нессесер, большие и яркие пористые губки. Очень любила цветные махровые полотенца с фактурным узором того же цвета.
Ванная комната была наполнена запахом цветов и лавандового мыла, которое Фуфа давно любила, всегда просила знакомых привозить ей «мыльце» из-за границы.
В туалете на двери висела полотняная баба из «Думы про казака Голоту» в цветной кофте с большим карманом на переднике — кто-то подарил.
Самой ласковой ее комнатой была кухня. Там стоял диванчик «на троих», стол перед ним, в углу приемник с проигрывателем — радиола, на подоконнике — радиоточка. Сначала кухня была во всех смыслах холодновата — стены еще были голые, из большого окна сквозило. Потом Смуров все законопатил. Над диваном висел Фуфин портрет работы Тимоши с коринской правкой, но он ушел в Бахрушинский музей, а его место заняли многочисленные репродукции Ван Гога. Над плитой и мойкой в ряд были повешены три узбекские глазурованные тарелки, которые мы подарили Фаине Георгиевне на день рождения. В следующем году решили подарить Фуфе кофейный гжельский сервиз, но не синий, а кофейно-кремовый. Этот сервиз ей нравился, но Фуфа не разрешала им пользоваться — он торжественно стоял на холодильнике.
Фуфа любила синие чашки с золотом, так называемый «новгородский кобальт». Вообще Фаина Георгиевна требовала не вытирать после мытья посуду — она должна была сохнуть без участия полотенца. На кухонном подоконнике стояли керамические коричневые бочонки, тоже с Котельнической — с пшеном и другой крупой, — для воробьев, которых Фаина Георгиевна жалела в отличие от надутых голубей, отбиравших у воробьев корм.
Постепенно кухня стала уютной — там чаще всего Фаина Георгиевна встречалась с друзьями. Единственно, что мешало Фуфе на кухне, — пол. Он был покрыт плиткой ПХВ — чудовищная аббревиатура соответствовала качеству поверхности. Уголки плиток задирались, как у райкинского сыра второй свежести, мы прибивали углы обойными гвоздями, но все это было плохо. Купить линолеум в магазине было в то время невозможно.
Галерея «Ван Гога» продолжалась у Фаины Георгиевны и в коридорчике. Почему-то тут Раневская допускала военную регулярность — многочисленные репродукции были заключены в одинаковые металлические рамки и повешены наподобие горизонтальных кинокадров — так она хотела.
Прихожая, близкая к квадрату, была поглощена огромным шкафом «Хельга» с изящным витражом, за которым на стеклянных полках стояли легкие сувениры, которые потом были сметены огромными книгами и альбомами. Фуфе не нужен был идеальный быт. Ей хотелось опуститься в кресло, после репетиции или вечером, без сил после спектакля, и видеть эти книги, напоминавшие ей Париж, где она была только в молодости, Швейцарию и Юнгфрау — гору, о которой они говорили с Лилей, — и все, не нужны ей были изящные сувениры на изысканной стеклянной полке. Нужна была живая душа — был Мальчик, рядом была его «ласкалка».
Всегда открытая двустворчатая дверь вела в гостиную. Впереди было широкое окно, цветы и дерево в кадке. Главная ее комната была невидимо разделена на две части. Одна часть — парадная, прямо против двери, где стоял ее карельский гарнитур с лебедиными шеями и где она беседовала с «телевизионными деятелями искусств».
И другая часть гостиной — направо, где Фаина Георгиевна сидела одна. Там не было сквозняка, там висели фотографии ее любимых людей и собак, приколотые к обоям иголками от уколов инсулина, стоял диванчик и квадратное кресло из дома Алисы Коонен, телевизор, стоял стол, за которым она писала, и на нем небольшая модель опекушинского Пушкина, лампа с желтым покосившимся бумажным абажуром на синем стеклянном цоколе, фотографии ее Лили, Таты, нашей семьи, чернильный прибор, белый с синим, с позолотой, стаканчик с карандашами и ручками, телефон и телефонная книжка. Эти книжки с номерами телефонов менялись: Раневская не любила ни свой паспорт, напоминающий возраст, ни телефонные книжки — они не соответствовали кругу ее живых знакомых.
Позади кресла, на котором она сидела за письменным столом, стояли книжные полки-стеллажи, подаренные соседом. Книг было сначала много, потом меньше — Раневская дарила, отдавала, требовала принять подарок, когда гость уходил. Так уплыл с Фуфиной полки и португальский сувенир — филигранное подобие каравеллы, на которой португалец Васко да Гама приплыл когда-то в Индию. Я не жалел — помнил, как в 1979 году Фуфа была рада моему подарку, расспрашивала о Португалии, о ее далеких городах и людях.
Раневская часто оставляла приоткрытой дверь на лестницу, Мальчик спал, Фаина Георгиевна была в спальне или на кухне; вот и ушла однажды ее каракулевая шуба. Нанятая недавно домашняя работница быстро поняла возникшие для нее у Раневской новые возможности и, перешагнув через Мальчика, унесла шубу и вазочку из хрусталя. Обнаружив пропажу, Фуфа известила «товарищей милиционеров». Воровку накрыли с поличным у нее дома, нашли еще несколько шуб и вазочек — она не рассчитывала, что «интеллигенты заявят».
Фаина Георгиевна невзлюбила свою вернувшуюся блудную шубу. Решила ее продать. Открыла шкаф в передней перед покупательницей, оттуда вылетела моль. Раневская крикнула: «Ну что, сволочь, нажралась?»
«Боже, как я бестолкова, как я устала от Раневской… От ее беспомощности, забывчивости. Но это с детства запущено. Это не склероз, вернее — не только склероз», — записано ее рукой.
Быт тяготил ее. Вазочку она подарила нашей Оле, «для комплекта» со сталинской шубой.
«Думай о другом», — говорила она Броне и мне; мысленно твердила это многим своим озабоченным знакомым, самой себе.
«Соседка, вдова моссоветовского начальника, меняла румынскую мебель на югославскую, югославскую на финскую, нервничала, руководила грузчиками… И умерла в 50 лет на мебельном гарнитуре. Девчонка!»
«Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно», — повторяла Раневская.
В парадной части ее гостиной стояла знакомая нам остекленная этажерка с пушкинской посмертной маской и слепком руки Ахматовой, наверху этажерки — отмытый от сходства белоснежный гипсовый Чехов, на стене — отвернувшийся от света контррельеф Пастернака, невероятно угаданный Сарой Лебедевой, и белая плита — Мадонна с младенцем, тоже из Котельнической квартиры. Здесь же этюды Кракова. Фото Улановой.
За широким окном гостиной — скверик, где Фуфа сидела иногда на скамейке, за сквериком — кирпичный дом. Там сейчас мастерская архитектора Андрея Ивановича Таранова, последнего обладателя велосипеда «Мифы», когда-то подаренного мне Фуфой.
«Теперь, перед концом, я так остро почувствовала смысл этих слов: „Суета сует и всяческая суета, — записала Раневская.“ — Смотрю в окно, ремонтируют старый „доходный дом“, работают девушки, тяжести носят на себе, ведра с цементом. Мужчины покуривают, наблюдают за работой девушек, почти девочек. Две появились у меня на балконе, краска душит, мучаюсь астмой. Дала девочкам сластей. Девочки спрашивают: „Почему вы нас угощаете?“ Отвечаю: „Потому, что я не богата“. Девочки поняли, засмеялись».
«Чтобы получить признание — надо, даже необходимо, умереть».
Летом через голубую, косо заколотую булавкой шелковую штору светит солнце, как тогда, в детстве, под Таганрогом; можно из спальни выйти в лоджию, когда тихо. Но чаще — шум, дети.
Зеркало в закругленной раме, разнобокий столик под ним, комод с ящиками, тумбочка и ее тахта, которую чинил Коля Смуров; клетчатый плед, на полу — старый ковер.
В ее спальне предметы, без которых она не могла бы остаться одна: бабушкина хорошевская металлическая корзина с синими лепестками по краю — для цветов; в углу — бабушкина палочка с янтарной ручкой, на стене над тахтой — большой портрет Пушкина в темной ажурной деревянной раме, рядом с ним — Павла Леонтьевна, Станиславский, выше — ахматовский портрет, Качалов. На другой стене — фотографии Рихтера, Орловой, Пастернака, репродукция Сикстинской мадонны, бабушкина акварель (копия — «Тающий снег»), ваза с цветами и совсем близко, у изголовья на стене, — «моя старенькая мать», написала Фаина Георгиевна на обороте, повидавшись с ней в 1957-м, через сорок лет после разлуки. Какое-то чувство вины в этой близко к подушке приколотой маленькой фотографии.
Осталась ее влюбленность в жизнь, в страстную одаренность людей, которые окружали ее, вывели из одиночества, увидев ее жаркий талант.
…Ей трудно об этом говорить, трудно признаться — но ничего не исправишь, — пришла тоска, справиться с ней невозможно и несправедливо было бы — все чаще свидания с ней. А потом тоска поселяется в доме, и Раневская может только уйти от нее на время, доверчиво глядя на фотографию дорогого ей человека. Она не переносила снисходительности и не допускала жалости к себе. Без прикрас, как на исповеди, говорила Раневская о своей тоске, писала за столом на Южинском, когда тянулись бесконечные дни без репетиций, вечера без спектаклей, жизнь без воздуха. И только память уходила и не оглядывалась — «как сердитая соседка», по ее выражению.
Раневская спешила, записывала, диктовала. На листах бумаги, бюллетене, книге, обрывке конверта — сказать, не забыть, написать. Не любила писать. Но оставила все эти записи — для нас.
«Памяти учителя
Если я стала понимать, как вести себя на сцене — я обязана этим только Павле Леонтьевне Вульф, она научила меня основам основ, этике поведения актера.
Казалось бы, с самой мелочи: обращению с листами роли — будь их несколько, целой тетрадкой или даже единственным листиком, на котором отпечатано несколько фраз. Когда в начале застольной работы я вижу в руках моих партнеров слежавшиеся, измятые листки с текстом роли без подчеркнутых реплик, вспоминаю первые ее слова — требование П. Л. переписать роль своей рукой, оставив свободной обратную сторону страницы для замечаний режиссера. Перед тем, как приступить к разбору пьесы, сделать как бы внешний „туалет“ роли да подчеркнуть реплики красным карандашом.
Павла Леонтьевна Вульф — имя это для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой. В трудную минуту я обратилась к ней за помощью; как и многие знавшие ее доброту. Павла Леонтьевна нашла меня способной и стала со мной работать. Она учила меня тому, что ей преподал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская.
За мою долгую жизнь в театре я не встречала актрисы подобной Павле Леонтьевне, не встречала человека подобного ей. Требовательная к себе, снисходительная к другим, она была любима своими актерами как никто, она была любима зрителями также как никто из актеров-современниц. Я была свидетельницей ее славы, ее успеха. Скромность ее была удивительна, она старалась быть в тени. Не было в ней ничего от „премьерши“. Мне посчастливилось не только видеть ее изумительное искусство, но даже играть с ней, это были самые радостные дни моей жизни.
П. Л. стремилась помочь даже тем, кто к ней не обращался за помощью. Она отдавала лучшие свои роли молодым актрисам, занимаясь с ними. По моим наблюдениям, обычно стареющие актрисы действовали обратно, крепко держась за свои любимые роли. Ничего подобного не было в благородной натуре Павлы Леонтьевны…»
«Бог мой, как я стара — я еще помню порядочных людей!»
«В 73-м году перестала играть „Сэвидж“, подарила роль Л. Орловой. Тяжко стало среди каботинов. Бероева любила — его не стало. Театр — невыносимая пошлость во главе с Завадским. Тошно мне».
«По ночам в трубах стонет и плачет вода.
Она в гробу, я читаю стихи ее и вспоминаю живую, стихи непостижимые, такое чудо Анну Андреевну…
5-го марта 10 лет нет ее, — к десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи».
«Кажется, до конца дней буду помнить два дня, которые провела на телевидении. Смотрели пленки с режиссером-„бухгалтером“. Он подсчитывал секунды с помощью электроаппаратуры. Волновался, говорил, что боится потерять премиальные в случае „недобора“ или „перебора“ секунд. Ни одного слова не сказал о моей работе. Хоть бы изругал! Было бы легче услышать замечания, недовольство.
Через три дня эти опусы увидят миллионы. Я в руках ремесленников, не знающих ремесла! Не знаю, что ждет меня после показа старых пленок. А на беду, расхвалил Ираклий. Бедняга — старый, больной, читает по записке, весь потухший Ираклий, потухший вулкан. 25. Х. 76 г.».
«Когда мне не дают роли в театре, чувствую себя пианистом, которому отрубили руки. Читаю дневники Мордвинова. Наивный, чистый, тоже мученик — подумала в театре, где страдаю от одиночества, халтуры, пыли, на всем и на всех. 76 г.».
«Пипи в трамвае — вот все, что сделал режиссер в искусстве».
«Блядь в кепочке».
«Вытянутый в длину лилипут».
«Наверное я зря порвала все, что составило бы книгу, о которой просило ВТО. И аванс теперь надо возвращать 2 т. Бог с ними, с деньгами, соберу, отдам аванс, а почему уничтожила? Скромность или же сатанинская гордыня! Нет, тут что-то другое. Вычитала у Стендаля: „Когда у человека есть сердце, лучше, чтоб его жизнь не бросалась в глаза“. Может быть это? Не хочу обнародовать жизнь мою, трудную, неудавшуюся, несмотря на успех у неандертальцев и даже у грамотных.
Я очень хорошо знаю, что талантлива, а что я создала? Пропищала и только. Кто, кроме моей Павлы Леонтьевны, хотел мне добра в театре? Кто мучился, когда я сидела без работы? Никому я не была нужна. Охлопков, Завадский, Алекс. Дмитр. Попов были снисходительны, Завадский ненавидел. Я бегала из театра в театр, искала, не находила. И это все. Личная жизнь тоже не состоялась. В общем, жизнь прошла и не поклонилась, как сердитая соседка. Очень тоскую — нет П. Л., нет Ахматовой. От нее так много узнала. Ее стихи сводили с ума. Мало кто их понимает, любит.
В одном мне повезло, знала чудесных Павлу Леонтьевну, из меня сделавшую актрису, Качалова — доброго, нежного друга, знала Верико Анджапаридзе — дивную актрису, умницу и друга мне. Ко мне была доброй Ахматова — от нее получила так много. В молодости знала Марину Цветаеву. А теперь одна, одна, одна. Спасаюсь книгами — Пушкиным, Толстым. Читаю летопись жизни и творчества Станиславского, — это и есть моя жизнь в искусстве. В Театре Завадского заживо гнию. 76 г.».
«Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади».
«Главное в том, чтоб себя сдерживать — или я, или кто-то другой так решил, но это истина. С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю. Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней.
Терплю даже Завадского».
«Наплевательство, разгильдяйство, распущенность, неуважение к актеру и зрителю. Это сегодня театр — развал».
«Театр катится в пропасть по коммерческим рельсам. Бедный, бедный К. С.».
«Я — выкидыш Станиславского».
«Для меня каждый спектакль мой — очередная репетиция. Может быть поэтому я не умею играть одинаково. Иногда репетирую хуже, иногда лучше, но хорошо — никогда. После спектакля мучаюсь тем, что хорошо не играю. Всегда удивляюсь, когда хвалят».
«Вассу играла в 36-м году вскоре после смерти Горького. Работала с режиссером Е. С. Телешевой. Была собой недовольна.
Сравнивая и вспоминая то время — поняла, как сейчас трудно. Актеры — пошлые, циничные. А главное — талант сейчас ни при чем. Играет всякий кому охота. 77 г.».
«Моя учительница П. Л. Вульф, говорила: „Будь благородна в жизни, тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене“.»
«Больница, 77 г., осень. Лес осенью — чудо! Смотрю в окно, как деревья умирают стоя. Кричит ворон с отчаяньем, жаль его, наверно голодный. Вчера было „гипо“. Выгнали сахар. Подлая болезнь. Мне все чужое, люди чужие…
Многие получают награды не по способности, а по потребности. Когда у попрыгуньи болят ноги — она прыгает сидя».
«Дома хаос, нет работницы — в артистки пошли все домработницы, поголовно все.
Не могу расстаться с Пушкиным — Пушкин во мне сидит. Пушкин…
С. Бонди детям о Пушкине — очень хорошо. Я плакала. Впадаю в детство. Впрочем, Горький незадолго до кончины плакал не уставая».
«Вчера возили на телевидение. Вернулась разбитая, устала огорчаться. Снимали спектакль из театра, где играю: „Дальше — тишина“. Неумелые руки, бездарные режиссеры телевидения, случайные люди. Меня не будет, а это останется. Беда.
Вспомнилось, как Михаил Ромм, которого я просила поставить в театре эту пьесу, отговаривал меня в ней участвовать, говоря, что в пьесе хорошая роль мужа, а роли старухи нет. Пьеса слабенькая, но нужная, потому что там дети и старики родители. Пьеса американская, а письма ко мне идут от наших старух, где меня благодарят — за то, что дети стали лучше относиться. Поступила правильно, не послушав Ромма, пришлось роль выправлять, а роли нет, конечно. Замучилась с ней, чтоб что-то получилось. 78 г.»
«Тоска, тоска, я в отчаянии. И такое одиночество. Где, в чем искать спасения?
„Час тоски невыразимой: все во мне и я во всем“, — это сказал Тютчев, мой поэт. А как хорошо было около Ахматовой, как легко было, а как хорошо было с моей Павлой Леонтьевной. Тогда не знала смертной тоски.
Ушли все мои…»
«Хочется мне записать по радио Лескова — „Полуночники“. Лесков изумительный, не понятый и тогда, когда писал, а тем более теперь — его не знают, не читают. Кому поручить делать инсценировку? Нет Николая Эрдмана — он бы смог. Эрдман был гениален. Тоскливо, книгу писала 3 года, потом порвала. Аванс выплатила половину, вторая за мной. Тоскливо, нет болезни мучительнее тоски. Кому я это пишу? Себе самой».
«Страшно грустна моя жизнь. А вы хотите, чтобы я воткнула в жопу куст сирени и делала перед вами стриптиз».
«Если бы я писала что-то вроде воспоминаний, была бы горестная книжка. В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. В жизни меня любила только П. Л.
Сегодня ночью думала о том, что самое страшное, это когда человек уже принадлежит не себе, а своему распаду».
«Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свое лицо». — Гете.
Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума: она обо мне знает все, а я о ней ничего.
Ну и лица мне попадаются, не лица, а личное оскорбление!
В театр вхожу, как в мусоропровод: — фальшь, жестокость, лицемерие, ни одного честного слова, ни одного честного глаза! Карьеризм, подлость, алчные старухи!
О Юрии Александровиче Завадском:
«Я знала его всю жизнь. Со времени, когда он только-только начинал, жизнь нас свела, и все время мы прошли рядом. И я грущу, тоскую о нем, мне жаль, что он ушел раньше меня. Я чувствую свою вину перед ним: ведь я так часто подшучивала над ним…»
«Паспорт человека — это его несчастье, ибо человеку всегда должно быть восемнадцать лет, а паспорт лишь напоминает, что ты не можешь жить, как восемнадцатилетний человек!»
«Страшный радикулит. Старожилы не помнят, чтобы у человека так болела жопа».
«Старость — это просто свинство. Я считаю, что это невежество бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи, уже все ушли, а я все живу. Бирман — и та умерла, а уж от нее я этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восемнадцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами, живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только начинаешь жить!»
«Чем я занимаюсь? Симулирую здоровье!»
«Ново только то, что талантливо, что талантливо, то ново». — Чехов.
Чехов писал, что Стасов опьянялся от помоев, и критики теперь на гнусные спектакли и книги пишут восторженные похвалы; только Стасов искренне пьянел, а эти хитрят, подличают, врут.
«Критикессы — амазонки в климаксе».
«Вообще я не умею и не люблю давать интервью. У меня всегда ощущение, что корреспонденты задают мне вопросы такого типа: скажите, товарищ Раневская, сколько будет дважды два? И хочется ответить: будет пять. Я же Раневская, и корреспонденты, я думаю, ждут от меня какой-нибудь хохмы».
«Я убила в себе червя тщеславия в одно мгновение, когда подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения, и тут же успокоилась. Но когда ругнут — чуть ли не плачу, а похвалят — рада, но не больше, чем вкусному пирожному, не больше».
«Когда слышу о том, что люди бросают страну, где родились, всегда думаю: как это можно, когда здесь родился Толстой, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Чехов, когда здесь жили писатели, поэты как Тютчев, Блок и те другие, каких нет нигде. Когда здесь свои березы, свои тополя, свое небо. Как это можно бросить? 79 г.».
«Жизнь моя…
Прожила около, все не удавалось.
Как рыжий у ковра».
Фаина Георгиевна была для меня в детстве добрым волшебником, открывающим любые двери.
Потом она стала для меня драгоценным и незащищенным близким человеком, но никогда я не испытывал страха от размеров ее известности и величия; все это было результатом ее доброго ко мне отношения. Если человек ей был неприятен, ее глаз не было видно, она отворачивалась от собеседника, симулировала внезапную занятость. Надолго этой роли не хватало, и тогда возникали ее грозные, прямо смотрящие глаза, вызывающие холод внутри.
Случалось и мне попадать под этот мороз: тогда вместе с вежливыми и любезными словами существовали ее далекие и искусственно неживые глаза.
Самые дорогие — смеющиеся глаза Фаины Георгиевны, влажные от хохота и слез, закрытые, уставшие от смеха, — она слегка покачивалась, держась за чью-нибудь руку, а потом открывала глаза, и в них был восторг, счастье и печальная глубина.
Наверное, точнее, чем Неелова, не сказать о ее глазах на Южинском: «Глаза мудрого ребенка, теплые и чуть-чуть ироничные, грустные и улыбающиеся… и вдруг озаренные каким-то воспоминанием или внезапно пришедшей в голову шуткой…»
Я помню, как она просила: «Расскажи, расскажи о Тарханах» — глаза были умоляющие: вдруг что-то не узнает о Лермонтове. Я рассказывал, как мы ехали два часа от Пензы, о лермонтовской усадьбе, аллеях, где он гулял. «А пруд? — все смотрела, спрашивала Фуфа. — Их дом?» Глаза были печальные и радостные одновременно. А потом — загрустила о нем, даже отвернулась чуть-чуть.
Одежда Раневской менялась, но не была предметом особых забот. Пожалуй, только платки на шею и шарфы интересовали ее больше. Светлых, ярких тонов в ее одежде я почти не застал, хотя они были — в Кисловодске, в Одессе, — она вспоминала о своих скромных ситцевых платьях, не понятых одесситами.
Был темно-зеленый замшевый жакет с высокими плечами, в котором она на Тимошином портрете, потом был короткий период клетчатого мужского пиджака — на Старопименовском, темно-синий официальный костюм для кремлевских наград, мой любимый шелковый в фиолетовую с белой полоской шарф, после войны — широкополая шляпа, в которой Раневская была в Тбилиси в гостях у Толбухина.
Новый год на Хорошевке Фуфа встречала в светлой блузке с отложным воротником или в светлом жакете с короткими рукавами. Как-то бабушка надела ее новый пиджак — в шутку, да так и встречала Новый год. Это был какой-то нелюбимый Раневской строгий светло-серый костюм в едва заметную полоску.
Зимние прогулки Фаина Георгиевна совершала в сером пальто с бело-серым меховым воротником, в шапке-ушанке чуть набок или в невысокой папахе и теплых мужских сапогах на молнии. Зимой всегда надевала кожаные теплые перчатки и рукавицы в мороз — холод ненавидела.
Запомнились два кольца на ее пальцах — широкое из металла с кружочком вместо камня, а раньше был еще перстень с печаткой из зеленого темного камня — открытая ладонь. Ее руки были с необыкновенной нежной, гладкой кожей, с тщательно ухоженными ногтями, без лака. Красивые руки.
На Котельнической и Южинском я помню ее темный широкий жакет, белая блуза с отложным воротником, креповый костюм; рукава жакета с отворотами, чаще — лиловая блузка, темный шелковый шарф в цветочек, завязанный под горло, черные туфли на широком невысоком каблуке.
Был домашний черный шелковый халат — летом и толстый лиловый — зимой.
После войны, когда была худая, после операции, носила темное кабато — короткое полупальто, но отдала его своей Лиле.
Раневская любила шляпы — была даже черная кожаная шляпная коробка из Вены, она теперь у нас. Шляпы были разные: фетровые и из соломки, широкополые и без полей, с цветами или лентами.
Причесывалась Фаина Георгиевна левой рукой. Волосы уже на Котельнической были седые, очень красивого платинового оттенка, иногда голубоватого. Укладывала их Раневская высокой волной назад, специальной гребенкой и щеткой для волос, слегка увлажняла.
Помню ее черные шпильки — толстые большие и маленькие тонкие. Она любила большую блестящую английскую булавку-заколку для одежды, нарочито большую, очень удобную.
На Южинском в последнее время Фуфа питалась в основном кефиром и хлебом. Когда у нее не было домработницы, друзья и соседи постоянно приносили ей батон хлеба и бутылку кефира. Фаина Георгиевна протягивала пять рублей и говорила: «С-сддачи не надо». Это было очень много. Когда же была домработница, дешевле не становилось. Как-то Фаина Георгиевна кормила при нас Мальчика кусочками сырого мяса — голубила так своего любимого. Таня спросила, где ей достают эти полуфабрикаты. Фаина Георгиевна рассказала, что домработница предъявила ей недавно порцию бефстроганов и счет на сто рублей. Непомерную сумму домработница объяснила тем, что по всей Москве искала мясо для Мальчика… на такси.
А еще Раневская любила фисташки. Тогда у нас не продавались на каждом шагу эти чудесные пакетики с солеными жареными орешками в раскрытых скорлупках, готовых к употреблению. Фуфа сама жарила орехи с солью, но все равно не все скорлупки раскрывались. Фаина Георгиевна с ненавистью называла их «целками». Раскрытые же экземпляры она поощрительно называла на «б». Иногда друзья привозили ей жареные каштаны, которые она тоже обожала. Соленые, вкусные, похожие на сладкую картошку жареные каштаны, казалось, примиряли ее с действительностью, пусть ненадолго.
Ела Фуфа необыкновенно аппетитно. Всегда жарила ломтики белого хлеба на огне газовой плиты, насаживая их на вилку. Когда кусочки подрумянивались и слегка поджаривались, она быстро намазывала их маслом, чтобы горячий хлеб пропитался. Получалось так вкусно — никакой тостер не мог сравниться с ее способом! Любила она сыр, яйца, кофе со сливками, но в последние годы все чаще говорила: «Ешь, ешь, мне ведь нельзя…» Все это «елисеевское» богатство — можжевеловый джин, буженина, ветчина — лежало в ее холодильнике больше для гостей. Выпивать больше одной рюмки она мне не разрешала, вспоминая моего покойного отца: «У тебя плохая наследственность».
К биографии предлагаемых ей кур Раневская была небезразлична. Как-то в ресторане ей подали цыпленка-табака. Фаина Георгиевна отодвинула тарелку: «Не буду есть: У него такой вид, как будто его сейчас будут любить».
Однажды домработница сварила курицу вместе с требухой. Есть было нельзя, курицу надо было выбросить. Фуфа расстроилась: «Но ведь для чего-то она родилась!»
Иногда осторожно ела жареную курицу венгерского или французского происхождения. Как-то я застал у Фаины Георгиевны Ию Саввину, только что закончившую приготовление жаренной в сметане курицы. Это было очень красивое румяное произведение. «Обязательно съешьте, дорогая!» — настаивала, уходя, Ия Сергеевна. «Еврей ест курицу, когда он болен или когда курица больна», — печально констатировала Раневская.
«Давай я сделаю тебе яичницу с жареным хлебом», — часто предлагала мне Фуфа, с сочувствием глядя на анемичный острый овал моего лица. Ничего вкуснее я у нее не ел! Во всяком случае, так кажется теперь.
В одну из наших суббот я поправлял Фуфин сползший верхний матрасик на тахте. Войдя в спальню, Фуфа наблюдала за мной, остановившись посредине комнаты. Потом тихо сказала: «Тебе будут говорить, что мы были с бабушкой лесбиянки». И беззащитно добавила: «Лешка, не верь!». Не помню, что я ответил, да это и не важно. Попросила — и больше мы не говорили об этом.
Внучатая племянница Любови Орловой драматург Нонна Юрьевна Голикова сумела взять интервью у Раневской для передачи к 75-летию со дня рождения Любови Петровны. Маша — так звали Нонну Юрьевну ее друзья — пришла к Фаине Георгиевне после записи и сказала: «Все хорошо, но в одном месте нужно переписать слово „феномен“ — я проверила, — современное звучание должно быть с ударением в середине слова — „феномен“. Раневская переписала весь кусок, но дойдя до слова „феномен“, заявила в Машин микрофон: „Феномэн, феномэн и еще раз феномэн, а кто говорит „феномен“, пусть идет в жопу“.»
О своем позднем знакомстве с Раневской, о «сватовстве» пьесы Островского Театру имени Моссовета рассказывал Владимир Яковлевич Лакшин, многие годы работавший в «Новом мире» с Твардовским:
«Мы познакомились в доме Елены Сергеевны Булгаковой, наверное, в середине 60-х годов. К стыду моему, я до той поры не видел ее на сцене. Но комедийные роли ее в кино — в фильме „Пархоменко“, в чеховской „Свадьбе“, в „Весне“ — были, как у многих, у меня на памяти. Желая при первом знакомстве сказать нечто любезное, я вспомнил фильм „Подкидыш“, шедший перед войной. Реплика Раневской в этой картине — „Муля, не нервируй меня!“ — встречалась неизменным хохотом и стала бытовой поговоркой. Но едва я произнес за столом слово „Подкидыш“, как Раневская развернулась ко мне всем торсом и не слишком любезно смерила взглядом. Ее большие глаза выражали насмешливое удивление. „Только не вздумайте мне говорить об этом идиотском Муле…“ Мне пришлось прикусить язык.»
Разговор с Раневской, особенно поначалу, при далеком знакомстве, не был легок: услышит звучок не то что фальши, но просто привычной в обиходе банальности — и не пощадит. Обаятельная смелость ее речи, неожиданный юмор исключали обиходное ханжество. Не решусь сказать, чтобы в ней вовсе не было актерского и женского кокетства, но оно искупалось стремительной открытостью. Запретных тем в разговоре для нее, казалось, не существует. Она испытывала собеседника острой игрой ума, лукавой импровизацией, в том числе естественным, не грубым употреблением словечек, отсутствующих в салонном дамском лексиконе. Лишь впоследствии я догадался, что это было одним из средств преодоления природной застенчивости.
Стоило спросить ее, как она себя чувствует, и в ответ вы могли услышать: «Ужасно. Весна, а такой холод. Вы не находите, что наша планета вступила в климактерический период? Вы интересуетесь, что говорят врачи? Но хороших врачей нет. Они спрашивают, на что я жалуюсь. У меня воспаление наджопного нерва. Но жалуюсь я на директора театра. Он тринадцать лет не дает мне ролей».
Надоевшему своими расспросами собеседнику она объявляла в телефон: «Не могу больше с вам говорить, звоню из автомата…» — и тот, потрясенный, опускал трубку: неужели ему померещилось, что он сам набирал ее номер?.. […]
Прошло несколько лет после нашего знакомства, и Раневская неожиданно позвонила мне домой, прочтя изданную мной биографию драматурга Островского. Гудя в трубку низким, прокуренным голосом, она пустилась в воспоминания. Еще до революции, играя в летнем деревянном театре в Малаховке, она встретилась там на сцене с несравненной Ольгой Осиповной Садовской, ученицей великого драматурга, игрой и живоносной речью которой он восхищался. «Это в самом деле было чудо, — говорила Раневская. — И я всегда потом мечтала играть в пьесах Островского, произносить его слова, только случай выпадал редко». Раневская просила меня присоветовать Театру Моссовета какую-нибудь не слишком заигранную пьесу Островского, где нашлась бы роль и для нее. Я подумал-подумал и назвал комедию «Правда хорошо, а счастье лучше». Мне казалось, что Раневская может отлично исполнить центральную роль — властной старухи Барабошевой.
На другой же день Раневская позвонила мне в возбуждении: «Дорогой мой! Спасибо! Я ваша вечная должница. Нянька — это такая прелесть…» Какая нянька? Оказалось, ей куда больше по душе роль няньки Фелицаты — не «бенефисная», казалось бы, эпизодическая роль.
По настоянию Раневской пьесу приняли в репертуар, начали репетировать… И вскоре у меня дома появился как-то режиссер Сергей Юрский с большой банкой растворимого кофе в руках, подарком Раневской. Я смущенно отказывался, но она решительно возразила по телефону: «За удачное сватовство в Замоскворечье полагалось дарить свахе платок. Я слыхала, вы любите кофе, пусть это будет мой „платочек“ свахе».
Одновременно Раневская прислала билеты на спектакль со своим участием, как бы намекая, что мне пора основательнее познакомиться с ее искусством. Вот когда я посмотрел наконец трудно доступный даже для присяжных театралов спектакль «Дальше — тишина» с великолепным дуэтом Раневской и Р. Плятта. («Странную миссис Сэвидж» мне повезло увидеть на сцене прежде.)
Спектакль в духе старинной сентиментальной драмы, но, впрочем, вполне современный, был действительно хорош и вызвал единодушные восторги публики. Однако едва я попытался на другой день сказать это Раневской, как услышал яростное опровержение:
— Я ужасно играла вчера. Неужели вы были на этом спектакле? Какой стыд, что вы это видели! […]
«Три четверти ролей, какие я должна была играть, мною не сыграны, — говорила она. — Я была некрасива, заикалась, и режиссеры меня не любили. Они любили молодых и красивых. К тому же в молодости я была бездарна…» И на сыпавшиеся тут же возражения: «Да-да, это потом со мною случилось, что я стала кое-что понимать в искусстве. Но я еще не жила…» […]
В «Живом трупе» Раневской предложили сыграть роль матери Виктора Каренина — старухи Карениной. «Не знаю, как быть, — по обыкновению насмешливо отозвалась она. — Отказаться нельзя. Но и соглашаться опасно. Завтра вся Москва будет говорить: „Раневская сошла с ума, она играет Анну Каренину!“»
И снова переводила разговор на театр, на свою в нем судьбу: «Вы не поверите, в это трудно поверить, но ведь я стеснительна. Только когда выхожу на сцену, надеваю парик, платье чужое — становлюсь нахалкой, вроде бы это не я. А когда без всего этого — я застенчива и очень заикаюсь».
Я спрашиваю ее об Ахматовой. Обычно она охотно рассказывает о ней, к случаю. Но специально, по заказу, из нее не выдавишь ни словечка. «Зильберштейн просил написать о ней воспоминания для „Литературного наследства“. „Ведь вы, наверное, часто ее вспоминаете?“ — спросил он. Я ответила: „Ахматову я вспоминаю ежесекундно. Но писать о себе воспоминания она мне не поручала…“ А вообще не зря ее фамилия Горенко. Она была очень несчастна». Вот и весь сказ. […]
Неразделенная любовь — была темой и самой Раневской. «Все, кто меня любили, — сказала она однажды, — не нравились мне. А кого я любила — не любили меня». Так ли это было или не совсем так, я не знаю, но она воспринимала этот мир с напряжением неутоленного чувства счастья, и, может быть, оттого с такой правдой несла драму одиночества на сцене.
Нянька Фелицата в комедии «Правда хорошо, а счастье лучше» привлекла ее, похоже, тем же. Слово «счастье» в названии пьесы рифмуется с именем Фелицаты — сама не слишком счастливая, она хочет нести радость другим. […] Пока Раневская учила эту роль, она звонила мне домой едва ли не ежедневно. Восхищалась пьесой Островского и жаловалась только, что с трудом запоминает текст. Врач уверял ее, что на состоянии памяти сказалось давнее злоупотребление снотворным, многолетнее курение. «А я думаю, дело не в этом: нас приучили к одноклеточным словам, куцым мыслям, играй после этого Островского!» […]
Ей хотелось показать Фелицату как прекрасное, чистое существо. Она всех вскормила, воспитала и все же одинока в доме, которому служит. Ведь именно она, вопреки всему, устраивает счастье молодых героев — Платоши и Поликсены, а сама в этот миг как бы становится не нужна; хозяйка дает понять, что ее выгонят.
Раневской хотелось спеть в финале куплет старой песни. В юности она слышала ее в исполнении великого актера Владимира Николаевича Давыдова. Она напевала мне эту песню: «Корсетка моя, голубая строчка…» — и спрашивала неуверенно, можно ли позволить себе такую «отсебятину», если у Островского этого нет? «Я ведь полуинтеллигентная женщина, из гимназии меня выгоняли… Боюсь, вы меня не поймете… но так почему-то подходит эта песня для няньки…»
Я не стал охлаждать ее воображение ученым педантством, тем более что режиссер, ни с кем не советуясь, уже напридумал для пьесы таких «штук» и «фортелей», включая эффектное хоровое пение, что произвол Раневской на этом фоне выглядел весьма скромно.
Премьера прошла с успехом, хотя Раневская играла с огромным нервным напряжением, боялась перепутать текст. Чувствовалось, что, становясь центром спектакля, она как бы выпадает из его темпераментного, экстравагантного рисунка. Ее Островский был проще, скромнее и сердечнее.
Вершиной ее роли была последняя сцена: прощальным взглядом окинув стены и будто попрощавшись со всем, что здесь было прожито, нянька Фелицата покидала дом: это уходила из него его живая душа. Не давая пролиться слезам и мешая их с показным весельем, Раневская напевала, пританцовывая:
Корсетка моя,
Голубая строчка.
Мне мамаша говорила:
«Гуляй, моя дочка»…
Ее уход со сцены покрыли овации. Островский, подумал я, не посетовал бы на эту выдумку.
«Наутро я позвонил, чтобы поздравить Раневскую с успехом. Она сказала, что не спала ночь, ибо уверена, что провалилась. Ей не нравился спектакль, не нравились затеи режиссера, не нравилось, что слишком быстро вертится круг, меняя выгородку, но больше всего не нравилась себе она сама. „А как же овации, цветы?“ — возразил я. „Ах, публика ничего не понимает, — отмахнулась она. — Впрочем, я всегда вспоминаю слова Ахматовой: какая ужасная профессия быть актером — обречены всего бояться, от всего зависеть…“
Правда, ужасная профессия, готов был согласиться я, особенно если быть неудачником. Но вдруг подумал: а впрочем, прекрасная профессия — если… если быть Фаиной Раневской!»
Лев Федорович Лосев, директор Театра имени Моссовета, вспоминал:
«Открывая в 1981 году новый сезон, мы как обычно торжественное собрание труппы хотели начать с чествования Раневской: 27 августа ей исполнилось 85 лет. Ссылаясь на нездоровье, она заявила, что на сбор труппы не придет. Ее уговаривали, я звонил неоднократно — все напрасно. Но утром, за час до сбора труппы, позвонила сама и, оставаясь верной себе, своей манере, сказала:
„Меня в жизни так мало уговаривали, что я не могу отказать такому кавалеру, как вы. Я приеду“.
Молодые артисты преподнесли ей цветы.
Сотрудники подшефного завода торжественно вручили сувениры. Все стоя аплодировали ей. Она была растеряна, растроганна. Потом положила цветы и подарки и, опустив руки по швам, подтянувшись, вдруг громко произнесла: „Служу трудовому народу!“
Вечером мы видели это по телевидению. Раневская хотела сказать то, что сказала. Она „служила“ не чиновникам, не любила узнавать, кто в зрительном зале. Функционеров хватало в ее доме на Южинском — поглощенных умением проникать в специальные санатории, распределители, на кремлевские приемы. С ужасом услышала из своей лоджии жалобу юной номенклатурной дочки: „Меня что-то мутит — я вчера съела городскую колбасу“.»
Начальник ТВ Лапин спрашивал: «Когда же Вы, Фаина Георгиевна, засниметесь для телевидения?»
«После такого вопроса должны были бы последовать арест и расстрел», — говорила Раневская.
Позже Лапин спросил ее: «В чем я увижу вас в следующий раз?» — «В гробу», — предположила Раневская.
Еще в 1974 году в Кирове мне подарили в память окончания строительства Дворца пионеров книгу Жана Поля Сартра «Слова» — искренний рассказ автора о книгах своего детства, о своих первых философских обобщениях, о начале жизни.
В один из дней моих визитов к Фаине Георгиевне она позвонила узнать, вернулся ли я домой. Подошла Таня, меня еще не было. Раневская спросила: «Что вы делаете, Танечка?» Таня сказал, что читает «Слова» Жана Поля Сартра. «О чем книга?» — поинтересовалась Фаина Георгиевна. Пересказать эту книгу трудно, поэтому Таня рассказала один из эпизодов, где упоминается собачье кладбище.
Фаина Георгиевна попросила: «Т-танечка, вы немедленно дайте мне прочесть»… На следующий день я доставил ей «Слова». Раневская долго читала.
И вот я снова ехал от Фуфы домой. Позвонила Раневская. «Нет, еще не приехал», — отвечала Таня. «Что вы читаете?» — последовал знакомый вопрос с традиционным последующим рефреном: — «Хотя молодежь сейчас не читает ничего». И затем прозвучало незабываемое предложение: «Я рекомендую вам прочесть книгу Сартра „Слова“, но это не моя книга, я должна буду скоро ее вернуть». Фаина Георгиевна стала говорить о Мальчике, какой он замечательный. «Вы знаете, — продолжала она, — во Франции есть собачье кладбище — о нем написал Сартр, это французский писатель, на кладбище он видел женщину на могиле своей собаки.» Она говорила: «Ты лучше меня, ты бы не пережил моей смерти, а я живу». Я могу дать вам прочесть «Слова»… Тут, вернувшись, я застал их телефонный разговор. «Алеша пришел? До свидания», — сказала Фуфа и повесила трубку…
Это не был склероз. Это была грустная «игра» одинокого человека.
Фаина Георгиевна часто дарила мне свои любимые книги, они помогали мне относиться к действительности чуть-чуть иначе, по-раневски. А Фаина Георгиевна, благодаря книгам, могла тонко напомнить мне о своем желании увидеться. Вот как она это делала.
Например, она подарила мне альбом Модильяни. Когда книга была у меня и я долго не показывался, Фуфа звонила мне или Тане и сообщала, что сейчас у нее находится специалист по творчеству Модильяни и ему на время срочно нужна подаренная мне книга. Я тут же приносил. Через несколько дней Раневская звонила, обычно в плохом настроении, и говорила о моем невнимании, «серости»: «Ты забыл Модильяни, возьми его» или: «Как ты можешь жить без Модильяни?» Я спешил к ней. Это часто повторялось под разными предлогами. Сначала я не понимал, почему великий художник постоянно «мигрирует». Потом Раневская изумительно надписала книгу: «Алеше — в долготу его дней, навсегда, не на время. Фуфа…» Это было признание, после него я всегда — было мне плохо или хорошо — приходил к ней по субботам и воскресеньям.
В день своего рождения, 27 августа, Раневская устраивала большой фуршет.
В этот день в ее доме собиралось много замечательных людей: Пельтцер и Уланова, Камбурова и Саввина, Лордкипанидзе и Сухоцкая, Алигер и Терехова, Юрский и Тенякова, звонили Жаров и Гарин (она их нежно называла Мишенька и Эрасточка), из Ленинграда приезжала Елена Юнгер, из Киева — певица Тамара Калустян.
Тамара часто подгадывала свой отпуск к августу и всегда была в Москве ко дню рождения Фаины Георгиевны с домашними пирогами. Каждый раз это было множество различных по величине картонных коробочек, а пироги были точно по размеру этих коробочек. Как Тамара это делала — неизвестно.
Всех приглашали в гостиную, где на столе стояла традиционная жареная индейка, которую с детства так и не смогла забыть Фаина Георгиевна. Ее поздравляли, дарили любимые лиловые цветы, говорили самые добрые слова любви и восхищения. Раневская шутила и острила — как всегда, с огромным подтекстом.
В один из этих счастливых вечеров Фуфа вдруг решила нам спеть. Сначала про «Корсетку мою», а потом вдруг — никогда раньше я не слышал от нее — канкан: «Хоша я не испанка и даже не тальянка, но тем не менее, спою вам пение». Она раскраснелась, в эту минуту ей было хорошо. Мы тоже были счастливы и благодарны ей. Она радостно глядела на своих гостей, сидя в своем любимом кресле. Звонил телефон, еще приходили люди, новые поздравления, телеграммы…
Марина Неелова вспоминала:
«Фаина Георгиевна! Фаина Георгиевна — всегда открытая дверь — заходите — собака Мальчик, ласкательно — Маня, самое близкое существо — „если его не станет — я умру“. Мальчик, живи вечно!
Цветы в почти пустой квартире, пустой холодильник (все продукты отданы кому-нибудь — „а мне все равно ничего нельзя“), пакеты с пшеном на подоконнике — для птиц и птичек (предпочитаются воробьи), книги, книги, книги — на столе и на столике, в постели, на стуле, на диване, — книги, которые еще не раздарены и не украдены (дверь же открыта — бери, что видишь) — Томас Манн, Даррелл, Диккенс, конечно, Пушкин, книги на французском языке рядом с альбомом про собак, „Новый мир“ и газеты, очки, и на всех обрывках листков, на газетных белых полях, на коробках — записанные, зафиксированные в эту секунду пришедшие мысли или воспоминания, а иногда и несогласие с кем-то.
Сидим, говорим про Цветаеву (вернее, я задаю вопросы, а говорит Фаина Георгиевна), про Ахматову, про то, что, долго читая Цветаеву, устает, а потом „отдыхает“ на Ахматовой, что Анна Андреевна — человечнее и понятнее, что Марина Цветаева гений и всегда не здесь, даже, слушая, смотрит „насквозь“, куда-то „в свое“, что невероятно умная, своеобразна, одна такая и не как все.
А я смотрю, слушаю Фаину Георгиевну и думаю, что ей и правда восемнадцать — я старше, но глупее. После общения с ней как будто надышалась кислородом и немного кружится голова. Пересматриваю потом всю „пленку“ свидания, вспоминаю, хочу запомнить надолго, иначе смотрю на себя и окружающих. После подобных встреч очень трудно становится общаться с другими: переоценка и заниженность их — совершенно другой мозговой и сердечный уровень.
Сидит в кресле, днем — с зажженным торшером, читает, читает без конца, беспокоится о Мальчике, кормит птиц, почти ничего не ест.
Жажда и потребность любить, ждать, быть нужной.
Звонит мне утром, и я, непроснувшаяся, — басом:
— Фаина Георгиевна, можно, я вам перезвоню чуть позже?
Перезваниваю.
— Деточка, что с вашим голосом? Вы пили всю ночь?!
— Я не пью, Фаина Георгиевна.
— Спасибо.
— ?!?!?!
— Боюсь за вас, только не пейте!
— ?!?!
— Я так испугалась вашего голоса, я боюсь, что после спектакля вы идете в ресторан и гуляете!
— Фаина Георгиевна, дорогая, это невозможно, я в ресторан не хожу вообще, не люблю, и это для меня может быть только как наказание.
— Спасибо, деточка, не растрачивайте себя впустую, прошу вас.
Милая Фаина Георгиевна, нежный человек с нерастраченной любовью, вернее, с запасами ее неиссякаемыми!
— И снимайтесь реже в кино: когда мне снится кошмар — это значит, я во сне снимаюсь в кино. И вообще, сейчас все считают, что могут быть артистами только потому, что у них есть голосовые связки. Тут у меня написано чье-то изречение: „Искусство — половина святости“. Я бы сказала иначе: искусство — свято.
— Фаина Георгиевна, вы верите в бога?
— Я верю в бога, который есть в каждом человеке. Когда я совершаю хороший поступок, я думаю, это дело рук божьих.
Была у Фаины Георгиевны, провела с ней день: завтракали, обедали, говорили и даже играли: нечто вроде ее импровизации и моего подыгрыша. Пригласила ее на спектакль „Спешите делать добро“.
— Деточка, я почти не выхожу из дома, и к тому же я не могу оставить Мальчика одного: он скучает.
— Тогда можно я вам здесь все сыграю?
Господи, как же хорошо для нее играть! Сидим на кухне, она в бывшем французском халате (ему лет сто, вижу, что надет на левую сторону, но не по ошибке, а из каких-то соображений, цвет мой любимый — фиолетово-сиреневый), извиняется, что в таком „халатном“ виде, я говорю, что ей он очень идет, и тут же в ответ:
— Деточка, что мне сейчас идет, кроме гробовой доски?! А вы знаете, что он надет у меня на левую сторону?!
— Знаю.
— Откуда?
— У вас карман внутри.
— Правильно!!! — И хохочет так, будто я придумала какую-то невероятную шутку!
До чего же я счастлива, когда стою у плиты в этой ее кухне, вижу, а скорее, чувствую, как она смотрит на меня, играющую монологом весь спектакль, как потом она молчит, а я и не жду слов — мне ее слезы и молчание дороже множества похвал. Быть таким зрителем — это особый талант, это еще один особый ее дар».
Фуфа часто сидела в кресле в гостиной, перед телевизором, иногда мы пили кофе в кухне на диванчике. Дела мои были неважные, я чувствовал, что Фаине Георгиевне хватает своих неприятностей, а порадовать ее в тот год мне было нечем. Когда на очень хороших условиях мне предложили поехать на два года в Афганистан, я не знал, что делать, как сказать об этом Фуфе? Отказаться не мог — работы здесь не было. Пришел к ней: сказал, что в Москве делать нечего, что нужно ехать. Она поняла, что мне здесь плохо. «Если там тебе будет лучше — поезжай». И подарила свою фотографию еще «Хорошевского» времени с нежной надписью. И год поставила — «82-й».
Так эта фотография стояла у меня — все три с половиной года — в Кабуле.
1982–1984
Обнимаю тебя крепко. Твоя Фуфа.
Не забывай меня…
Последний спектакль — Письма — Ветрена — Прощание
Мы прилетели в Кабул 21 сентября 1982 года. Я не знал, что через месяц Фаина Георгиевна сыграет свой последний спектакль «Дальше — тишина».
Лев Федорович Лосев вспоминал:
«В театр она приходила задолго до начала спектакля — часа за два. Иногда просила, чтоб ее перед спектаклем на машине провезли по городу. В этой поездке ее сопровождал любимый пес — Мальчик. Придя в театр, ставила на свой гримировальный столик фотографии близких людей. Среди них всегда было фото Павлы Леонтьевны Вульф. Затем начинала готовиться к спектаклю. Медленно надевала театральный костюм, заглядывала в тетрадку с ролью. Гримом последние годы не пользовалась. Но обязательно — французские духи…
Анатолий Васильевич Эфрос предложил озаглавить спектакль последней репликой Гамлета — „Дальше — тишина“.
В этом спектакле Фаина Георгиевна, играя роль миссис Купер, имела огромный успех в течение тринадцати лет. В этом же спектакле ей суждено было выйти на сцену в последний раз. Было это 24 октября 1982 года.
Она любила повторять: „Мне осталось жить всего сорок пять минут. Когда же мне все-таки дадут интересную роль?“ Когда ей послали пьесу Жана Ануя „Ужин в Санлисе“, где была, как мне казалось, изящная маленькая роль старой актрисы, вскоре раздался телефонный звонок: „Дорогой мой! Представьте себе, что голодному человеку предложили монпасье. Вы меня поняли? Привет!“»
Сергей Юрский вспоминал ее слова:
«Неужели театр не заинтересован, чтобы я играла? Публика ждет. Получаю бесконечное количество писем. Они хотят меня видеть. Найдите пьесу. Неужели вам нечего мне предложить?»
Однажды еще полыхнула надежда. Прислали переводную пьесу «Смех лангусты»: последние дни жизни Сары Бернар. Действуют она и ее секретарь. Великая актриса не может передвигаться, сидит в кресле. Перебирает, перечитывает дневники, записи. Вспоминает. Пьеса сильная. С достаточным, правда, привкусом коммерции, с учетом современной моды. Но это пустяки. Главное есть хорошо написанная роль, в которой можно почти не вставать с места, не учить текста, иметь суфлера и… рассказать, пережить заново жизнь актрисы. Роль для Раневской.
Она прочла. На следующий день позвонила: «Нравится! Нравится. Боюсь только, хватит ли сил… Пьеса хорошая. Но я ведь уже написала заявление. Вы знаете, я собираюсь уходить из театра. Я давно ничего не играю». — «Вас не отпустит театр. Заявление вам вернут. А вот и роль. И сделать надо на Малой сцене. Тогда можно все осуществить без задержек. Никаких декораций. Сто двадцать зрителей — все-таки поменьше надо сил, чем на тысячу двести человек». — «Да, я подумаю. Название странное — что такое „лангуста“? Это ведь что-то вроде омара. Это животное из моря. Неужели оно смеется? Этого не может быть. Когда же лангуста смеется? Надо изменить название».
Через день по телефону: «Я не буду играть. Я видела Сару Бернар на сцене. Очень давно. Я не смею ее играть. Это… это… только нахал мог написать пьесу о великой Саре Бернар. Но я не нахалка. Не буду играть».
Почта в Кабул приходила один раз в неделю самолетом из Москвы. Как правило, все ждали писем раз в две недели — через самолет. И только письма и открытки от Фаины Георгиевны приходили без исключения — каждую неделю.
Если были на свете письма, которые без спазма в горле невозможно читать, — это ее письма, ее открытки. Каждую почту приходили они к нам, написанные таким знакомым крупным почерком, сначала спокойные, грустные, вопрошающие. Когда она поняла, что я приеду в отпуск, а потом опять улечу в Кабул, огорчилась.
В августе 1983-го мы были у нее, на месяц прилетев в Москву. Вместе учились обращаться с пневматическим японским термосом, который мы подарили ей на день рождения, примеряли новый лиловый халат. Халат не подошел, а про японский термос она благодарно и трогательно сказала: «Европа!»
Кончалось время моего отпуска, всю последнюю неделю я бывал у Фаины Георгиевны, но наступил день отлета. Я видел, знал, что делаю что-то противоестественное, и с жалостью и болью прощался с любимым человеком, который опять будет посылать отчаянные письма, открытки, полные горькой любви и ожидания. Пишу это, потому что считаю, что не имею права из-за условностей скрывать состояние Фаины Георгиевны. Обнялись, я попрощался, потом еще обнялись — мы оба могли зареветь. Она сидела и махала мне рукой. Едва заставил себя выйти из ее дома.
И опять полетели открытки от нее. До сих пор они хранятся у меня дома — это большая стопка, целая коробка — все, что написала нам Раневская.
«19 октября 1983 года Фаина Георгиевна позвонила и попросила меня прийти к ней, — вспоминал Лосев. — Спокойно, как бы размышляя, она сказала, что решила уйти из театра.
„Старость, — сказала она, — вещь страшная. Болят все мои косточки. Очень устала, очень. Восемьдесят семь лет! Я не Яблочкина, чтобы играть до ста лет. Нет, больше на сцену не выйду!“
Все это сказано было просто, буднично. Беспокоило ее, что не хватит пенсии на содержание двух работниц — одна ухаживает за собакой, другая готовит обед ей самой. Я уверил ее, что театр позаботится о ней, тем более что она обязательно будет еще играть.
„Нет, я не собираюсь никого обманывать. Это нехорошо“.»
Елена Камбурова рассказывала:
«Три года — 82-й, 83-й и 84-й мы встречали вдвоем с Фаиной Раневской…
Встреча 1982 года оказалась презабавной: до самой полуночи мы, как малые дети, с упоением рассматривали альбом собак, и каждая выбирала себе самую красивую. Трудно было остановиться на чем-то — одна лучше другой. Уже произнес поздравительную речь с экрана телевизора наш очередной правитель, уже забили куранты, а мы все никак не могли оторваться от „собачьей темы“.
В преддверии 84-го года я пришла к Фаине Георгиевне, чтобы опять встретить праздник вместе. Она лежала, чувствовала себя очень слабой. Так уж сложилось, что ни одно наше свидание, ни одна беседа не обходились без слова Пушкина. И на этот раз мы сначала вполголоса разговаривали, потом Раневская попросила почитать что-то из Пушкина… Где-то в двенадцатом часу она закрыла глаза.
И уснула…
Последний год своей жизни она встретила во сне…»
1984 год. Весна. Рассказ Сергея Юрского:
«Врачи сказали категорично — инфаркт. Раневская упрямо не хотела в больницу:
„Быть дома! С моей собакой. Никакой больницы. Я не поеду“.
Нина Станиславовна Сухоцкая организовала ночные дежурства сестер на дому, друзья и сама Сухоцкая дежурили днем. Но Раневская задаривала ночных сестер конфетами, подарками за одну услугу — уйти, оставить ее. Она не терпит беспомощности, Раневская! Она готова скорее действительно отказаться от всякой помощи, чем ощутить собственную неполноценность через хлопотание других. Прекрасная гордость великой актрисы! Прекрасная-то прекрасная, а на деле как быть? Что делать? Инфаркт у человека. И много лет этому человеку…
Раневская лежит неподвижно. Только тяжелое дыхание. И глаза… то полуприкрытые веками, тускнеющие, то вдруг остро сверкающие смесью полного понимания и юмора. И все-таки ей очень плохо. В больничной палате нависла тоска. Об этом и говорит Фаина Георгиевна. Потом долго тяжело дышит. Вдруг:
— Хотите, я спою? — Тяжелое дыхание. — Это старая песня. Я люблю ее. — Тяжелое дыхание.
Пауза. Голос. Негромкий, но полнозвучный, как на сцене, медленно, с большими остановками после каждой строчки:
„Дай мне ручку…
Каждый пальчик,
Я их все… пере-це-лу-ю…
Обниму тебя еще раз
И уйду…
И… затоскую…
Обниму тебя еще раз
И уйду…“
Слезы медленно поползли по ее щекам. Глаза закрыты. Губы вздрагивают:
„…И за-тос-ку-ю“…
…Глаза открылись. В них нет слез.
— Вам понравилось, как я это спела? Да, получилось. Но вы не слышали настоящего исполнения. Ах, как цыганка одна пела это! Никогда не забуду, с таким подъемом и с такой печалью… С высоко поднятой печалью. Но я тоже спела неплохо, правда? Знаете, почему? Потому что люблю этот романс. Его надо петь каждый раз, как в последний раз. Или как в первый. В этом и есть тайна исполнения».
…А болезнь прошла. Почти. Пришла другая. И снова прошла. И опять лето. В жаркое солнечное утро завтракаем у нее на кухне. Фаина Георгиевна оживлена, шутлива:
— Ешьте, вы мало едите. Вот творог. Хотите, я вас научу делать творог? Он страшно полезный. Я сама его делаю. Если бы вы знали, как он мне надоел. Не ешьте творог, ешьте нормальную пищу. Погладьте моего Мальчика, видите, как он смотрит на вас. Не смей так смотреть! Иди ко мне! Вот тебе, ты любишь это… не ест! Какая наглость!.. Ну, ляг здесь, мой хороший… Вы знаете, как он переживал, когда я болела! Он так страдал за меня! Ночью я упала и не могла подняться. И некого позвать… надо терпеть до утра… а он пришел, стоит рядом и страдает… Я люблю его… у меня ведь нет детей… его подобрали на улице… избитого, с переломанной лапой… Он понимает, что я спасла его… А если я умру, что с ним будет? Он пропадет. Он понимает это и поэтому желает мне здоровья. Нет… нет, нет… он просто меня любит… как я его… Хотите я расскажу вам о Давыдове? О Павле Леонтьевне Вульф… Вы ешьте, ешьте, это хороший сыр… мне его достали… давайте выпьем кофе… да… о чем я хотела рассказать? Вы знаете, я странная старая актриса. Я не помню моих воспоминаний.
Оставалось десять дней до августа 1984 года, последняя открытка от Нины Станиславовны Сухоцкой пришла две недели назад. Мы начали собираться в отпуск.
Я читал письма Фуфы:
10.11.82
«Лесик дорогой, спасибо тебе за письмецо. Ты не представляешь, как я по тебе тоскую, как скучаю, как одиноко мне без моего мальчика, особенно по субботам, когда ты меня обычно навещал. Рада за тебя, судя по твоим писулькам (я их получила уже две), тебе все нравится…
У меня все в порядке в смысле здоровья, т. е. как полагается в мои годы! Обнимаю тебя крепко. Твоя Фуфа. Не забывай меня».
16.1.83
«Мальчик мой дорогой!
Спасибо за весточку, перечитываю твое коротенькое, дорогое письмо с радостью. Спасибо, что не забыл старую Фуфу…
Ты спрашиваешь, где и как встречала Новый Год. Отвечу: в моей кровати с Пушкиным!..
Перечитываю твое письмо, Кундиль мой ненаглядный, спасибо, мой родной. У меня одна фраза рвется с языка „тоскую“. Скучаю по тебе неистово…»
29.01.83
«Мой Масик дорогой, снова пишу, когда пишу, мне кажется, что говорю с тобой, солнышко мое далекое. Моя псинка шлет тебе привет, он — подлец, несмотря на солидный возраст, страдает от отсутствия барышни с хвостиком. Он шлет вам обоим привет и самые добрые пожелания, так же как и я. Напиши, мой родной, послать ли тебе полного Пушкина, 3 тома, небольшое, хорошее издание. Я и по сей день его перечитываю, даже то, что наизусть знаю…
Когда меня спрашивают о моем самочувствии, я всегда говорю — „годы и погоды“. У нас январь со слякотью, такой январь оказался на этот раз сопливый, но я не кисну и не хвораю. Обо мне не беспокойся. Я крепкая старушка…»
5.04.83
«Кундиль ненаглядный, сейчас получила от вас авиа. Счастлива, спасибо. Не писала, болела гриппом, сейчас здорова и счастлива от твоего письма. Погода ваша меня огорчила, у нашей планеты явный климакс, поскольку планета — дама!.. Напиши, могу ли я послать тебе посылочку черной икры? Так хочется тебя порадовать, мой родной мальчик…»
29.05.83
«…У меня отпуск, театр уезжает на гастроли в Сибирь, я пока дома, отпуск пробуду, наверное, у себя в квартире, в санаторий с псинкой не возьмут, а оставить его страдать я не могу. Мои милые, не оставляйте меня надолго без весточки…»
3.07.83
«Кундиль ненаглядный, нестерпимо тошно без тебя на белом свете в Москве. Считаю дни до нашей встречи, их еще много, этих дней. Я писала, что театр на гастролях, в Москве остался больной Плятт, ему уже лучше. Очень беспокоюсь о нем, я его люблю…
…У меня радость — Плятта выпустили из больницы, где он долго лежал с язвой желудка, звонил мне по телефону, жаловался на диету строгую, любит пожрать! У меня все в порядке, только нестерпимо скучаю по моему Кундилю. Обнимаю. Фуфа».
13.10.83
«Лесик мой родной, дорогой, очень по тебе тоскую, скучно. Видела тебя мало в твой приезд в Москву. Теперь опять долгая разлука, но надо терпеть… О себе говорить нет смысла — „старость не радость“, чувствую усталость — 87! Собираюсь расстаться с театром — стало трудно, но приходится терпеть. Обстоятельства таковы…
Чтобы ты меня не забыл, посылаю мою старую харю! Хотелось написать другое слово, поскольку мне привычны резкие выражения! Все больше и больше по тебе тоскую. Все думаю, вспоминая, с какой любовью маленького носила на руках, с годами любовь стала расти и превратилась в огромную привязанность. Ведь ты у меня теперь один любимый, есть у тебя соперник, но он с хвостом и лаем…»
30.10.83, от Н. С. Сухоцкой:
«Милый Алеша… Состояние Фуфы примерно такое же, как перед твоим отъездом. Болит радикулит, слабенькая, но иногда „взбрыкивает“ и бывает оживлена с милыми ей людьми…»
11.11.83, от Н. С. Сухоцкой:
«…наша Фуфа сейчас в больнице… Она почувствовала себя плохо 6-го, — болело все время сердце…
Она никак не позволяла вызвать врача, но 9-го, видя, как ей плохо, я, скрыв от нее, вызвала „скорую“ и после четырех часов уговоров мы отвезли ее в больницу. Оказался инфаркт…»
6.12.83, от Н. С. Сухоцкой:
«Алешенька, вчера была у Фаины в больнице и читала ей твое письмо. Как она радуется твоим весточкам!
Я поняла, что ты еще не получил мои письма… и ничего не знаешь о болезни Фуфы. К сожалению, она еще очень слаба и ни читать, ни писать пока не может…
Что вам о ней сказать? Сердце, по словам врача, зарубцовывается медленно, но верно. Честно скажу, меня меньше тревожат ее сердечные дела и гораздо больше пугает апатия, депрессия, сильная слабость. Очень плохо она ест — полное отвращение к пище. Надеюсь, твои орешки она все же будет грызть с удовольствием…»
13.12.83, от Н. С. Сухоцкой:
«Милые Алеша и Таня, могу вас порадовать! Уже можете писать Фаине домой и даже ждать от нее ответа. Первые дни дома были очень тяжелые, но теперь наступил перелом к выздоровлению: уже много сидит и даже немножко ходит, а главное — начала есть. Дело идет на поправку. Сейчас иду к ней и оставлю место в этой открытке для нее…»
«Лесик мой любимый, я была очень больна, сейчас мне лучше, спешу тебе сказать, что я крепко и нежно люблю тебя и рада тебе, ты мой праздник, — ты мой дорогой, мальчинька, обожаю тебя. Твоя Фуфа».
29.03.84, от Н. С. Сухоцкой:
«Милый Алеша… вот что произошло и происходит, говоря коротко, без деталей: 17 марта мне пришлось вызвать „скорую“, т. к. было Фаине очень плохо. „Скорая“ немедленно в 8 ч. утра увезла ее в больницу в Кунцево. С 17-го до 27-го она находилась там в реанимационном блоке… У нее оказалась пневмония (воспалит. процесс в легком) на фоне очаговой дистрофии в области сердца. Положение было серьезное. Состояние ее определяли как тяжелое. К 27 марта удалось ликвидировать процесс в легком и наладить более или менее сердечную деятельность. Ее перевели в отдельную палату, в отделение интенсивной кардиологии, где она уже лежала с инфарктом…
Что сказать тебе о ней? Она очень слабенькая, еще сильно кашляет, пока не садится, обрадовалась мне несказанно, как и твоему письму. Хотя пока еще состояние ее довольно тяжелое, но все же ей, конечно, лучше, и я очень надеюсь, что общими усилиями медиков она из этой беды выкарабкается. Спрашивала меня — когда ты приедешь. Я сказала — летом. „А потом он не уедет опять?“ Я сказала: „Конечно, нет!“ Она была этому очень рада.
Ничего не ест. С огромными усилиями влили ей в рот яйцо и заставила съесть апельсин (за весь день!). Сегодня звонила врачу — неужели они способны только ужасаться ее „голодовке“ и не способны найти медицинские средства для возбуждения аппетита?..»
3.04.84, от Н. С. Сухоцкой:
«…Пневмония прошла, и вчера ей позволили ненадолго встать с постели. Но ночью было очень плохо. Увезли опять в реанимацию. Сегодня ей лучше. Подозревают опять повторный (третий!) инфаркт…»
14.04.84, от Н. С. Сухоцкой:
«…Фаина немного поднимается и с поддержкой ходит 1–2 мин. Смотрели ее три профессора, сказали: „Состояние тяжелое. Будем лечить…“ Огорчает, что почти не ест, оч. слабенькая и стала такая добрая и кроткая, что хочется плакать, общаясь с ней…»
11.5.84, от Н. С. Сухоцкой:
«Милые Алеша и Таня, давно не писала вам, очень замоталась с Фаиной. Она выписалась 2 1/2 недели назад…
Фаине лучше, стала хорошо есть и немного при поддержке ходить. Здоровье ее медленно, но улучшается…»
14.05.84, (последнее письмо Фаины Георгиевны):
«Мой родной мальчик, наконец-то собралась писать тебе, с моей к тебе нежной и крепкой любовью. Мне долго нездоровилось, но сейчас со здоровьем стало лучше. Очень по тебе тоскую, мечтаю скорей увидеть и обнять тебя, мой дорогой мальчик. Крепко и нежно обнимаю тебя и Танечку, Нина Станиславовна сейчас у меня, просит передать тебе и Танечке нежный привет. Обнимаю. Твоя Фуфа».
Марина Неелова вспоминала:
«На днях звонок: „Можете навестить ее в четверг…“ Ей ничего нельзя — диабет. Еду на рынок, покупаю малину, яблоки, абрикосы, апельсины и ромашки — почему-то сегодня хотелось не розы, а ромашки — что-то простое. Еду страшась: вдруг сегодня действительно не узнает, вдруг нельзя будет видеть — устает очень быстро.
Вхожу в палату. Справа — Фаина Георгиевна.
— А это Мариночка, Неёлочка… Вы знаете, ведь был такой момент, когда могли работать вместе… Вы меня вспоминаете?
— Нет, Фаина Георгиевна, помню всегда.
Пожатие, как ни странно в таком состоянии и положении, крепкое. Стою, глажу ее руку, а другая в рукопожатии неотпускаемом. Иногда в середине фразы будто впадает в забытье, кажется, что, устав, заснула, но вдруг — сразу, без „просыпания“ — продолжает разговор.
— Что у вас в театре?
— „Вирджиния Вульф“.
— Как хорошо, что где-то репетируются хорошие пьесы… Деточка, почему вы все время стоите на ногах, вы же устанете, сядьте. — Но руку не отпускает.
— Нет, спасибо, мне и так хорошо.
Собирается консилиум, решают делать операцию. Оторвался тромб. Фаина Георгиевна: „Нет, не хочу“.
— Это чтобы вы быстрее встали на ноги и не хромали.
— А вы что, думаете, я собираюсь играть „Даму с камелиями“? Нет, не собираюсь… Я вас, деточка, люблю, вы это знаете?
— Знаю.
Просим что-нибудь съесть. Не хочет.
— Фаина Георгиевна, это просто хулиганство с вашей стороны, что вы ничего не едите.
— Вот уж не думала, что меня перед самой смертью обвинят в хулиганстве. — Смеется.
Заставляем съесть три ягоды. Говорит вдруг: — Вкусно. А чем бы угостить моих девочек?.. Деточка. Поезжайте ко мне домой и возьмите книги, которые вы хотите…»
Нина Станиславовна говорила мне и Тане:
«Она ждала вас — держалась, был смысл жить. Ждала, говорила: „Их самолет, они летят, скоро, скоро будут… Скоро“.»
Марина Неелова:
«Врачи просят не утомлять. Сидим в коридоре. „Ну не надо плакать, все будет хорошо“, — говорит мне медсестра.
Что хорошо?! Тромб оторвался, и страшные боли.
Мне пора ехать на спектакль. Иду прощаться. Целую руки, лоб, щеку.
— Благослови вас господь, деточка, будьте счастливы!»
20 июля в Кабуле раздался телефонный звонок из Москвы: Фаина Георгиевна умерла…
Она иногда спрашивала: «Будешь реветь, когда меня не будет?»
Чувство огромной вины не оставляет меня. Рассказать все, что помню о ней, — мой долг перед ее памятью. Хотя весь долг уже не вернуть…
На камне у могилы Раневской на Донском кладбище год назад кто-то прикрепил чугунную собаку, положившую на лапы свою голову.
Талант жить у Раневской так же мучительно не похож на все, как и ее гениальный дар перевоплощения. Был, был…
И все-таки ее любимые Пушкин, Ахматова, все дорогие и близкие ей, раньше и позже нее ушедшие люди, может быть, их тени придут на Донское — онегинская скамейка перед скошенным камнем Фаины Георгиевны не останется пустой?..
Как я уже писал в предисловии к этой книге, основными источниками для нее были мои личные воспоминания и неопубликованные архивные материалы.
Из использованных здесь печатных текстов считаю своим приятным долгом отметить следующие публикации:
1. Фаина Раневская — Воспоминания об Абдулове. В книге «Осип Наумович Абдулов». Сборник воспоминаний. «Искусство», Москва, 1963.
2. Фаина Раневская — Воспоминания о Ромме «Мой режиссер Ромм». Сборник воспоминаний. «Искусство», Москва, 1993.
3. Фаина Раневская — «Разговор с собой». Публикация Ю. Данилина. Журнал «Юность», 1996, №№ 8, 9.
4. Павла Вульф — «В старом и новом театре», ВТО, Москва, 1962.
5. Татьяна Тэсс — «Вы тоже ее знаете». Журнал «Дружба народов», 1981, № 4.
6. «О Раневской» — сборник воспоминаний. «Искусство», Москва, 1988.
7. В. Я. Лакшин — «Раневская на сцене и дома». Москва, «Советский писатель», 1989.
8. Е. Габрилович — «Клочки в больнице» и журнал «Экран сцена», 1991, № 27.
9. И. С. Саввина — «Статьи разных лет», Минск «Ард-фильм», «Алфавит», 1996.


Мать Ф. Г. Раневской – урождённая Валова, отец Гирши Фельдман
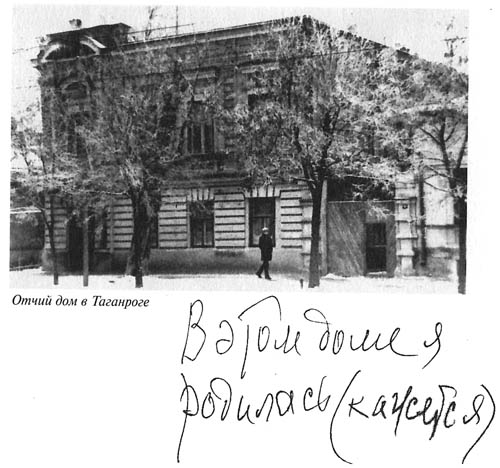


(слева) Старшая сестра Бэлла. (справа) Ирина Вульф. Начало 20-х годов

Павла Леонтьевна Вульф. После смерти Павля Леонтьевны Раневская написала на обороте этой фотографии: «Родная моя, родная, ты же вся моя жизнь. Как же мне тяжко без тебя, что же мне делать? Дни и ночи я думаю о тебе и не понимаю как это я не умру от горя, что же мне делать теперь одной, без тебя?»


Валентин Щеглов, Ирина Вульф, Константин Токаржевич

Алексей Щеглов, Люда Пирогова, Фаина Раневская, Наташа Защепина. Москва, Хорошевка, 1952 год

Юрий Завадский, Николай Мордвинов, Фаина Раневская, Алексей Щеглов, Маша Марецкая, Вера Марецкая на перроне вокзала в Риге, 1951 год

Румыния, 1957 год. На обороте фотографии Раневская написала: «Я обнимаю мою старенькую мать, рядом брат и племяша 57 г. В Румынии».

Старшая сестра Раневской – Изабелла Георгиевна Аллен



Фаина Раневская. Баку, 20-е годы


Жизнь в кино

«Подкидыш» – 1940 год

«Пархоменко», 1938 г. «Иван Грозный» (проба) 1942 г. «Мечта», 1941 г.

«Свадьба», 1944 г. «Драма», 1950 г.
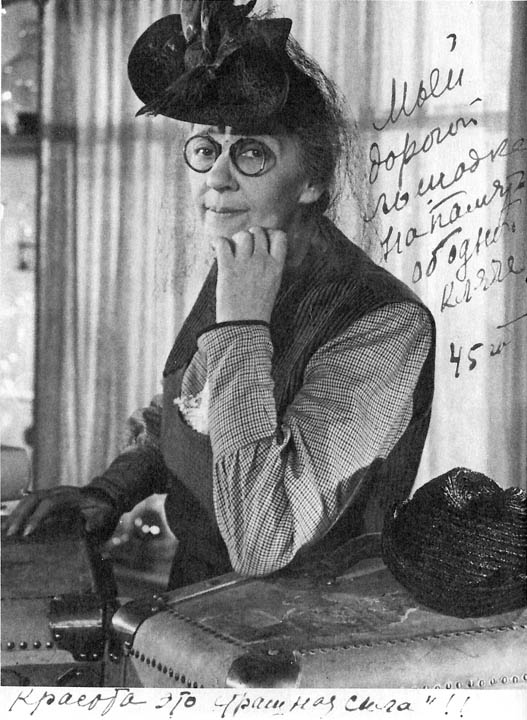
Раневская подарила эту фотографию с дарственной надписью Н. Сухоцкой

«Золушка», 1947 г. «Легкая жизнь», 1964 г. «Слон и веревочка», 1964 г. «У них есть Родина», 1949 г.
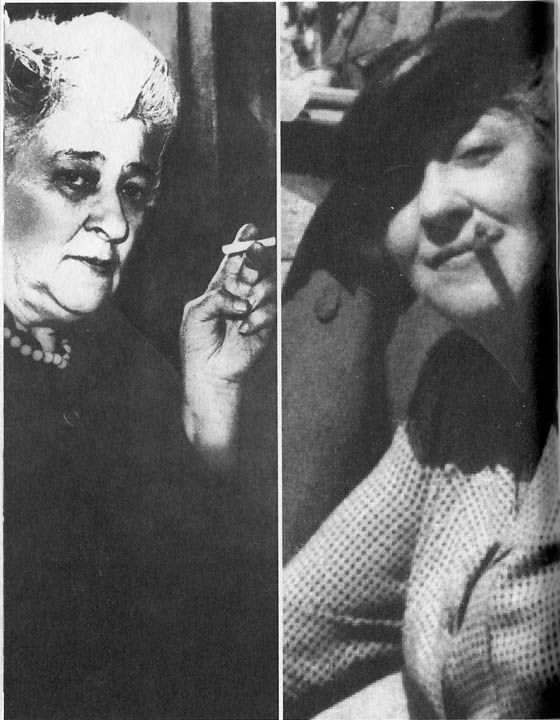
Фаина Раневская. 50-е годы

Шаржи С. Эйзенштейна и И. Игина

«Дальше – тишина»

Тетральные роли разных лет
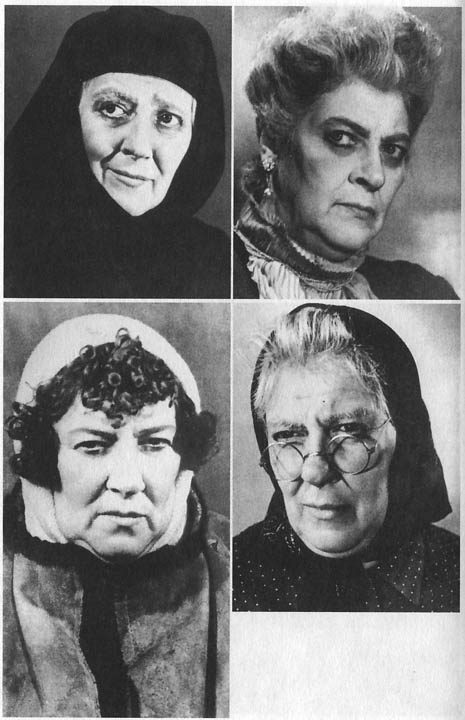

После спектакля, 1976 год

Южинский переулок, у себя в гостиной