Книга: От Бисмарка к Гитлеру
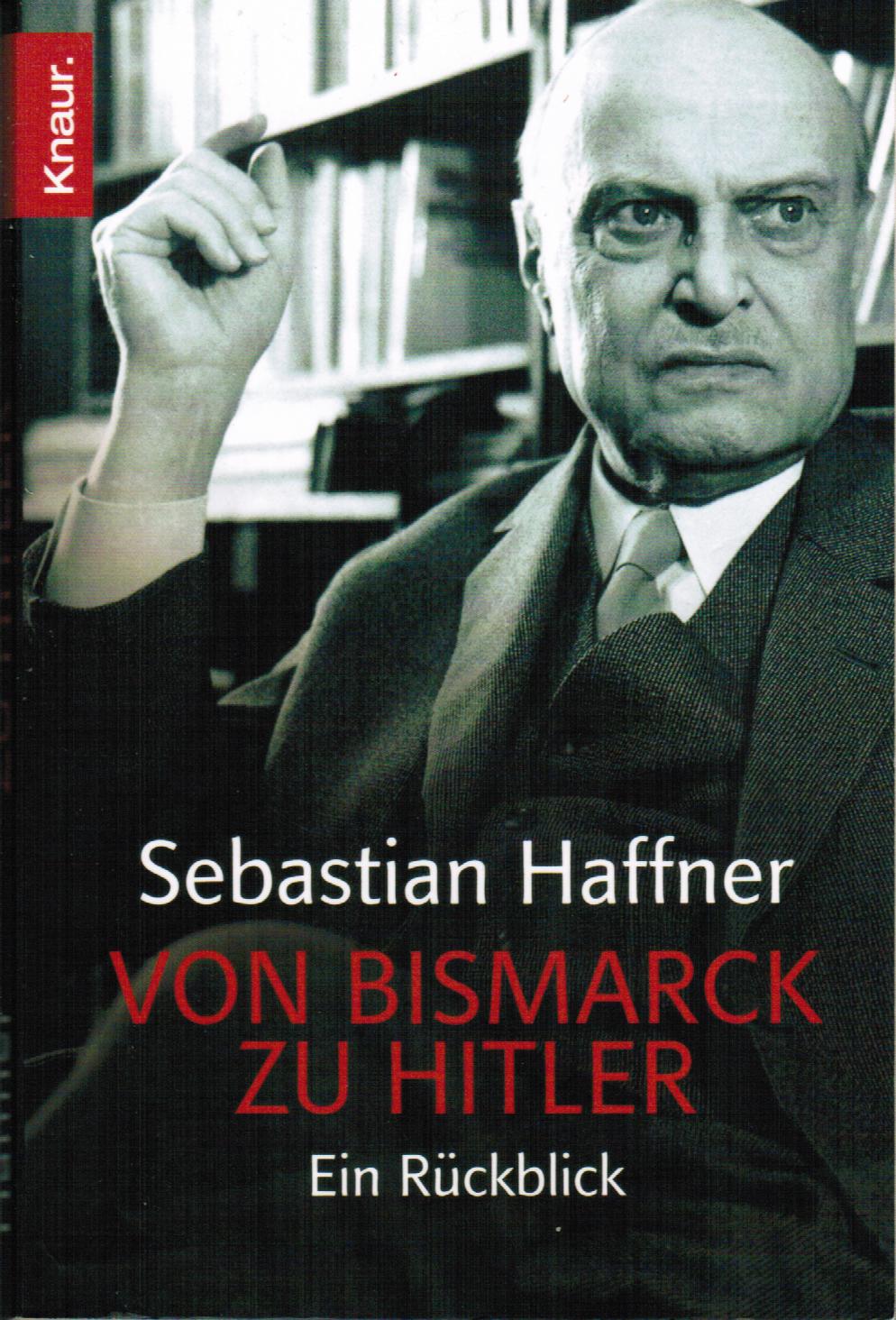
От Бисмарка к Гитлеру
Ретроспективный обзор
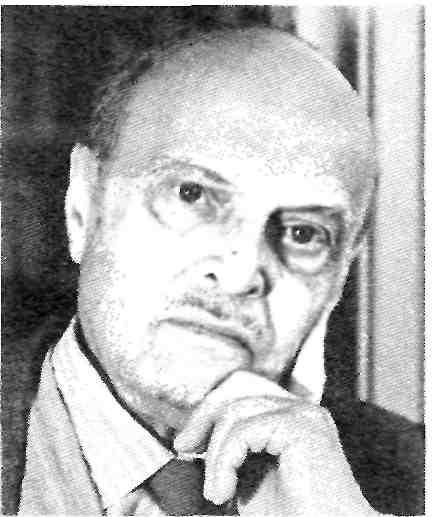
Себастьян Хаффнер, родившийся в 1907 году в Берлине, умерший в 1999 году, в 1938 эмигрировал в Англию и работал там журналистом. В 1954 году он вернулся в Германию в качестве иностранного корреспондента газеты «Observer», затем с 1961 года был политическим комментатором, сначала для «Die Welt», позже для «Stern». Себастьян Хаффнер является автором нескольких исторических бестселлеров и считается одним из самых значительных исследователей немецкой послевоенной истории.
Если рассматривать историю Германского Рейха как бы через подзорную трубу, то при этом тотчас же бросаются в глаза три странности. Первая из них — это короткий срок жизни этого рейха. В качестве дееспособного образования он существовал только 74 года: с 1871 до 1945. Если быть великодушным и прибавить период существования его предварительной стадии — Северогерманского Союза, а позже — недолгое время, когда четыре державы-победительницы во Второй мировой войне еще хотели управлять Германией как единым пространством, то и тогда получается в целом лишь 80 или 81 год, с 1867 по 1948 год — продолжительность одной человеческой жизни. Для срока жизни государства это неслыханно мало. Собственно говоря, я не могу назвать никакого другого государства, которое существовало столь короткое время. Вторая бросающаяся в глаза особенность — это то, что во время этой очень короткой жизни Германский Рейх по меньшей мере дважды, в 1918 и в 1933 году (но в сущности трижды — а именно еще и в 1890 году) полностью изменил свой внутренний характер и направление своей внешней политики. Таким образом, в течение этих 80 лет было четыре периода, которые совершенно отчетливо различаются друг от друга и во время которых, если хотите, Германия каждый раз становилась другой Германией.
И в заключение третья необычность состоит в том, что эта столь короткая история началась с трёх войн и закончилась двумя ужасными войнами, из которых вторая в большей или в меньшей степени являлась порождением первой. Таким образом, история Германского Рейха является почти только лишь историей войн, и можно попробовать назвать Германский Рейх — Военным Рейхом.
Естественно, возникает вопрос: чем всё это объясняется? Разве были немцы воинственнее, чем другие народы? Я бы так не сказал. Если рассматривать их историю в целом, то есть на протяжении несколько больше тысячи лет, то войн у них собственно вплоть до периода Бисмарка было очень мало, и практически не было агрессивных войн. С начала Нового Времени Германия находилась в середине Европы как в некотором роде большая, разнообразная буферная зона, в которой часто действовали другие, и в которой также происходили большие внутренние столкновения: Шмалькальденская[1] война, Тридцатилетняя война, Семилетняя война… Однако эти внутренние распри не воздействовали агрессивно на внешнее окружение, как это во всяком случае в нашем веке дважды делал Германский Рейх и от чего он ушел в небытие.
От чего же он собственно погиб? Почему он стал агрессивным государством, что не предусматривалось его основателем Бисмарком? На этот счет существуют различные теории. Я не нахожу их все очень убедительными.
Одна из них всё сваливает на Пруссию. Ведь был же Германский Рейх основан Пруссией. И подразумевалось, во всяком случае его основателем, что это будет полностью своего рода «Великопруссия», как господство Пруссии в Германии. Причём же одновременно также произошёл первый германский раздел: Австрия была вытолкнута из Германии. Так что во всём виновата Пруссия? Пошло ли бы всё лучше, если бы в 1848 году Германия во франкфуртской Паульскирхе[2] была основана на демократической основе?
Как ни странно — нет. Парламент в Паульскирхе ни в коем случае не был настроен мирно во внешней политике — хотя многие верят в это. В действительности в Паульскирхе даже планировали сразу несколько войн: левые — большую войну против России для освобождения Польши; центристы и «правые» в Паульскирхе войну против Дании за Шлезвиг-Гольштейн, которая также некоторое время велась в 1848 году Пруссией и затем была прервана. Более того, есть множество высказываний авторитетных политиков из Паульскирхе, либеральных демократов, кто совершенно открыто говорил: самое важное, чего мы добиваемся для Германии — это власть. «Немецкая нация сыта принципами и доктринами, литературным величием и теоретическим бытиём. Чего она требует — это власти, власти и власти! И кто даст ей власть — тому она даст почёт, более почёта, чем он может помыслить». Это слова Юлиуса Фрёбельса, в настоящее время забытого, но в то время выдающегося пангерманского политика из Паульскирхе. Желание выйти из состояния пассивного существования, которое немцы вели много сотен лет в середине Европы, было очень выражено во всей Паульскирхе. Они хотели, наконец, вести политику силы и экспансии, как это уже давно делали другие державы Европы. При самом Бисмарке такие желания были гораздо менее сильны: Бисмарк после 1871 года всегда говорил о Германском Рейхе как о «насыщенном» государстве. И в этом было так много верного: Пруссия была в этом рейхе насыщена и более чем насыщена. Возможно, она даже несколько переросла сверх своих естественных границ влияния — в направлении Южной Германии. Лишь после Бисмарка Германия проявилась как вовсе не насыщенная — и именно в той мере, в какой она всё менее становилась Великопруссией и всё более — национальным государством. Так что нельзя объяснять вину Германского Рейха виной Пруссии, если уж хочется говорить о вине. Наоборот: Пруссия действовала, пока это было обеспечено её господством в Германском Рейхе — в качестве тормоза, а не мотора.
Так что существует множество объяснений для экспансионизма и крушения Германского Рейха. Вот, к примеру, теория, что главную причину следует искать в индустриализации, в том, что Рейх в очень короткое время превратился в ведущую экономическую державу континента: что эта быстрая индустриализация запустила общественную динамику, которая в конце концов и привела к взрыву. Против таких рассуждений говорит тот факт, что индустриализация ведь вовсе не была особенным немецким процессом. Индустриальная революция в девятнадцатом веке последовательно охватывала весь европейский континент. Франция, а также малые западноевропейские державы — Голландия, Бельгия — вступили в неё даже несколько раньше Германии. Затем наступила очередь Германии; Австрии несколько позже, России ещё позже. Это был общеевропейский процесс. Несомненно, что Германия индустриализировалась особенно сильно и особенно хорошо, но в общем и в целом в темпе, сходном с остальной Европой. Так что если индустриализация была повинна в том, что Германский Рейх развил свою зловещую динамику и экспансию, то в таком случае возникает вопрос: почему именно Германия? Не пытается ли некое направление современной истории свести экономику и политику ближе, чем они в действительности находятся по отношению к друг другу? Некоторые модели объяснения примечательны именно тем, что они исходят из определенной политико-идеологической точки зрения и собственно говоря, придуманы, чтобы обосновать эту точку зрения. Когда например вместе с Лениным считают, что империализм является высшей формой капитализма, то в этом случае естественно капитализм должен быть виноват в том, что Германский Рейх стал империалистическим и по этой причине в конце концов разрушился.
Это никогда меня не убеждало; быть может потому, что я не марксист. Но даже когда я пытаюсь размышлять с марксистской точки зрения, то всё же бросается в глаза, что существует множество капиталистических государств, которые никогда не становились империалистическими — к примеру, в высочайшей степени капиталистическая Швейцария. Почему она не стала? Этот вопрос ведёт к совершенно другой модели объяснения, которая кажется мне гораздо более очевидной.
Швейцария — это малое государство. Малые государства и великие державы живут по различным внешнеполитическим законам жизни. Малое государство старается примкнуть к более сильному партнеру, либо стремится к нейтралитету. Оно никогда не пытается улучшить свой жребий собственной политикой силы. Однако великие державы очень близки к этому. Где они находят свободное пространство, они склоняются к тому, чтобы расшириться в этом направлении, чтобы укрепить и расширить свою силу, которая является жизненной основой их государственности. Германский Рейх — в противоположность предшествующим немецким государственным образованиям — был великой державой. Это собственно и было новым для него. Но он нашел весьма мало свободного пространства, в которое он мог продвигаться для своего расширения.
Молодой американский историк, Давид Каллео, сказал: «Германский Рейх был рожден окруженным». В этом очень много правды, поскольку с самого начала он был окружен другими великими державами. На западе он граничил с Францией и Англией, на юге и юго-востоке с Австро-Венгрией, а на востоке с огромной Российской империей.
Так что с географической точки зрения Германский Рейх был в весьма скверном положении. У него не было свободного пространства, в которое он мог продвигаться — как Англия, Франция; даже Бельгия, Голландия, Испания, Португалия могли двигаться в заморские территории, или как Россия — на восток в азиатские. С другой же стороны Рейх был вдруг теперь великой державой и потому у него тоже был инстинкт великой державы — становиться еще больше. И к тому же еще второе: Рейх некстати был большим. Он был (и это проявилось уже в войнах при его основании) явно сильнее, чем любая другая отдельная европейская великая держава. Но само собой разумеется, что он был слабее, чем коалиция нескольких великих держав или лишь даже всех тех держав, что его окружали. Как раз по этой причине он всегда должен был опасаться таких коалиций. Ведь как раз потому, что например Франция, например Австрия, например Италия и возможно даже Россия ощущали себя слабее, чем Германский Рейх, эти страны склонялись к тому, чтобы искать союзов и вступать в коалиции. И с другой стороны, поскольку они к этому склонялись, то Германский Рейх всегда пытался предотвратить образование таких коалиций, вырвать из них звено, когда он мог это сделать — а именно при необходимости с применением насилия, посредством войны. Не будем забывать: война была в те времена для всех государств ultima ratio[3], последним и самым серьёзным средством политики. Из этой ситуации получилось, что немцы — я говорю это еще раз и позже обосную это несколько более основательно — против воли основателя Рейха склонялись к тому, чтобы считать основание Рейха незавершенным делом; ни в коем случае не завершением своей национальной истории, но как трамплин для никогда точно не определявшегося расширения.
Почему собственно немецкое национальное государство, которое в 1871 году было основано в Версале, было наречено именем «Германский Рейх», а не просто «Германия»? Пожалуй, потому, что оно как раз с самого начала было больше (и в то же время меньше), чем национальное государство «Германия». Меньше: потому что ведь оно исключало многих немцев, оно было «малонемецким», национальным государством лишь постольку, поскольку было в силах Пруссии основать его, и насколько оно согласовывалось с прусским господством: немецкий Рейх Пруссии.
Но поскольку титул «Германский Рейх» скрывал это меньшее, он одновременно означал и большее: а именно европейские, наднациональные универсальные притязания средневековой Священной Римской Империи Германской Нации. «Германский Рейх»: это могло означать либо столько Германии, сколько могла владычествовать Пруссия, либо: столько Европы и столько мира, сколько могла завладеть Германия. Первое было интерпретацией Бисмарка, второе — Гитлера. Путь от Бисмарка к Гитлеру — это история Германского Рейха, и одновременно это история его падения.
Потому что в этой истории является зловещим то, что Германский Рейх почти с самого начала, казалось, стремится к своему собственному разрушению. Своим всё большим и все менее поддающимся исчислению разворачиванием силы он создавал мир врагов, о который он разбился — и между которыми в заключение он был разделен. Но с разделением как по мановению волшебной палочки эти враги перестали быть врагами. Из обоих немецких государств, которые с 1949 года заняли место рейха Бисмарка, с самого начала Федеративная Республика на западе, а ГДР на востоке больше не имели врагов. И сегодня мы живем в эпоху, в которой постепенно также растёт позитивный интерес на Востоке к дальнейшему существованию Федеративной Республики, а на западе — к существованию ГДР. Конец обоих этих уже почти сорокалетних немецких государств во всяком случае не предвидится. И как раз это позволяет нам рассматривать эпоху Германского Рейха издалека, как в подзорную трубу — что ранее не представлялось возможным.
Всегда говорят, что Германский Рейх был основан в 1870–1871 годах. Но собственно говоря, это ошибочное представление. Германский Рейх ни в коем случае не был «основан» вдруг, как гром среди ясного неба. Напротив: у него была довольно долгая, более чем двадцатилетняя история возникновения: с 1848 по 1871 год.
Происходит это из удивительно лицемерного союза между прусской политикой в Германии с одной стороны и немецким национальным движением с другой стороны. Этот союз был фальшив не только потому, что Бисмарк заложил его с некоторым перевесом в прусскую сторону, но и потому, что с самого начала это был весьма парадоксальный, невообразимый союз между совершенно противоположными силами.
Пруссия и немецкое национальное движение — и то, и другое были очень молодыми явлениями в немецкой истории. Пруссия как государство существовала лишь с 1701 года, как великая держава — с Семилетней войны 1756–1763 гг., а в качестве собственно немецкой великой державы лишь с Венского Конгресса 1815 года. До этого Пруссия всегда имела сильную направленность в сторону Польши, и в течение десяти лет, с 1796 по 1806 она была прямо-таки двунациональным, частью немецким, частью польским государством. Варшава принадлежала тогда к Пруссии.
Лишь в 1815 году Пруссия была так сказать развернута на Запад, её втолкнули в Германию. Свои польские владения она в большей части (не полностью) потеряла, но за это она приобрела весьма большое западнонемецкое приращение, рейнскую провинцию, которая правда вообще не была связана с прусской основной областью на Востоке. Так Пруссия стала географически неполноценным государством, которое должно было каким-то образом стремиться к тому, чтобы объединить свои земли, и именно в Германии. И одновременно она стала второй немецкой великой державой после Австрии. Очень редко говорят о том, что ту форму, в которой она делала немецкую политику в девятнадцатом столетии, Пруссия собственно приобрела лишь с 1815 года.
Немецкое национальное движение тоже было не намного старше: его становление приходится на эпоху Наполеона. Немецкого национального государства, и это следует уяснить, никогда не существовало до девятнадцатого века. Старая Священная Римская Империя (Германской нации) никогда не была национальным государством, а с тринадцатого века она всё больше растворялась в отдельных малых государствах. Нельзя сказать, что немцы соответствующего времени считали это чем-то особенно неестественным. Так например Виланд еще в конце восемнадцатого столетия в своем предисловии к «Истории Тридцатилетней войны» Шиллера «с достаточными основаниями утверждал, что … преимущества, которые для нас проистекают в целом из этого разделения, намного перевешивают недостатки; или более того, именно благодаря ему мы имеем возможность благодарить судьбу за то, что есть эти преимущества». Тогда не было и речи о том, что теперь Германия безусловно должна стать сплоченной силой, государством — и именно национальным государством, как Франция.
Так что и национальное движение, и Пруссия, как преобладающая немецкая великая держава, впервые вступили в немецкую историю лишь к началу девятнадцатого столетия. И в то время ни в коем случае не как союзники, но напротив, как враги. Для этой вражды было две существенных причины. Причина первая: Пруссия была, если попросту воспользоваться современными политическими определениями, «правой»: всё еще преобладающе аграрным государством с непоколебимым владычеством знати в сельской местности, которое было вооружено современной абсолютистской бюрократией. Обе мы сегодня классифицируем как явно выраженные «правые» силы.
Немецкое национальное движение, напротив, было «левым» движением. Оно с самого начала было нацелено на подражание революционной Франции — а потому также и её прежним связям со свободолюбивыми, либерально-демократическими движениями. Но сильным оно стало лишь благодаря Наполеону. Наполеон вызывал у немцев, прежде всего у немецких политиков и интеллектуалов, а затем всё более и более также и у широкой публики, две различные реакции. Первая была такой: «Это никогда больше не должно с нами случиться!», в то время как другая звучала примерно так: «Мы тоже хотим это когда-нибудь совершить!» Наполеоновская Франция была образцом для немецкого национального движения, а Наполеон его незаконным отцом.
Но одновременно немецкое национальное движение было также антифранцузским движением, потому что французы ведь пришли в Германию не только как образец для подражания и как модернизаторы, но и как завоеватели, поработители и эксплуататоры. Немцы пролили немало крови в наполеоновских войнах, в которых они принудительно вынуждены были участвовать.
Так смешались совершенно противоположные чувства: с одной стороны явно выраженная ненависть к французам («Это никогда больше не должно с нами случиться!») — но с другой стороны восхищенное желание сравняться с французами («Мы тоже хотим это когда-нибудь совершить!»). То, что осуществил Наполеон, это ему явно удалось сделать благодаря национализации и сплошной политизации Франции во время революции, которую он унаследовал и которую ни в коем случае не обратил вспять. Уже до Наполеона во многих немецких кругах мечтали о новой французской свободе и равноправии, о национальной демократии. Ненамного иначе считали прусские военные в освободительных войнах — вспомните о Шарнхорсте или о Гнайзенау. Так что это означало: мы должны поучиться у Франции, мы должны перенять у французов то, что они исполнили до нас; не в последнюю очередь разумеется для того, чтобы отплатить им той же монетой. Так смешивались ненависть и восхищение.
Немецкое национальное движение охотно идеализируют, причем ещё и в настоящее время. Ранние немецкие националисты, особенно барон фон Штайн — самый важный из них — всё еще считаются образцовыми немецкими государственными деятелями. Но тут рекомендуется проявить осмотрительность. Когда вспоминают об отрицании этого национального движения поэтом Гёте, когда видят представление Томасом Манном этого отторжения в романе «Лотта в Веймаре», то все же очень задумываются. Именно в этом раннем национальном движении звучали нотки, предвещавшие национал-социализм: например, неслыханное высокомерие и самопоклонение: немцы, «первородный народ», истинный народ, настоящий и самый лучший народ Европы — и при этом одновременно эта ужасная ненависть, вот например у Кляйста: «Нанеси им смертельный удар! На Страшном Суде тебя не спросят о причинах». У Эрнста Морица Арндта мы тоже найдем эту сомнительную амальгаму из подражания Франции и стремления сожрать Францию, и еще хуже, поскольку это было сильнее рационализировано, у Иоганна Готтлиба Фихте.
Эти течения постольку имеют такое большое значение, поскольку немецкое национальное движение надолго должно было стать более сильным партнером в том искаженном прусско-национальном союзе, из которого возник Германский Рейх — несмотря на то, что Бисмарк сначала, казалось, добился обратного. Они в конце концов гораздо более, чем прусский элемент, внесли большой вклад в чрезмерный рост немецкого национализма и экспансионизма, в итоге нашедшие свое наивысшее выражение при Гитлере. Разумеется, противоречие «правые» — «левые» было только одной из двух причин враждебности между Пруссией и национальным движением. Первоначальная другая причина связана с противоречием между Австрией и Пруссией: национальное движение было великогерманским, в то время как прусская германская политика могла быть в лучшем случае лишь «малогерманской». Правда, проявилось это лишь после 1848 года.
В годы с 1815 до 1848 года Пруссия и Австрия работали рука об руку, и именно в деле подавления немецкого национального движения. Их совместным инструментом для этого был Германский Союз.
На Венском Конгрессе революционная идея немецкого национального государства была категорически отброшена, как и восстановление прежней, ликвидированной в 1806 году Священной Римской Империи. Германский Союз, очень слабое объединение 38 государств и городов-государств, которое заступило теперь на место старой империи, с самого начала как раз имел также целью предотвратить концентрацию силы в национальном государстве в центре Европы.
Он был собран очень неравномерно: две великие державы, Австрия и Пруссия; четыре королевства среднего размера, Бавария, Вюртемберг, Саксония и Ганновер; остальные — мелкие государства и свободные города. Это внутреннее распределение силы немного напоминает то, как в настоящее время супердержавы господствуют в ООН. И так же, как американский президент Рузвельт, движущая сила Организации Объединенных Наций, всегда был убежден, что функционирование ООН требует постоянного предварительного согласования мнений обеих супердержав — США и СССР, так и отец Германского Союза, австрийский канцлер Меттерних был убежден, что Германский Союз сможет функционировать только в том случае, если Австрия, главенствующая держава, будет тактично сотрудничать с другой великой державой, Пруссией. Так например «Карлсбадские решения» 1819 года, в соответствии с которыми были введены пресловутые «Преследования демагогов», были сначала в Карлсбаде Австрией согласованы с Пруссией, до того, как они были введены в действие Германским Союзом во Франкфурте. Хотя эта идея исходила от Австрии, в её осуществлении особенно отличилась Пруссия.
Меры подавления касались в основном университетов, литературы и прессы, но с точки зрения содержания они имели отношение к национальному движению, ведь между 1815 и 1848 годами оно оставалось живым и ощутимым только в этих «средствах массовой информации» (как мы сказали бы сегодня). И таким образом революция 1848 года была не только ответом на подавление и преследование как таковые, но она одновременно была национальной революцией, попыткой обратить вспять порядок, установленный в Германии с 1815 года, на место Германского Союза поставить Германский Рейх, а именно — Великогерманский Рейх.
Этот Германский Рейх в действительности существовал неполный год, с лета 1848 до весны 1849 года, с главой государства, с кабинетом министров и с парламентом в виде Франкфуртского Собрания в Паульскирхе; он даже был признан Соединенными Штатами. Правда, у него не было настоящей силовой основы.
Потому что силовой основой этого первого Германского Рейха была единственно мартовская революция в немецких государствах, а у этой революции было короткое дыхание. Уже летом она выдохлась; осенью она была подавлена в обоих немецких больших государствах: в Австрии кроваво, в Пруссии бескровно. И Национальное Собрание в Паульскирхе начало замечать, что у его государства не хватает того, что в первую очередь составляет государство: армии и органов управления. Они должны их каким-то образом создать. Но как? Удивительным результатом этих размышлений стала мысль — одолжить, так сказать, эти институции — а именно у Пруссии.
Когда новый Германский Рейх 1848 года захотел вести войну с Данией за Шлезвиг-Гольштейн, то он поручил это прусской армии. Сначала дело шло успешно (это происходило ранним летом 1848 года, и в самой Пруссии тоже было еще революционное правительство). Когда затем Пруссия, уклоняясь от силового вмешательства, в сентябре вышла из этой войны, а во Франкфурте разразились волнения, прусская армия снова была призвана на помощь. И совсем уже в конце, весной 1849 года, Национальное Собрание в Паульскирхе закончило свою работу по созданию Рейха тем, что оно (хотя и с незначительным большинством) избрало прусского короля германским кайзером. Как известно, прусский король это призвание на трон отклонил. Он не хотел больше иметь никаких дел с революцией.
Это было жестоким сюрпризом для людей из Паульскирхе. Но гораздо большим сюрпризом (даже прежде всего для них самих) было то, что они вообще предложение короны германского императора сделали королю Пруссии. Ведь всё же немецкое национальное движение всегда было великогерманским, и франкфуртское Национальное Собрание в целом преимущественно было пангерманским по настрою. Правителем, которого они назначили, был габсбургский эрцгерцог; в правительстве рейха очень сильно были представлены австрийцы. И австрийцы также принимали участие в выборах. Как это случилось, что вдруг обратились к Пруссии? Ну что ж, это было вынужденным решением, отступлением, капитуляцией перед тем фактом, что австрийское кайзерское государство не распалось, как вначале ожидали, но напротив — было на полном ходу своей реставрации, и вовсе не думало больше о том, чтобы своих немцев отпустить в свежеиспеченный великогерманский Рейх. Так что вынужденно пришлось ограничиться Малой Германией под руководством Пруссии. Это был пример реальной политики со стороны национальных революционеров, смертельной жертвой, и кроме того, отклоненной жертвой. Тем не менее: впервые немецкий национализм согласился с прусско-малонемецким решением вопроса, если даже и только лишь как с альтернативой. Таким образом, задолго до Бисмарка само немецкое национальное движение уже однажды избрало такое вынужденный союз.
Такое прусско-немецкое соглашение до Бисмарка даже еще второй раз на мгновение стало действительностью, а именно непосредственно после 1848 года. В это раз инициатива исходила от Пруссии. Хотя Пруссия и отклонила корону кайзера, предложенную революцией, но мысль о малонемецком объединении под руководством Пруссии в целом не была пропущена в Берлине. Представляли себе союз правителей, хотя и свободный, но все же уже федеративный, с парламентом — и естественно без революции. Таким образом, Пруссия при Фридрихе Вильгельме IV. в 1849 году основала Немецкую Унию — союз 28 немецких государств, что однако было не совсем составом позднейшего Германского Рейха, поскольку Бавария и Вюртемберг с самого начала в нем не участвовали, а королевства Ганновер и Саксония позже вышли из него.
Достойное внимания теперь состоит в том, что основная часть франкфуртского Национального Собрания собралась в Готе и выработала решение — сотрудничать с Немецкой Унией. Было заявлено, что «цель», которую хотели бы достичь во Франкфурте — то есть немецкое, в крайнем случае малонемецкое единство — была важнее, чем форма. Так что идея Немецкой Унии не провалилась у демократических националистов. У её неудачи были внешнеполитические причины. Австрия, поддержанная Россией, совершенно определенно, в заключение с угрозой войны, выступила против этого замысла и потребовала восстановления прежнего Германского Союза. И Пруссия отступила, причём Бисмарк произнес решающую речь в прусской палате депутатов. Бисмарк тогда еще был против союза с немецким национализмом, за восстановление старого Союза, за восстановление добрых отношений Пруссии с Австрией, и как раз поэтому в июле 1851 года он был отправлен во Франкфурт прусским посланником в восстановленный Германский Союз. Он оставался там до начала марта 1859 года. Лишь в этот период у Бисмарка выработалось намерение искать союза Пруссии с немецким национальным движением.
Далее нам придётся очень много говорить о Бисмарке. Но прежде чем мы обратимся к истории Бисмарка, будет правильно уяснить для себя, что парадоксальный союз Пруссии с немецким Национальным движением, который он в 1866 и в 1870 годах привел к успеху, уже однажды на короткое мгновение происходил перед ним.
Германская Уния 1849–1850 гг. по замыслу уже была Германским Рейхом 1870–1871 гг., в реальности нечто подобное Северогерманскому Союзу Бисмарка 1867 года: объединение если не всей Германии, то всё же всей Северной Германии как союза правителей под прусским руководством, при исключении Австрии, но с выраженным согласием и сотрудничеством немецких националистов и парламентариев. Сам по себе вопрос, кто в этом союзе Пруссии с национальной революцией должен был стать конём, а кто — наездником, был уже здесь решён совершенно в позднейшем духе Бисмарка. Еще в 1848–1849 гг. революция хотела, чтобы ей услужила Пруссия, и это было отклонено. В 1849–1850 гг. Пруссия своей германской политикой служила революции, и потому всеми был принят союз, заключенный в Готе. В целом неудача объединения была обусловлена недостаточным внешнеполитическим обеспечением и отсутствием готовности воевать. И то, и другое должен был обеспечить Бисмарк в 1866 и в 1870 годах. В этом, и, в сущности говоря, только в этом, лежит его личный вклад в основание Рейха. Сама по себе концепция существовала уже до него, и он лишь должен был впоследствии стать её приверженцем.
Это теперь произошло во время его пребывания во Франкфурте, в пятидесятые годы, и чему он научился, это был опыт австрийской политики в восстановленном Союзе. В 1855 году он пишет в сообщении в Берлин: «Я, как известно, вовсе не был принципиальным противником Австрии, когда я пришёл сюда четыре года назад. Но я должен был бы отречься от каждой капли прусской крови, если бы я хотел бы сохранить даже лишь умеренное предпочтение для Австрии, как это понимают её современные властители».
Вспомним: Германский Союз в годы с 1815 до 1848 постоянно управлялся некоего рода кондоминиумом[4] Австрии и Пруссии. Австрия была несомненно большей силой в Германском Союзе, она также была постоянной председательствующей державой — но ведь Пруссия была другой великой державой. С этой другой великой державой Австрия при Меттернихе решила сотрудничать после 1815 года. После 1848 так больше не было. Ведь уже восстановление Германского Союза было принуждено Австрией против воли Пруссии. Обе державы вступили в новый Германский Союз как конкуренты, как соперники, как противники — и Австрия в настоящий момент как превосходящий противник.
До 1848 года немецкое национальное движение подавлялось. После 1848 года его больше нельзя было полностью подавлять. Ведь между тем немцы испытали, пусть даже только на исторический миг, реализуемость Германского Рейха, и они не забывали этот опыт. Таким образом, немецкое национальное движение осталось, даже и не имея силы, и впредь политическим фактором, с которым всегда следовало считаться и которое могло использовать в своих целях ту или иную великую державу. С 1848–1849 года существовало то, чего не было до этого: немецкий вопрос.
И в этом немецком вопросе Австрия и Пруссия были соперниками. Это было то, что обнаружил Бисмарк в период пребывания во Франкфурте в качестве депутата бундестага[5].
Не только Пруссия, но и Австрия должна была после 1848 года развивать немецкую политику, и она делала это — по-своему. Если Пруссия по природе вещей в своей немецкой политике всегда обращалась к мысли о «Малой Германии», иногда даже о только лишь Северной Германии, то Австрия отныне, если она желала оставаться многонациональным государством, которым была, и несмотря на это стать главенствующей силой каким-то образом объединенной Германии, должна была нацеливаться на своего рода Сверхвеликую Германию: «Рейх семидесяти (в то время) миллионов», чего действительно добивался в 1850 году князь Шварценберг, австрийский Бисмарк. Шварценберг неожиданно умер в 1852 году, но его образ мыслей не умер вместе с ним, по меньшей мере его тенденция рассматривать Пруссию впредь как соперника, которого в борьбе за Германию следует ослабить, а возможно и разрушить. И Бисмарк, очень обидчивый человек, воспринял это очень остро, даже когда австрийская немецкая политика в его франкфуртский период приняла менее явные агрессивные формы. Ниже приведена цитата из ставшей известной как «Блестящий доклад» памятной записки Бисмарка, написанной в 1856 году:
«В соответствии с политикой Вены Германия слишком тесна для нас обеих; пока не заключено и пока не будет выполняться честное соглашение о сферах влияния каждой страны в Германии, обе наших страны вспахивают одно и то же спорное поле, и до тех пор Австрия остаётся единственным государством, которому мы постоянно проигрываем и у которого мы могли бы постоянно выигрывать». В том же самом «Блестящем докладе» в другом месте речь уже идет и о той возможности, «что мы уже через недолгое время должны будем сражаться за своё существование против Австрии, и что не в наших силах избежать этого, так как ход событий в Германии не имеет никакого иного выхода».
Характерно здесь то, что в том, что можно назвать процессом обращения Бисмарка, и из чего выросло столь многое в немецкой истории, вражда с Австрией находится на первом месте. Мысль о коалиции Пруссии с немецкой национальной революцией пришла позже. Правда, получилась она с определенной неизбежностью из новой прусско-австрийской враждебности. В объемистом меморандуме, написанном в 1858 году (тогда насмешливо названном в берлинских правительственных кругах «Маленькая книга господина фон Бисмарка») мы читаем: «Интересы Пруссии полностью совпадают с интересами большинства стран союза, кроме Австрии, но не совпадают с интересами правительства союза. И нет ничего более немецкого, чем как раз развитие правильно понимаемых прусских частных интересов». И если это еще звучит несколько туманно, то год спустя Бисмарк выскажется совершенно ясно: «Единственный надежный, терпеливый союзник, который может быть у Пруссии, если она к этому придет, это немецкий народ». Еще годом позже, в 1860 году, он больше не понимает, «почему мы так страшимся идеи народного представительства, будь она в Союзе, будь она в парламенте таможенного союза». (Десятью годами ранее он еще видел «прусскую честь» в том, «что Пруссия прежде всего держится в отдалении от какой бы то ни было постыдной связи с демократией»). И в январе 1863 года прусский делегат при франкфуртском бундестаге зачитал принципиальное обоснование в пользу прямых, тайных и равных выборов народного представительства. Тогда Бисмарк был уже три месяца прусским премьер-министром и министром иностранных дел.
Здесь не требуется пересказывать драматическую историю прусского конституционного конфликта, благодаря которому он получил свое назначение. Следует вспомнить только о том, что и в Пруссии было весьма сильное либерально-национальное движение. Но он никогда не забывал о том, что однажды он привлечет как партнеров как прусских, так и других немецких либералов, и примирится с ними, должен и сможет это сделать, и именно тем, что он исполнит их национальные стремления. В своей знаменитой первой речи в качестве премьер-министра Бисмарк сказал: «Не на прусский либерализм смотрит Германия, но на её силу» и «Не речами и решениями большинства будут решаться великие вопросы времени, а железом и кровью». Как это затем действительно и случилось.
В этой речи всегда замечают только лишь провокационное выражение «Железом и кровью». Упускают то, что здесь уже высказано явно выраженное предложение мира либералам. Премьер-министра сигнализирует депутатам, что правительство будет использовать увеличенную против его воли армию, чтобы однажды насилием осуществить то, что они и требуют, а именно национальное государство — связанный с Пруссией, руководимый Пруссией, правда малонемецкий, возможно даже только лишь северонемецкий Рейх. Это с самого начала было идеей Бисмарка. Когда говорят, что война 1866 года и мир, который за ней последовал, уже были готовы в голове Бисмарка, когда он в 1862 году стал прусским премьер-министром и министром иностранных дел, то преувеличивают лишь немного. Правда, несколько преувеличивают. Бисмарк пожалуй говорил правду о себе, когда он в 1890 году, вскоре после своей отставки в одном из интервью сказал: «Государственный деятель подобен путнику в лесу, который знает направление своего движения, но не знает точки, в которой он выйдет из леса… Я бы с радостью ухватился за любое решение, которое привело бы нас к увеличению Пруссии и к объединению Германии. К моей цели вело множество дорог. Я должен был выбирать по порядку одну за другой, самую опасную под конец. Однообразие — это было не моим случаем».
Тем не менее, цель была определена: увеличение Пруссии и столь много немецкого единства, сколько с этим согласуется. И также весьма определенно с самого начала было ясно, что эта цель была достижима только против воли Австрии и что в конце концов все же придется вступить на самый опасный путь к цели — военный. Этим война 1866 года отличается от обеих других войн Бисмарка, в том числе от войны 1864 года, которая ей по времени предшествовала. Война эта против Дании за Шлезвиг-Гольштейн, которая велась совместно с Австрией, была только лишь одним из окольных путей, которые привели к военному решению прусско-австрийского конфликта из-за Германии, потому что сначала совместным, затем раздельным правлением Шлезвиг-Гольштейном она создала новое яблоко раздора между обеими немецкими великими державами. Впрочем, она была импровизацией; повод к ней был непредвиденным, и вопрос о Шлезвиг-Гольштейне до того, как он вдруг стал неотложным, едва ли занимал Бисмарка.
То же самое можно сказать и о последней и самой значительной из войн Бисмарка — о Германо-Французской войне 1870–1871 гг., как ни поразительно это звучит. Из этой войны родился Германский Рейх и на ней, гораздо более чем на немецкой «братоубийственной войне» 1866 года, основаны его посмертные слава и популярность в Германии.
Но останемся еще на некоторое время с этой братоубийственной войной, которая гораздо больше, чем война 1870–1871 гг., революционизировала немецкие взаимоотношения. Её результаты точно соответствовали — гораздо точнее, чем результаты более поздней германо-французской войны — цели, к которой так долго столь различным путями стремился Бисмарк. Результатов было четыре:
Во-первых, огромное увеличение Пруссии. Целое королевство — Ганновер — а кроме того, Шлезвиг-Гольштейн, Кургессен, Нассау стали просто прусскими провинциями, и древний имперский город Франкфурт, бывший до того местом пребывания Германского Союза, стал прусским провинциальным городом. Вместе с тем Пруссия достигла своего последнего и самого большого расширения и, впервые в своей истории, полностью сопряженной территории государства. Вероятно, правы те, кто считает, что для Бисмарка как прусского государственного деятеля это было важнейшим из всех результатов войны.
Во-вторых, новое создание — Северогерманский Союз. Под этим безобидно звучащим наименованием скрывалось в действительности первое германское федеральное государство, которое смогло (а быть может, и должно было) стать зародышем будущего Германского Рейха — и во всяком случае стало таковым в действительности спустя четыре года. Весовые категории его 23 членов были очень неравными: Пруссия одна после аннексий 1866 года имела население 24 миллиона человек, а все вместе остальные 22 члена Северогерманского Союза — шесть миллионов. Тем не менее, у Северогерманского Союза были избранный по всеобщему равному избирательному праву «рейхстаг», «рейхсканцлер» и союзное войско, в котором прусская армия была лишь составной частью, хотя и самой большой. С точки зрения Бисмарка, Северогерманский Союз был его расчётом с немецким национальным движением, включая его демократически-парламентарные устремления. Нельзя утверждать, что Бисмарк желал большего, чем этот платёж.
В-третьих, четыре суверенных, впервые в своей истории полностью независимых южногерманских государства, были теперь связаны с Пруссией военными и таможенными союзами: Бавария, Вюртемберг, Баден и Гессен-Дармштадт. Их присоединение к Северогерманскому Союзу было единственным внутринемецким изменением, на которое подействовала война 1870–1871 гг.; в общем-то, не огромное изменение. Тем не менее, в немецком национальном сознании лишь это присоединение стало настоящим основанием Рейха. Во всяком случае, оно сделало возможным переименование Северогерманского Союза в «Германский Рейх», а его прусского «президиума» в «Кайзера Германии».
В-четвертых, Австрия, которая впервые в своей тысячелетней истории больше не имела никаких государственных связей с остальной Германией и тем самым была вынуждена произвести «уравнивание» с Венгрией, из империи австрийских кайзеров став двойной монархией: императорско-королевской[6]. Мир с Австрией между тем тщательно предотвратил возникновение каких бы то ни было обид из-за отторжения территорий или военных репараций, и сохранил тем самым возможность создания будущих союзов.
Если смотреть прусскими глазами Бисмарка, всё это вместе собственно и было идеальным состоянием для немецкой нации. В глазах же немецких — даже малонемецких — националистов это могло быть лишь промежуточным состоянием. Но практическую политику делал Бисмарк, а не немецкие националисты. И здесь следует теперь спросить: действительно ли Бисмарк в годы с 1867 до 1870 имел целью национальную войну за расширение? Бисмарк девяностых годов, писавший мемуары Бисмарк, работавший над легендой о самом себе, как известно, породил это впечатление. Но все же, читая достоверные высказывания Бисмарка из времени между 1866 и 1870 гг., и особенно сравнивая их с его же высказываниями до 1866 года, получаешь иную картину. Ошеломляет обратное: до 1866 года непоколебимая, не боящаяся крайностей целеустремленность. Перед 1870 годом настроение скорее несколько выжидательное и в то же время успокаивающее или обнадёживающее. Бисмарк этих лет всё еще остается союзником немецкого национального движения, но гораздо сильнее, чем до 1866 года, чувствуется, что с оговорками.
Сильнее всего во время самого кризиса 1866 года. В июле, после битвы при Кёниграце и до заключения предварительного мира в Никольсбурге, Бисмарк инструктирует прусского посла в Париже следующим образом:
«Наша прусская потребность ограничивается распоряжением силами Северной Германии в какой-либо форме… Я без сомнения произношу слова «Северогерманский Союз», поскольку считаю невозможным вовлечь в него южногерманский католико-баварский элемент, если требуется достичь необходимой консолидации Союза. Они еще долгое время не позволят по своей воле управлять ими из Берлина». В это время даже проскакивают еще раз — в телеграмме Верховному Командующему прусской армией на Майне — жесткие, до 1851 часто Бисмарком употреблявшиеся, но для Бисмарка года 1866 собственно более недопустимые слова: «национальное надувательство».
Этих слов позже не говорилось. Бундесканцлер Северогерманского Союза тщательно следил за тем, чтобы не дать никому повода сомневаться в своем немецко-национальном образе мыслей; но также следил и за тем, чтобы ничего не обещать. Например, вот таким образом (март 1867 года, снова обращаясь к своему парижскому послу): «Линию раздела по Майну хотят установить как стену между нами и Южной Германией, и мы приняли это, так как это соответствует нашим потребностям и нашим интересам; но следует ли заниматься самообманом, поскольку она в действительности не настоящая стена, а … в определенной степени решетка, через которую находит свой путь национальный поток?» Или, еще более сдержанно, в мае 1868 года:
«Мы все несем в своих сердцах национальное единство, но для расчетливого политика в первую очередь имеет значение необходимое, а затем желательное. Так что сначала строительство дома и затем его расширение. Если Германия достигнет своей национальной цели еще в 19 столетии, то это представляется мне чем-то великим, а если это произойдет в ближайшие десять или даже пять лет, то это было бы чем-то чрезвычайным, непредвиденным подарком от Бога».
В заключение — возможно наиболее часто цитируемые предупреждения Бисмарка в адрес немецких националистов, в предписании к посланнику Северогерманского Союза в Мюнхене от 26 февраля 1869 года:
«То, что немецкое единство будет достигнуто насильственными событиями, я тоже считаю вероятным. Но совершенно другой вопрос — это призвание вызвать насильственную катастрофу, и ответственность за выбор момента времени. Произвольное, определяемое только субъективными причинами вмешательство в развитие истории всегда имело следствием только лишь стряхивание на землю незрелых плодов; а то, что немецкое единство в настоящий момент не является зрелым плодом, мне кажется очевидным».
Мне кажется, что это свидетельство делает несостоятельной ту точку зрения, что Бисмарк осознанно стремился к войне 1870 года, как ранее к войне 1866, чтобы завершить процесс объединения Германии и из Северогерманского Союза сделать Германский Рейх, хотя эта точка зрения в Германии длительное время была всеобщим достоянием и подпитывалась задним числом самим Бисмарком. Бисмарк не торопился с «расширением своего дома», и он сам был ошарашен июльским кризисом 1870 года, который за несколько дней привел к войне. Его известная «Эмсская депеша», которая спровоцировала Францию на объявление войны, была со своей стороны ответом на французскую бурную реакцию на кандидатуру на испанский трон представителя побочной линии Гогенцоллернов (к тому времени, впрочем, уже отозванную). Конечно, эту кандидатуру предложил Бисмарк, но действительно ли он сделал это для того, чтобы вызвать войну с Францией? Не был ли это своего рода тест, возможно даже, пользуясь тогдашним выражением Бисмарка, «родничок мира»? Потому что если в 1866–1870 гг. между Францией и Пруссией кто и портил кровь, то это скорее была Франция, чем Пруссия. Франция чувствовала себя каким-то образом обойденной, даже одураченной результатами войны 1866 года.
Бисмарк же в 1866 году работал с Францией Наполеона Третьего совершенно рука об руку. Наполеон III. со своей стороны проводил политику союзничества со всеми европейскими национальными движениями — сначала в Италии, затем в Германии, а впрочем, также — безуспешно — в Польше. Естественно, все это должно было разыгрываться по французскому сценарию, и естественно Париж желал быть вознагражденным за такую политику территориально. Эти компенсации были собственно спорным пунктом между Францией и Северогерманским Союзом в течение четырех лет между 1866 и 1870 гг. Италия честно отплатила Франции за помощь в объединении (которое правда также и пошло дальше, чем в прусско-немецком случае) отделением Ниццы и Савойи. Бисмарк тоже исполнил надежды Франции на какие-либо компенсации, единожды, в 1867 году в случае Люксембурга, также в виде наметок уже проявил готовность к умеренным компенсациям, но затем снова отступил. Поэтому во Франции распространились разлад, лозунг «Реванш за Кёнигрец», возникла своего рода «партия войны». Когда же по настоянию Бисмарка родственник прусского королевского дома выступил в качестве кандидата на испанский трон, то это могло означать либо вызывающий жест, либо отвлекающий и смягчающий. Какое действие в душе намеревался произвести Бисмарк, мы не узнаем никогда. Одно несомненно: французско-немецкий поединок чести, который вызвал войну 1870 года, не имеет ничего общего с немецким национальным вопросом.
И все же война против Франции стала тогда первой настоящей немецкой национальной войной, и расширение Северогерманского Союза, достигнутое в ходе этой войны, в национальном сознании стало настоящим «основанием Рейха». В 1870 году немецкое национальное движение соединилось со своими корнями во времена Наполеона: оно снова происходило против Франции, оно снова было против императора Наполеона, и многие немецкие националисты в Пруссии, в Северной Германии, но также и в Южной Германии, восприняли 1870 год как реванш за наполеоновские завоевательные войны в первые 10 лет девятнадцатого столетия. Национальная гордость и ненависть к французам того времени — всё это неожиданно снова было — и на этот раз немцы были более сильными! Это было чудесно, так и должно было оставаться, и Германия должна теперь окончательно встать на ноги и консолидироваться как государство. Таково было настроение, которому поддался Бисмарк.
Примечательным образом он поддался не полностью. Этот человек, который до 1866 года решительно аннексировал северогерманские государства, смещал их монархов, жестко усмирял младших партнеров по Северогерманскому Союзу, стал теперь вдруг действовать как государственный деятель времен Меттерниха. Он терпеливо вёл продолжительные переговоры с королем Баварии и с королем Вюртемберга, с великим герцогом Баденским и с герцогом Гессен-Дармштадта, и он делал им значительные уступки. Все в определенной степени сохраняли собственный суверенитет, Бавария даже реальную государственность: весьма широкую собственную налоговую систему, собственную почту, собственную железную дорогу, собственную армию (которая должна была поступать под командование германского кайзера только в военное время) и, что было наиболее неслыханным, право содержать собственные посольства, собственную дипломатию за границей! Английский историк Тэйлор назвал как-то Бисмарка не «основателем рейха», а «предотвратителем рейха», как человека, который преследовал лишь столько национального единства, сколько он безусловно должен был добиться. И в действительности Германский Рейх Бисмарка, гораздо более, чем Северогерманский Союз, имел характер конфедерации, чем федерации.
Потому что хотя Бисмарк при «основании Рейха» всё ещё был готов заключать договоры с национальным движением и удовлетворять его эмоциональные потребности, он ни в коем случае не преследовал цель превратить Германию в ведущую и господствующую державу Европы. Это еще отчетливее видно во время его правления во вновь основанном Германском Рейхе. И при нём Пруссия всё еще оставалась в Германии основной силой; а это уже не было в Рейхе столь же само собой разумеющимся, как это было в Северогерманском Союзе. Напротив: после того, как были удовлетворены все малонемецкие желания, то следующей так сказать естественной национальной целью была Великая Германия.
Если подумать о том, что история Германского Рейха привела к тому, что в его последний и самый динамичный период рейхсканцлером был австриец, что этот последний рейхсканцлер из Малой Германии Бисмарка вскоре сделал Великую Германию, и что эта Великая Германия затем стала проводить агрессивную и экспансионистскую политику, которая была диаметрально противоположна политике Бисмарка, и что все это сопровождалось таким восторженным настроением, какое Бисмарк в Малой Германии никогда, даже не в 1870 году, не встретил — тогда, пожалуй, можно сказать, что наивысший триумф Бисмарка — основание Германского Рейха — уже содержал корни его крушения и был зародышем его заката.
43 года истории рейха между войной 1870–1871 гг. и Первой мировой войной образуют единый период, если смотреть с внешней стороны. В этот период времени не изменились нисколько ни немецкие границы, ни конституция Германии, не было ни войны, ни революции, и в истории Германского Рейха эти 43 года образуют не только наиболее продолжительный период, но также и самый стабильный. Но при ближайшем рассмотрении эти 43 года всё же распадаются на два отчетливо различных этапа: эпоха Бисмарка до 1890 года и эпоха Вильгельма (или кайзеровский период) после 1890 года. Если обобщать, то в первый период, во время Бисмарка, внутренняя политика была большей частью неудачной и противоречивой, а внешняя политика — очень благоразумной и мирной. Во время Вильгельма все было наоборот. Внутриполитически это была почти что эпоха обретенного единства, однако внешнеполитически она шла авантюристическим курсом, который и привёл к катастрофе. Конечно же, следует добавить, что как раз внешняя политика во время Вильгельма сопровождалась всеобщим национальным одобрением.
Период правления Бисмарка в Германии, после того как прошло опьянение победой и основанием рейха, с точки зрения настроя общества был несчастливым. Период Вильгельма напротив был вплоть до Первой мировой войны счастливым временем. Частично причины этого были совершенно просто экономическими. Со времени экономического краха 1873 и даже еще и после периода Бисмарка, до 1895 года, по всей Европе и в том числе в Германии царила стагнация или рецессия, в то время как с 1895 до 1914 года был период почти постоянного экономического бума. Мы на собственном опыте и сегодня еще испытываем, что политический настрой в стране собственно гораздо более зависит от экономики, чем от политики, хотя в несоциалистических странах политика ни в коем случае не определяет экономику. Но Бисмарку как раз не повезло, что почти все его время было периодом экономического застоя; Вильгельму II. сопутствовала удача в том, что в его время вплоть до войны — и в определенном смысле и во время войны — был экономический подъём. Впрочем, с этим связано еще кое-что иное. Во времена Бисмарка еще было стремление на Запад, постоянное переселение из аграрных старопрусских областей в западные индустриальные области. Отсюда за двадцать лет правления Бисмарка более миллиона немцев переселились в Америку. После его отставки с поста канцлера переселение немцев снизилось и в конце концов почти полностью прекратилось. Немцы теперь и на родине находили полную занятость, а их труд стал лучше оплачиваться.
Но все эти обстоятельства, которые относятся к делу и которые следует назвать, представляются мне не моей темой, поскольку Германский Рейх (который с момента своего рождения был смертельно болен, как однажды написал историк Артур Розенберг) в своих экономических обстоятельствах и во внутренней политике ни разу не потерпел крах, а произошло это в его внешнеполитическом положении и в его внешней политике.
Тем не менее, в этом месте следует привести некоторые замечания относительно внутренней политики эпохи Бисмарка, которые, как сказано, создали много несчастий. Бисмарк внутриполитически построил свое основание рейха на компромиссе консерваторов с либералами, которые одновременно были националистами. Правда, его «министерство кризисов» в Пруссии начало свою деятельность с тяжелого конфликта между правительством и либералами; но Бисмарк с самого начала имел в виду соглашение со своими противниками и он верил, что сможет прийти с ними к почётному миру. Это должно было основываться на двойной основе, тем что он, во-первых, удовлетворит национальные стремления либералов, а они, во-вторых, после примирения будут участвовать во внутренней политике рейха. Бисмарк лично был консервативным монархистом. Но конституционный компромисс, на котором покоился рейх, предусматривал полупарламентскую монархию, и политический компромисс, которого он желал при основании рейха, была прочной коалицией консерваторов и национальных либералов. «Железный канцлер» с 1867 до 1879 года в основном из консервативных предпосылок проводил либеральную политику с либералами; в конце он зашел столь далеко, что хотел ввести в прусское правительство одного из них, ганноверца Бенигсена, возможно даже как вице-премьер-министра. Это не получилось. Тем не менее: Бисмарк честно провел свой либеральный период. Что он не предусмотрел, это было то, что компромисс с национал-либералами после 1871 года не ограничивался внутренним удовлетворением.
Примерно к моменту основания рейха Бисмарк совершенно неожиданно обнаружил себя противостоящим двум совершенно новым политическим партиям и силам, с которыми он не придумал ничего лучшего, кроме как вести войну на уничтожение — и которую он проиграл. Это были центристы и социал-демократы. Обе партии были основаны примерно в то же время, что и рейх, так что они были истинными партиями рейха. Бисмарк несправедливо называл их врагами рейха.
Он основывал свою теорию враждебности этих партий к рейху на их международных связях. Центр был партией немецких католиков, а католическая церковь была и является и сейчас бесспорно международным явлением. Центр со своей стороны как раз в то время был сильно ориентирован на Рим — называли это бранным словом «ультрамонтан[7]», поскольку они так сказать через горы смотрели на Рим. Но самым интересным у центра на долгое время было совершенно иное. Все другие немецкие партии были партиями классовыми: консерваторы — партия аристократии, либералы — партия в то время сильно поднимавшейся буржуазии, социал-демократы, которые теперь добавились к ним, были сначала чисто рабочей партией. Центр же, напротив, не был связан ни с каким классом, он включал в себя все классы: была повсюду католическая аристократия, даже высшая аристократия, была сильная католическая буржуазия, и естественно были католики-рабочие. Центр пытался интегрировать в себя все эти классы и внутри решить их противоречия. Это было новым. Этот центр был партией такого типа, какого еще не было до того в Германии и в Европе: народной партией. Это интересно потому, поскольку в настоящее время нами управляют практически только лишь такие партии. Прежде всего, партия центра несомненно является историческим предшественником сегодняшнего христианско-демократического союза.
Как раз этот характер центра, его перекрывающая классы структура вызывали тревогу у Бисмарка. Он знал, как обходиться с классами, и сам совершенно осознанно был представителем своего класса прусских юнкеров. Для него было естественным заключать компромиссы с другими классами и классовыми партиями. Но партия, которая не представляла никакого класса, казалась ему государством в государстве, «врагом рейха»; и в семидесятые годы он пытался — в отличие от того, как он вёл себя с либералами в шестидесятые годы — не привести центр к миру путём борьбы, а уничтожить его, разгромить.
Это ему не удалось. Центр с самого начала был сильной партией, и в семидесятые годы, во время так называемой культурной борьбы (как была названа война Бисмарка против центра на уничтожение) он стал еще сильнее.
В случае социал-демократов этот отличительный признак отсутствовал. Социал-демократы образовывали классовую партию, и Бисмарк в целом понимал, что рабочий класс, четвертое сословие, тоже политически формируется и хочет участвовать в разговоре, защищать свои интересы. В шестидесятые годы он дружелюбно общался с Лассалем, отцом-основателем социал-демократии, даже строил определенные политические планы, из которых однако затем ничего не вышло. Что раздражало Бисмарка в социал-демократии, это был не её классовый характер, а в первую очередь её интернациональный настрой и, во-вторых, что еще важнее, её в то время еще революционная направленность.
Социал-демократы при основании были революционной партией, которая в речах производила много шума и открыто заявляла, что она желает совершенно другое общество, совершенно другое государство. Врагами рейха по этой причине они не были. Свою революцию они хотели провести вполне в рамках Германского Рейха. Но у Бисмарка было глубокое отвращение к революции, которое он принес с собой из 1848 года, и от которого не мог избавиться на протяжении всей жизни. Он желал классового общества, он хотел общества, в котором его класс — компромиссным образом совместно с либеральной буржуазией — был бы ведущим. Возможно, при известных условиях он был бы готов включить в государствообразующий компромисс также и рабочий класс. Но революции он боялся и ненавидел её.
И таким образом Бисмарк с 1878 года вёл беспощадную борьбу против социал-демократов. «Закон против угрожающих обществу устремлений социал-демократии» предусматривал ужасные вещи: выдворение её вождей — не из Германии, но из их теперешних мест обитания, — запрет социал-демократических объединений, собраний, печатных изданий, газет. Во второй половине времени правления Бисмарка социал-демократия существовала в лучшем случае еще полулегально. Она реально преследовалась. Хотя она могла участвовать в выборах в рейхстаг, вести предвыборную борьбу и быть представленной в рейхстаге. На эти конституционные права Бисмарк не покушался. Но всё остальное было для СДПГ запрещено. И всё же: удивительно неудержимым образом социал-демократия во время этих преследований от выборов к выборам становилась всё сильнее. Это было одно из мрачных облаков на политическом небосклоне, которые висели на нем во время правления Бисмарка. Бисмарку не удалось разделаться с СДПГ, но он никогда не прекращал бороться с ней. Совсем уже к концу он хотел обострить борьбу даже вплоть до полного запрета и высылки руководителей социал-демократии из рейха. Из этого тогда ничего не вышло.
Разумеется, он пытался победить социал-демократов также конструктивными методами. В восьмидесятые годы — годы преследований социалистов — были заложены основы немецкой политики социального страхования: в 1883 году страхование по болезни, в 1884 году страхование от несчастного случая, в 1889 страхование по инвалидности. Тогда это была неслыханно смелая и новая политика. Нигде не было ничего подобного — только в Германии. Поэтому Бисмарка почитают как отца современного немецкого социального государства, и в действительности в социальной политике Германия всё время вплоть до конца рейха шла впереди других стран — и идет еще и сегодня. Но Бисмарк рассматривал эту политику как часть своей борьбы против социал-демократии. Он надеялся увести рабочих от социал-демократов тем, что он улучшал их социальное положение с помощью государства. Это ему не удалось. Рабочие принимали социально-политические благодеяния, но они не давали себя подкупить. Они оставались социал-демократами.
К этому можно здесь добавить еще нечто иное, а именно то, что Бисмарк вообще во второй половине своего периода правления, с 1979 года, пытался политически непосредственно соответствовать экономическим интересам различных немецких классов. В 1879 году он основал «Картель производящих сословий», то есть союз между сельским хозяйством и крупной промышленностью. Введением защитных таможен он обеим группам сделал одолжение. Можно сказать, что он — почти что немного по-марксистки — пытался оформить рейх как единое целое не только политически, но и социально-политически.
Этот рейх уже к концу эпохи Бисмарка проявил свою двойственную внутри-политическую природу, которая также продолжает действовать вплоть до нашего времени в Федеративной Республике. Наряду с партиями возникли объединения. Союз фермеров, правда, возник лишь после отставки Бисмарка, в 1893 году, как организация преимущественно земледельцев к востоку от Эльбы. Это была вообще-то внутренняя коалиция между крупными аграриями и малоземельными крестьянами. Но уже до того существовали центральное объединение немецких промышленников, союз тяжелой промышленности; ганзейский союз ориентированной на экспорт легкой промышленности, в котором также активно участвовали финансовые организации и банки; и наконец, профессиональные союзы, которые совершенно независимо от социал-демократической партии старались непосредственно улучшить положение рабочего класса в экономической области — не посредством политической революции, а через совместную борьбу за лучшие условия работы и жизни, прежде всего за более высокую заработную плату. И это всё также относится к тому, на что Бисмарк повлиял во внутренней политике.
При всем этом внутриполитический настрой во всё время правления Бисмарка оставался несчастливым и раздраженным, и это было так не только из-за экономического застоя, но также и из-за политики Бисмарка, и возможно еще более из-за стиля бисмарковской политики. Бисмарк никогда не был политиком обходительным, дипломатичным, он редко достигал триумфа посредством любезности, и озлобленность, которая к концу его жизни, после его отставки, полностью овладела им, отчетливо проявилась уже в час его величайшего триумфа, в январе 1871 года («несколько раз у меня возникало настоятельное желание стать бомбой, чтобы всё здание целиком превратилось в руины», — писал он через три дня после провозглашения кайзера своей жене из Версаля). Предполагают, что у Бисмарка уже тогда было чувство, что он перескочил за свою собственную цель, которой достиг в 1867 году; что своим союзом с национализмом он будет унесен слишком далеко и достигнет нечто такого, что не сможет функционировать и вероятно не сможет удержаться надолго. Глубокий пессимизм, с которым Бисмарк смотрит на свою работу в период после основания рейха, очевиден, и он основывается как на внутреннем, так и на внешнем положении рейха.
Внутриполитически ему отравляла жизнь его непрекращающаяся борьба с партиями и с рейхстагом. В 1867 году он с определенной заносчивостью призвал рейхстаг (тогда еще только северогерманский): «Давайте усадим Германию, так сказать, в седло! Она уже сможет скакать». В 1883 году он, печально цитируя самого себя, недвусмысленно отказывается от этих своих слов: «Этот народ не может скакать!… Я говорю это без горечи и совершенно спокойно: будущее Германии я вижу в черном цвете» (письмо к Роону). Автор письма имеет в виду внутреннее, а не внешнее. Во внешнем же ему всё время докучает «кошмар коалиций» — «то, что миллионы штыков в основном имеют противоположную направленность — в центр Европы, что мы находимся в центре Европы и уже вследствие своего географического положения, а кроме того и вследствие всей европейской истории преимущественно являемся мишенью коалиций других держав» (речь в рейхстаге в 1882 году). Кто-то сказал ему: «У Вас кошмар коалиций!» Он ответил на это: «Этот вид кошмара будет оставаться для немецкого министра еще долго, а возможно и всегда, весьма обоснованным».
Однако сомнительно, действительно ли обоснованный страх Бисмарка перед вражескими коалициями имел только лишь географические и исторические причины. Скорее он был внешнеполитическим. Проясним себе, в чём состояло великое изменение, которое произвёл Бисмарк основанием рейха в 1870–1871 гг. и которое позже английский премьер-министр Дизраэли уже тогда назвал «немецкой революцией». До того времени населенный немцами центр Европы всегда был областью множества малых, средних и пары больших государств, которые были слабо связаны друг с другом (и с другими европейскими странами) и которых их соседям в общем и в целом нечего было бояться. Нельзя сказать, что Германский Союз в течение полувека с 1815 до 1866 года когда-либо представлял угрозу преобладающей коалиции европейских великих держав и зависимых от них стран. Но теперь на их месте неожиданно стояло сплоченное, большое, очень сильное, очень милитаризованное государство. На месте большой губки или большой, многоскладчатой полимерной прослойки, которая мягко амортизировала Среднюю Европу от внешних сил, оказался так сказать бетонный блок — вызывающий страх бетонный блок, из которого торчало очень много пушечных стволов. И это превращение — вызывающее восторг у немецких националистов, но вызывающее опасения у остальной Европы — произошло в войне, в которой новая немецкая великая держава проявила как огромную силу, так и несомненно определенную грубую жёсткость. Немецко-французская война 1870–1871 гг. не велась и не была окончена с разумной умеренностью, как прусско-австрийская война 1866 года. В особенности аннексией Эльзас-Лотарингии Бисмарк так сказать сотворил для Германского Рейха заклятого врага в лице Франции. Бисмарк сам очень скоро высказал на этот счёт нечто весьма примечательное, что малоизвестно. Уже в августе 1871 года он доверительно сообщил именно тогдашнему французскому поверенному в делах в Берлине, что он тотчас же подтвердил в Париже документами: «Мы начали с ошибки, тем, что отобрали у вас Эльзас-Лотарингию, если мир должен быть длительным. Потому что для нас эти провинции представляют затруднение, Польшу с Францией за нею». Так что он знал, что делает. Почему же он все же это сделал? Об этом еще и теперь гадают историки. Немецкое национальное желание, старонемецкий, лишь за 200 лет до того аннексированный Францией Эльзас вернуть «домой в рейх» вряд ли было мотивом Бисмарка. Бисмарк никогда не идентифицировал свой новый Германский Рейх со старой империей, центр которой был вовсе не в Пруссии.
Сильнее был военный аргумент. Крепости Страсбург и Метц были для военных ключом к новым южнонемецким областям Германского Рейха. Но обычно Бисмарк заботился о том, чтобы не привлекать военные аргументы. Если в этот раз он это сделал, то вероятно потому, что он в любом случае ожидал от французов войны-реванша — «Чего они нам никогда не простят, это нашей победы», сказал он в 1871 году несколько раз — и под углом точки зрения ожидания войны военный образ мыслей и для него приобрел больший вес. Можно сказать, что в первые после 1871 годы кошмаром Бисмарка меньше были коалиции, чем угроза французского реванша. Это проявилось при первом внешнеполитическом кризисе рейха Бисмарка. В 1875 году Франция, которая очень быстро оправилась от войны и от репараций, существенно увеличила свою армию. В ответ на это Германский Рейх тотчас же, даже если вначале и неофициально, ввёл угрожаемое положение. Некая берлинская газета появилась с передовой статьёй «Война на пороге?»
Бисмарк всегда отрицал, что он в действительности хотел второй, превентивной войны против вновь усиливающейся Франции. Это вполне правдоподобно. Для него речь шла скорее о предотвращении французского военного реванша, которого опасались, о запугивании. Но тут произошло нечто неожиданное. Англия и Россия никаким образом не вмешивались в войну 1870 года. Россия тогда даже приняла весьма благожелательный нейтралитет в отношении Пруссии и возникающего Германского Рейха. Но теперь Англия и Россия вмешались в Берлине. Они объявили, что не будут безучастно наблюдать дальнейшего ослабления Франции. Впервые проявилась как бы тень будущей Первой мировой войны: та возможная коалиция между Францией, Англией и Россией, которую Германский Рейх несмотря на всю свою силу по человеческим меркам не смог превзойти и под удар которой он подставился, когда он перешёл за пределы достигнутого в 1871 году.
Бисмарк был глубоко оскорблён: при всех своих угрожающих жестах он имел в виду оборону, а не нападение, и он реагировал с глубоким, в том числе с личным ожесточением в отношении правивших тогда английских и русских государственных деятелей. В особенности это касалось русского канцлера Горчакова. Важнее нечто иное: лишь с момента «Кризиса войны на пороге» в 1875 году «кошмар» французского реванша сменился для Бисмарка «кошмаром» коалиций. И лишь с этого времени можно говорить об активной мирной политике Бисмарка — политике, которая отождествляла интересы Германского Рейха с предотвращением войны между европейскими великими державами. Это та политика, которая ныне составляет славу Бисмарка. Но заслуживает глубокого размышления то, что и ему не удалось уберечь Германский Рейх от опасных конфликтов.
Основы своей мирной политики Бисмарк изложил в знаменитом предписании Киссингеру от 1877 года, в котором ключевым было: «Картина, которая мне представляется: не какие-либо приобретения территорий, но такая политическая ситуация, в которой все державы, кроме Франции, нуждаются в нас, и вследствие своих отношений друг с другом по возможности воздерживаются от коалиций против нас». К этому еще подстрочное примечание: оно касается двух слов: «кроме Франции». Еще в 1860 году Бисмарк в письме к своему тогдашнему наставнику Леопольду фон Герлаху писал, что несмотря на все сомнения, он должен держать открытой возможность совместных действий также и с Францией, «поскольку нельзя играть в шахматы, когда из 64 клеток на доске 16 являются запретными». Теперь же он принимает это ограничение как неизбежное. Поистине ужасная помеха, если призадуматься.
В остальном политика Бисмарка означала гораздо более существенный отказ. Её можно сформулировать в пяти пунктах:
1. Отказ от какого бы то ни было территориального приращения в Европе.
2. В связи с этим подавление всех экспансионистских устремлений в Германии, в особенности великогерманских устремлений.
3. Постоянное развенчание иллюзий о возможности присоединения всех «неспасенных» немцев, которые с момента образования рейха остались исключенными из него, в особенности австрийских и балтийских немцев.
4. Категорическое неучастие в заокеанской колониальной политике остальных европейских держав. Это напротив должно было служить тому, чтобы эти державы отвлечь вовне, «на периферию» и удержать их от коалиций против европейского центра.
5. Если необходимо, активное предотвращение войн внутри Европы, в том числе и когда Германский Рейх не участвует непосредственно или не является заинтересованной стороной. Германский Рейх должен был играть роль свинцового груза внутри Европы, если представить её в образе сверхустойчивой игрушки «ваньки-встаньки». Это основывается на том знании, что европейским войнам всегда присуща тенденция к расширению.
В целом чрезвычайно респектабельная мирная политика, и такая, что в Германском Рейхе после ухода Бисмарка она никогда так и не нашла последователя. Впрочем, нельзя сказать, что она в своё время стала популярной в Германии. «Всемирно-политическая» динамика Германии Вильгельма II., ревизионизм Веймарской республики и захватническая политика Гитлера возбуждали совсем иной восторг. Но действительно исключительным является то, что и самому Бисмарку, при всём его желании и величайшем политическом мастерстве не удалось удержать свой Германский Рейх от опасных конфликтов. В этом отношении как раз история периода правления Бисмарка приводит к мысли, что его рейх с самого начала был несчастливым учреждением, возможно таким, которое невозможно было спасти. Всем последователям Бисмарка можно приписать определенные ошибки, которых можно было бы избежать. Но нельзя представить себе другого человека, который бы лучше, чем Бисмарк после 1871 года сохранял, консолидировал и хотел сделать своих соседей прочными составными частями европейской системы государств, по возможности незаменимыми. Если в конце концов и ему это не удалось — то может быть, ошибка была заложена в самом существе предмета?
Первые три пункта своей уточненной, представленной выше внешнеполитической программы Бисмарк проводил железной рукой, невзирая на сильное недовольство и сопротивление. От четвёртого — воздержания от колониальных захватов — он сам в 1884–1885 гг. на время отступил. Но ничто не имело таких роковых последствий, как величайший триумф его пятого пункта программы — предотвращение войны посредством кризисного управления — на Берлинском конгрессе в 1878 году. С него начинается, как отчетливо можно видеть в ретроспективе, дорога Германского Рейха в Первую мировую войну.
Обратимся сначала к враждебной программе Бисмарка колониальной политике, хотя она относится к более позднему времени, поскольку с ней легче разобраться: это редкий эпизод без обнаруживаемых последствий на длительном отрезке времени.
В 1884 и 1885 году четыре больших африканских области, в которых уже до того существовали частные торговые колонии немецких предпринимателей, были официально объявлены Бисмарком находящимися под защитой Германского Рейха: Того, Камерун, Германская Восточная Африка[8] и Германская Юго-Западная Африка[9]. Факт как таковой является несомненным. Но относительно мотивов Бисмарка единства в рядах историков не было никогда. Ганс-Ульрих Велер, который представил на эту тему объёмное исследование, обобщил их в определении «социал-империализм». При этом он смог сослаться в этом отношении на самого Бисмарка, когда Бисмарк в январе 1885 года обратился к немецкому послу в Лондоне (который из-за германо-английских трений, что принесла с собой новая колониальная политика, нисколько не был в восторге от этой ситуации). Он писал послу, что колониальный вопрос «по причинам внутренней политики» становится вопросом жизни. Но по сути это заменяет одну загадку другой: что это были за «причины внутренней политики»? Велер представляет целый пакет возможных внутриполитических мотивов: экономическая депрессия, особенно обострившаяся как раз после 1882 года, «колониальный дурман» в общественном мнении как предполагаемый выход из ситуации, определенная боязнь попасть к шапочному разбору в отношении сокращения неподеленных областей Африки, также предвыборная борьба 1884 года, и наконец бросающееся в глаза совпадение по времени колониальной политики с равным образом новой политикой социального страхования, в общем и целом — потребность при ослаблении триумфальных чувств от происшедшего более чем за десять лет до этого основания рейха создать новый национальный фактор объединения.
Для меня более убедителен другой мотив, который Велер приводит лишь как «побочный аспект». В соответствии с ним трения с Англией, которые принес с собой неожиданный поворот к колониальной политике, как раз намеренно искались Бисмарком в 1884–1885 гг., и притом по исключительно внутриполитической, даже по личной причине. Это делалось ввиду угрозы создания либерального «кабинета Гладстоуна» при кайзере Фридрихе III. По свидетельству позднейшего рейхсканцлера Бюлова сын Бисмарка Герберт доверил ему следующую информацию: «Когда мы вступили на путь колониальной политики, кронпринц еще не был болен, и мы должны были рассчитывать на длительное правление, при котором доминировало бы английское влияние. Чтобы предотвратить это, следовало внедрить колониальную политику, которая в любой момент времени могла вызвать конфликты с Англией». Существует также ещё более определенное — правда, еще менее прямо выраженное — высказывание самого Бисмарка в этом смысле. Если это объяснение соответствует действительности, то тогда «внутренние причины» для неожиданного поворота Бисмарка к колониальной политике становятся совершенно очевидными: с его помощью Бисмарк превентивно боролся за свое собственное положение. Прежде чем осуждать его за это, следует подумать о том, что он считал колониальные споры с Англией контролируемыми (как оказалось, по праву), однако самого себя — пожалуй с весомым правом на это — рассматривал как незаменимого.
Не будем забывать: Бисмарк никогда не был диктатором, никогда не был конституционным властелином. Он был прусским премьер-министром и немецким рейхсканцлером, которого всегда можно было уволить. То, что с начала кайзеровского рейха была почти двадцатилетняя «эпоха Бисмарка», это была конституционная аномалия, объяснимая только непредвиденным долголетием кайзера Вильгельма I. В своем собственном положении Бисмарк всегда зависел от того, что он всегда сохранял кайзера на своей стороне (будь это добровольно или же под давлением), что в заключение, после вступления на трон Вильгельма II. стало видно лишь отчетливее. Теперь же, в 1884 году, кайзер Вильгельм I. был уже очень стар. Следовало учитывать его естественный уход из жизни в любой момент. Однако кронпринц Фридрих, который тогда стал бы кайзером, был либералом, женатым на англичанке, на него оказывала влияние его жена, и он всегда совершенно открыто объявлял, что хочет проводить внутри страны более либеральную политику, а во внешней политике примыкать к Англии. Чтобы противодействовать этому, чтобы затруднить кайзеру, его, Бисмарка, замену на мыслящего совсем по-иному рейхсканцлера, Бисмарку требовалось антианглийское настроение в стране, и он его умышленно подогрел колониальной политикой, как мне представляется. В пользу такого толкования говорит также то, что Бисмарк в конце восьмидесятых неожиданно отказался от колониальной политики, когда старый кайзер против ожиданий прожил еще почти до своего 92-го дня рождения, в то время как кронпринц смертельно заболел. Тем самым угроза немецкого «кабинета Гладстоуна» была преодолена, положение Бисмарка обеспечено — и его интерес к немецким колониям угас столь же быстро, как он воспламенился. Наиболее известное высказывание Бисмарка против колониальной политики относится к 1888 году. Один из энтузиастов колоний посетил Бисмарка, расстелил перед ним большую карту Африки и указал ему, что за сокровища там находятся. Тогда Бисмарк сказал ему: «Ваша карта Африки конечно же очень хороша, но моя карта Африки находится в Европе. Вот здесь Россия, а вот здесь Франция, и мы посредине. Вот моя карта Африки».
«Социал-империалистические» стремления мировой державы в Германии вполне продолжали существовать, а широко распространяться они стали даже только лишь после отставки Бисмарка. Но сам Бисмарк в целом оставался человеком, воздерживающимся от приобретения колоний. Так вполне можно говорить о нём, несмотря на его оплошность в 1884–1885 годах. Он всегда подчёркивал: гонки в борьбе за колонии и за мировое господство не для Германии, мы не можем этого себе позволить, Германия должна быть удовлетворена, если она сможет обеспечить и обезопасить свое положение внутри Европы.
Всё же Германия Бисмарка очень скоро после предписания Киссингеру от 1877 года попала в затруднительную ситуацию во внутренних европейских делах. Произошло это вследствие длительного процесса на юго-восточной окраине Европы, которая в течение всего 19 столетия вызывала европейские кризисы. Это был медленный распад Османской Империи и стремление к отделению его христианской, населенной большей частью славянами части на Балканах.
Русские восприняли это антитурецкое освободительное движение балканских народов с двух точек зрения: во-первых, с идеологической, а именно с точки зрения начинавшегося в России панславистского движения, во-вторых, с державной: стремление к Средиземному морю. Русской целью всегда было в той или иной форме получить контроль над турецкими проливами, так чтобы российский флот мог пройти в Средиземное море, и чтобы одновременно английский флот, который тогда был главенствующим в Средиземном море, можно было бы не допускать в Черное море.
Идеология и державная политика вместе определили русско-турецкую войну 1877–1878 гг., в которой русские вытеснили турок из большей части их европейской империи и в заключение встали перед воротами Константинополя. Это привело к европейскому кризису. Как Австрия, которая всегда с Россией была в определенной конкуренции за турецкое наследство на Балканах, так и Англия, которая не желала впускать Россию в Средиземное море, угрожали обратить вспять результаты русско-турецкой войны. В этот затруднительный момент выступили Бисмарк и Германский Рейх. Уже в связи с предписанием Киссингеру рейхсканцлер сказал, что Германский Рейх должен играть роль свинцового груза в Европе, представляющей собой «ваньку-встаньку». Это означало, что он должен оказать свое существенное влияние, чтобы не оказаться втянутым в европейские кризисы, которые сами по себе не имели отношения к Германии, и таким образом по возможности также и в новую войну. Поэтому Бисмарк чувствовал себя обязанным в интересах Германии и в интересах европейского мира — которые он рассматривал совпадающими — вмешаться, чтобы попытаться предотвратить намечающуюся большую войну между Россией с одной стороны, и Англией с Австрией с другой стороны.
В связи с этим Бисмарк произнес свою знаменитую речь «честного посредника». Оно выказывает, если цитировать в общем, большую тактичную сдержанность и легкое отвращение, с которыми Бисмарк решился на такую роль европейского посредника и миротворца. А именно в своей речи в рейхстаге в 1878 году он сказал следующее: «Мирное посредничество я полагаю не таковым, что мы в случае различных точек зрения будем играть роль арбитра и скажем: вот так должно это быть, и за этим стоит сила Германского Рейха. Нет, я думаю скромнее, более подобно честному посреднику, который действительно хочет уладить дело. Я льщу себя надеждой, что при нынешних обстоятельствах мы сможем столь же достойно быть доверенным лицом между Англией и Россией, каким — я уверен в этом — мы являемся между Австрией и Россией, если сами они не могут примириться».
Это была очень осторожный способ, чтобы приступить к очень опасной задаче. Было ощущение, что Бисмарк видел себя втянутым в эту роль посредника насильственно, против его воли, что получилось из геополитического положения и от возросшей мощи Германского Рейха почти что неизбежно, и потому стало иметь фактически роковые последствия. Потому что Берлинский конгресс 1878 года, который сначала устранил угрозу войны и осуществил всеобщее урегулирование, в котором каждый чувствовал себя несколько неудовлетворенным, но также и несколько удовлетворенным, хотя и имел плодотворное воздействие для Европы последующих десятилетий, но на немецко-российские отношения он подействовал самым ужасным образом. Нам следует здесь отчасти обратиться мысленно к прошлому. С разделов Польши, и тем более с анти-наполеоновских освободительных войн у Пруссии были такие отношения с Россией, как сегодня у ГДР с Советским Союзом. Это было тесно связанное с Россией, более или менее зависимое от дружбы с ней (и дружба эта ему доставалась в изрядных дозах) государство, гораздо меньшее, как держава гораздо менее значительное, чем Россия, но в то же время очень для России полезное. Так выглядела столетняя, очень тесная политическая дружба между этими обеими странами. Затем наступили 1866 и 1870 годы. Россия тогда обеспечивала для Пруссии Бисмарка прикрытие с тыла, которое было ему нужно, чтобы рискнуть на войну с Австрией и позже на войну с Францией, а Германию смочь объединить под руководством Пруссии.
Русские основывались при этом на двух предпосылках. Во-первых, они исходили из того, что старая прусская дружба и приверженность будут сохраняться, что в свете того факта, что Германский Рейх тем временем будет направляться Пруссией, естественно могло быть только преимуществом. А во-вторых, они полагали, что они за своё поведение в 1866 и в 1870 годах имеют прямое право на получение непосредственной благодарности, ответной услуги.
Вместо этой ответной услуги Бисмарк сделал им теперь как раз то, что сам он в 1866 и в 1870 — не в последнюю очередь с помощью русских — столь мучительно избежал, а именно спор двух сторон он сделал предметом европейского конгресса. И на этом конгрессе завоевания русских были существенно сокращены.
Позже Бисмарк утверждал, что на Берлинском Конгрессе он играл роль дополнительного представителя русских, и наверняка ему должно было быть кстати по возможности смягчить то огромное разочарование, какое для русских означали результаты конгресса. Это ничего не меняет в том, что постановлениями конгресса он создал помеху России. Бисмарк отобрал у победоносной России часть плодов её победы и более того, одарил Австрию, которая вовсе не участвовала в борьбе и была постоянным соперником России на Балканах, незаслуженной компенсацией, а именно правом на оккупацию Боснии и Герцеговины. Следует понять, что русские проявили глубокое разочарование и глубокую досаду, и что в 1878 и в 1879 годах в русской прессе, а также и в русской дипломатии, даже в отношениях династий, стали заметными сильные антинемецкие и анти-бисмарковские тенденции. И раздраженный Бисмарк ответил в 1879 году союзом между Германским Рейхом и Австро-Венгрией.
Весьма серьезное коренное изменение! Тут уж можно почти что говорить об изменении на противоположную политики 1867 года. Тогда Бисмарк с прикрытием русских вышвырнул Австрию из Германии. Теперь же она снова была связана союзом с Германией — против России.
Возможно, что германо-австрийский союз не задумывался Бисмарком как длительное учреждение. Но именно в таковой он превратился. Потому что германо-австрийский союз как естественное следствие с течением времени вызвал появление русско-французского союза. Мы всё об этом знаем с момента появления в 1979 году большого исследования Джорджа Кеннанса: русско-французский альянс вовсе не был импровизацией девяностых годов. Он был — можно сказать: неудержимо — в процессе возникновения с заключения германо-австрийского союза 1879 года. Здесь его корни. Естественно, что положение обоих союзов было еще несколько двусмысленным. У России не было непосредственных конфликтов с Германией, у Франции не было непосредственных конфликтов с Австрией. Но Германия и Австрия были теперь союзниками. С этого момента как в России, так и во Франции возникла постоянно усиливавшаяся тенденция германо-австрийскому союзу противопоставить свой собственный длительный союз.
Бисмарк, пока он правил, с большим искусством оттягивал заключение этого союза. Но с искусством, которое в конце уже превращалось в акробатику. В 1881 году ему, несмотря на глубокое расстройство отношений между Петербургом и Берлином и длительную враждебность между Петербургом и Веной, удалось создать еще своего рода альянс между тремя странами: Союз Трех Императоров. Впрочем, с большими усилиями и при помощи несколько искусственных аргументов, тем, что он еще раз извлек старую обветшавшую идею монаршей солидарности против либерально-демократического Запада. Но Союз Трёх Императоров продержался только лишь шесть лет. Он был слишком искусственным, созданным совершенно вопреки естественному ходу дел. Насколько же вообще политике союзов Бисмарка в восьмидесятые годы часто было присуще виртуозное, почти легкомысленное…
Примерно в 1882 году Бисмарк создал еще один, не менее неестественный Союз, а именно германо-австро-итальянский Тройственный Союз. В обоих случаях речь шла о том, что два естественных противника при посредничестве Германии делались искусственными союзниками. Австрия и Италия из-за Трентино и Триеста, принадлежавших Австрии, но рассматривавшихся Италией как неотъемлемые итальянские области, именно были такими же естественными противниками, как Австрия и Россия — из-за турецкого наследия на Балканах.
Когда Союз Трёх Императоров в 1886 году распался, то Бисмарк совершил нечто собственно непозволительное. За спиной союзной Австрии он заключил с Россией тайный договор, который был прямо противопоставлен германо-австрийскому союзу: так называемый договор перестраховки. «Договор перестраховки» признавал господство России в Болгарии и обеспечивал благожелательный нейтралитет даже в случае захвата Константинополя Россией, так что он не только противоречил союзу с Австрией от 1879 года, но даже «честному посредничеству» Бисмарка на Берлинском Конгрессе. В оправдание Бисмарка говорили, что свои союзы восьмидесятых годов он заключал не с той целью, с какой они обыкновенно заключаются — а именно с целью грядущей войны — но что при помощи своей акробатической, противоречивой политики этих лет он как раз стремился такой войны избежать.
В этом ему следует отдать должное. В то время, как немецкий и австрийский Генеральные штабы в конце восьмидесятых годов уже старательно составляли планы превентивной войны против России, он писал начальнику военного совета при кайзере: «Наша политика имеет цель, чтобы, если это возможно, совершенно предотвратить войну, а если это не получится, все же её отсрочить. Ни в чем ином я сотрудничать не могу».
Можно процитировать еще много подобных, написанных в конце восьмидесятых годов только для служебного пользования и потому полностью заслуживающих доверия слов Бисмарка, чтобы подтвердить, что Бисмарк действительно идентифицировал интересы своего Германского Рейха с интересами европейского мира. Этого с такой решимостью не делал никто из его преемников, и позицию Бисмарка не обесценивает то, что она исходила из его глубокого пессимизма. («Если мы по воле Господа должны будем проиграть в следующей войне», — говорится в письме министру обороны от 1886 года, «то у меня нет сомнений, что наш победоносный противник будет применять любые средства, чтобы предотвратить то, чтобы мы когда-либо или даже в следующем поколении снова встали на ноги… после того, как эти державы увидели, как сильна единая Германия… Для сохранения теперешнего рейха мы не можем рассчитывать ни на одну неудачную военную кампанию»). Политика Бисмарка после основания рейха была единственной мирной политикой без ограничений, какую проводил Германский Рейх в период своего существования.
И всё же Бисмарк при величайшем мастерстве государственного деятеля и наилучших благородных замыслах не достиг в своё время того, чего он желал достичь. Он сам при основании Германского Рейха создал ему из великой державы Франции неудовлетворенного противника на длительный срок, так называемого «заклятого врага»; а своей политикой на Берлинском Конгрессе и после него проторил дорогу союзу между Францией и Россией. Одновременно Бисмарк допустил весьма близкие отношения с Австрией, что вполне предсказуемо содержало в себе будущие конфликты, хотя Бисмарк пытался этого избежать. Ведь в отличие от Германии Бисмарка Австрия не была удовлетворенной страной. Австрия желала, равно как и Россия, унаследовать европейскую часть Турции; тем самым был запрограммирован будущий конфликт между Австрией и Россией. Уже Германия Бисмарка против его внутреннего намерения была впутана в этот конфликт с 1878–1979 гг. и более не смогла от него освободиться. Как известно, этот конфликт в 1914 году послужил непосредственной причиной для развязывания Первой мировой войны. Но на заднем плане Первой мировой войны был другой конфликт, который породил не Бисмарк (несмотря на его антианглийскую политику в 1884–1885 гг.): конфликт между Германским Рейхом и Англией. Этот конфликт был результатом периода после Бисмарка и «мировой политики» Вильгельма II.
Отставка Бисмарка в марте 1890 года имела два непосредственных последствия: одно внутриполитическое — закон о социалистах не был пролонгирован; и другое внешнеполитическое — договор перестраховки с Россией не был продлён. Оба этих события оказали долгосрочное воздействие. Дело не обстояло так, что с Россией тотчас же возник глубокий разрыв, и равным образом, что с социал-демократами тотчас что-то изменилось. Но, если обратиться сначала ко второму, на перспективу оно тем более изменилось. С течением времени социал-демократы постепенно перестали быть революционной партией и превратились в реформистскую партию.
Теперь мы сначала обратимся к внутренней политике кайзеровского рейха, чтобы показать большие изменения в атмосфере, которые установились уже очень скоро после отставки Бисмарка и которые становились всё отчётливее вплоть до начала войны в 1914 году. При Бисмарке рейх был, как сказано, внутриполитически несчастливым государством: в целом это был период стесненности и неудовлетворенности почти всех политических сил в Германии — и к этому ещё вечный экономический застой, который вообще-то продолжался еще пару лет после ухода Бисмарка. Большой экономический переворот и подъём пришли в 1895 году. Волна высокой конъюнктуры, установившаяся в этом году, почти непрерывно удерживалась до Первой мировой войны. Только в 1901 и в 1908 было два небольших экономических спада, но в общем и в целом кайзеровский период был временем экономического расцвета и всеобщего процветания, который охватывал также и рабочий класс. В чем была причина этого — об этом повсеместно гадают еще и сегодня, что вообще же совсем не удивительно, ведь долгосрочные экономические прогнозы и в наши дни еще не могут делать.
Однако всё же существует убедительная теория, которая подтверждается как раз в этом случае. Это теория фон Шумпетера и Кондратьева — что подъём экономики связан с великими инновациями. Экономика начинает стагнировать и при определенных обстоятельствах даже наступает спад производства, когда нет наготове технических или научных инноваций. Это и происходило во всё время правления Бисмарка. Перед этим была индустриальная революция, время паровых машин и железных дорог, эпоха стали и железа. Классические мануфактуры в середине 19 века превратились в механизированные фабрики — и затем в семидесятые и в восьмидесятые годы длительное время ничего нового собственно не возникало. Имевшееся естественно шло дальше: строились новые железные дороги, в существующую промышленность привлекались новые рабочие, промышленность существенно расширялась; но в целом экономическая эпоха была временем отсутствующего привода. Такая ситуация господствовала с 1873 до 1895 года. Затем в девяностые годы одновременно пришли несколько великих инноваций, прежде всего всеобщая электрификация, затем начало моторизации, начало радиосвязи. И нововведения вдохнули новую жизнь и в старое.
Этот экономический процесс прежде всего произвел социальное воздействие, а затем, как следующий шаг, также и политическое. Социальное постольку, поскольку классовая борьба постепенно потеряла остроту. Хотя в то время ещё не было сделано великое открытие более поздних времен — то, что рабочие представляют собой не только фактор стоимости производства, но что также они являются потребительской массой, и что потому в интересах промышленности — после некоторых показных сражений с профсоюзами — устанавливать всё более высокие зарплаты. Однако хорошо было то, что рабочей силы всё более не хватало, что профсоюзы начали играть определенную роль, и что работодатели постепенно отходили или вовсе отказывались от прежнего «железного закона зарплаты» — начислять столь низкие заработки, как только это возможно. Это означало наступление определенного социального мира, и этот социальный мир воздействовал также на политическую сферу, а именно в основном на развитие немецкой социал-демократии.
Немецкая социал-демократия при её основании была ведь революционной партией, которая хотела полностью изменить общество. Эта тенденция ещё возросла под воздействием Первого Интернационала. СДПГ стала партией мировой революции — теоретически, ведь революция всегда была немножко в будущем. Но она была и оставалась мечтой социал-демократов вплоть до девяностых годов. Затем в социал-демократии развилось направление, которое стало известно под названием «ревизионизм». Ревизионисты говорили: нам не нужна революция; нам следует постепенно врастать в общество и в государство, где мы такую возможность найдём, чтобы однажды взять его в свои руки.
Это изменение сначала не проводилось официально в партии. Во время вечных дебатов о ревизионизме на партийных съездах ревизионисты регулярно их проигрывали. Но, несмотря на это, за кулисами они становились всё сильнее, что внезапно проявилось в 1914 году, когда социал-демократы поддержали войну, и ещё более в 1918 году, когда они были готовы после проигранной войны «броситься на помощь», как выразился председатель партии Эберт. Правда, всё это было еще в будущем; но в событиях 1914 и 1918 года можно распознать, насколько прежде в кайзеровское время была свободной внутриполитическая атмосфера, если не объяснять этого по некоей программе. В кайзеровский период никогда более не было ничего подобного прусскому конституционному конфликту, никакой культурной борьбы, никакого преследования социалистов. Рейхстаг со своими партиями внутриполитически становился всё важнее для правительств, потому что они постоянно должны были проводить новые законопроекты, которые относились к компетенции рейхстага. (Кайзеровский период был временем большой работы по кодификации законов. Прежде всего, Свод законов Гражданского Права 1900 года был поистине эпохальным трудом, который за исключением семейного права еще и сегодня без изменений находится в силе в Федеративной Республике). Но кроме того, в этот период также происходила — я не хочу сказать: демократизация, это было бы преувеличением — но массовая политизация, которая молчаливо подготавливала будущую демократизацию.
Я упоминаю это в основном потому, что тем самым я выступаю против всё еще сильного направления в немецкой историографии. Эта школа представляет ту точку зрения, что политика внешней экспансии Германского Рейха во время правления Вильгельма II. была обусловлена внутриполитическим причинами. Внутренняя напряженность, как говорит эта теория, должна была быть перенаправлена наружу — возможно, даже вынужденно. Эта точка зрения кажется мне не соответствующей действительности. Социальные и политические внутренние напряжения в течение 24 лет с 1890 до 1914 года были в Германском Рейхе не сильнее, а слабее. И мне кажется, что сравнение с другими странами говорит против этой теории. Ведь верно, что внутриполитические проблемы в большинстве других стран в этот период были гораздо серьёзнее, чем в Германии. Франция со своим «делом Дрейфуса», Англия со своими уже тогда угрожавшими гражданской войной ирландскими проблемами, Россия со своей революцией 1905 года, Австрия со своими национальными проблемами: всему этому в Германском Рейхе не было ничего сопоставимого.
Период правления Вильгельма II. внутриполитически напротив был здоровым, даже счастливым временем — самым счастливым, какое было у Германского Рейха в его короткое время жизни. Не внутриполитические бедствия и опасности влекли Германский Рейха в это время на новый — и как должно было оказаться, очень опасный — внешнеполитический курс, а напротив, чрезмерное чувство силы и еще гармонии, развившиеся в это время. Всем классам постоянно становилось лучше. И с этим пришло определенное изменение характера немцев — которое теперь, разумеется, не может быть названо изменением к лучшему. Немцы времени до 1848 года и также еще периода Бисмарка были в основе своей скромной нацией. Их наивысшая цель заключалась в том, чтобы быть объединенными под одной крышей, и этого они достигли.
Но с отставки Бисмарка сформировалось нечто вроде ощущения великодержавности. Очень многие немцы периода Вильгельма II., а именно немцы из всех возможных слоёв общества, неожиданно узрели перед собой великое национальное видение, национальную цель: мы станем мировой державой, мы расширимся во всё мире, Германия — вперед, в мир! Одновременно их патриотизм приобрел иной характер, чем прежде. Что немцев этого периода возвышало и воодушевляло, их «национализм», было теперь менее чувством единства, но более сознанием того, что они представляют собой нечто совершенно особое, силу будущего. Это изменение связано также с большим приукрашиванием бытовой жизни посредством технического и индустриального развития. Теперь можно было телефонировать, можно было включить свет, щёлкнув выключателем, можно было, будучи очень прогрессивным, построить своего рода радиоустановку — люди стремились в небывалые новые миры, и именно как немцы. Немцы тогда были во множестве областей ведущей силой Европы. В то время как Англия шла вперед еще только медленно, Франция еще медленнее, а Россия находилась еще совершенно у истоков индустриализации, Германия с технической и индустриальной точек зрения модернизировалась в бурном темпе и была от этого также неслыханно горда. К сожалению, всё это часто превращалось в хвастливое, чрезмерно самонадеянное, самолюбивое поведение, которое сегодня, когда читают о тогдашних его проявлениях, несколько раздражает.
Естественно, что Германский Рейх, как все европейские страны того времени, был классовым обществом и классовым государством. И это правильно, что внутри высших классов со времени компромисса Бисмарка в 1879 году, который ввёл защитные таможни и основал «картель производительных классов», произошло своего рода уравновешивание между крупным аграрным производством и крупной промышленностью, в котором аграрии участвовали в диалоге несколько сверх своих действительных возможностей. В этом отношении можно уверенно говорить об определенной отсталости в Германии.
Однако союз между крупными землевладельцами и крупной промышленностью во время правления кайзера Вильгельма II. изменил свой внутренний характер; действительно определяющей силой внутри этого картеля теперь всё меньше было сельское хозяйство, всё более — промышленность. Германия уже при Бисмарке весьма существенно превращалась из аграрного государства в индустриальное; но только при кайзере Вильгельме II. промышленность развилась в такой степени, как ни в какой другой стране, за исключением далёкой Америки. И потому что они предоставили для этого средство, они прямо таки требовали экспансионистской политики силы, империалистической политики. Определенное переплетение германской внешней политики и немецкого промышленного и торгового экспансионизма в мире нельзя недооценивать. Тем не менее я полагаю, что и здесь не находятся действительные причины внешнеполитического поворота. Гораздо более они были в новой оценке — как сегодня сказали бы: ложной оценке — наступающего развития европейских сил, причём определенно этому подыгрывало растущее чувство силы.
Бисмарк ещё в 1888 году сказал — я цитировал это уже в предыдущей главе — «Моя карта Африки находится в Европе. Вот тут Россия, а тут Франция, и мы посредине. Это моя карта Африки». Тем самым он хотел сказать, что Германия должна быть достаточно занята в Европе и достаточно на этом сконцентрирована, чтобы отказаться от приключений в других частях света. Это мнение, которое само по себе во времена Бисмарка уже не было более всеобщим, теперь коренным образом изменилось.
В конце девятнадцатого века и также ещё в начале двадцатого в Европе была эпоха колониального империализма. Все большие государства пытались расшириться в Европе и за пределами Европы, проводить «мировую политику», стать «мировыми державами». Раньше всех начала это делать и дальше всех продвинулась в этом Англия; Британская Империя была тогда, по крайней мере внешне, неслыханно сильной мировой державой. Но и Франция управляла огромной колониальной империей в Азии и еще большей в Африке. Россия с большим размахом расширялась на Восток; даже малые государства имели свои колониальные империи: Голландия и Бельгия, позже также отчасти и Италия, а Испания и Португалия — испокон веку. По всей Европе развилась казавшаяся тогда неотразимой убедительная мысль: что наступило время чисто европейскую систему сил и противовесов заменить на мировую систему сил; на систему, в которой европейские державы, которые как прежде претендовали на первенствующую роль в мире, основывают колониальные империи, а систему европейских противовесов переносят на центрирующуюся вокруг Европы систему мировых противовесов.
Если так думали — и в Германии думали теперь так многие авторитетные люди — то тогда, разумеется, Германский Рейх в сравнении со своей индустриальной мощью остался далеко позади. Конечно, Бисмарк однажды основал пару африканских колоний (чтобы вскоре их снова забросить), но о германском мировом рейхе не могло быть и речи. Германия всё еще была европейской великой державой, вовсе не мировой державой. Но теперь она хотела стать ею. Девиз эпохи Вильгельма II. выработал Макс Вебер, который в 1895 году сказал: «Мы должны понять, что объединение Германии было мальчишеством, которое празднуется нацией на старости лет, и которое из-за своей дороговизны лучше было бы не проводить, если оно должно быть завершением, а не исходным пунктом германской мировой политики силы».
Но теперь с немецкой мировой политикой рейх неизбежно вступил в конфликт с господствующей мировой державой Англией. Немцы не хотели разрушить британскую империю, настолько далеко они тогда — и вообще также и позже — никогда не заходили. Но они полагали, что система европейского равновесия, которая управлялась Англией, должна быть заменена системой мировых противовесов, в которой Германия вместе с более старыми колониальными державами будет мировой державой среди других, в то время как статус Англии должна быть понижен до равного другим мировым державам. Ставший позже рейхсканцлером Бюлов обобщил это в следующей формуле:
«Мы не хотим никого задвигать в тень, но мы тоже хотим места под солнцем».
Примечательно то, что немцы во время правления Вильгельма II. приобрели вовсе не много новых заморских территорий. В девяностые годы они приобрели в аренду очень далёкую китайскую территорию Киачу[10] (Kiautschou; договор аренды истёк бы вообще-то теперь, в 1987 году), тем самым чрезвычайно предвосхищая явно грядущий раздел Китая между европейскими великими державами, что тогда постоянно было темой разговоров, но, однако, как известно никогда не произошло в действительности. Кроме того, они приобрели несколько островов в южной части Тихого океана, также находившихся очень далеко и которые очень тяжело было удержать, что потом и подтвердилось. Кроме этого, не было других значимых расширений немецкой колониальной империи, в том числе и позже. Это всегда оставалось делом далекого будущего.
Но немцы методически, как это было им присуще, решили для себя, что превращение Германии в мировую державу должно начаться со строительства германского флота, с того, чтобы заставить считаться с собой на море. Что, разумеется, выглядело логичным. Если хотят стать мировой державой, если участвуют в колониальной гонке и хотят выйти в ней вперед, то тогда для этого прежде всего требуется инструмент, а именно серьёзный флот, который сначала обеспечит завоевание заморских территорий, а позже станет их защищать. Однако не менее логичным было то, что этой политикой строительства военно-морского флота неминуемо начиналось новое противостояние с Англией, потому что Англия должна была чувствовать, что непосредственно ей строительством большого, конкурентоспособного германского флота брошен вызов. Это было тем более вдвойне опаснее, так как на континенте и без того уже Германия противостояла французско-русскому альянсу, с той перспективой, что любая европейская война станет для Германии войной на два фронта. В этой ситуации самым правильным стало бы искать сближения с Англией, что тоже не казалось совершенно невозможным.
Ранее я говорил уже кратко о том, что переход от внешней политики Бисмарка к политике Вильгельма II. был плавным. Политика строительства флота была окончательно решена и начата только лишь в 1898 году. До этого прошло 8 лет, в течение которых Германия делала попытки расширить и укрепить свой Тройственный Союз с Австро-Венгрией и Италией альянсом с Англией или, по меньшей мере, заключением соглашения («антанты», хотя тогда еще не было этого термина) с Англией. Эта возможность витала в воздухе уже в последние годы Бисмарка. Тогда между Англией и Россией существовало длительное противоречие, которое также всегда несло в себе возможность столкновения. Вспомним, что уже на Берлинском Конгрессе 1878 года Бисмарк в первую очередь старался предотвратить англо-русскую войну. В 1887 году это противоречие снова стало очень сильным, и образовался так называемый Средиземноморский Альянс, соглашение между Австрией, Италией и Англией, сориентированное против русских, в случае если они снова выступят в поход в направлении на Константинополь. Тогда были все основания предполагать, что Германия присоединится к этой организации. Тем самым тогда получилась бы долгосрочная комбинация между Германией, Австрией, Италией и Англией с одной стороны, Россией и Францией с другой стороны. Хотя и при таком положении дел Германия могла бы получить войну на два фронта — но с английским прикрытием с тыла, которое делало её возможно выигрываемой, во всяком случае, более обнадеживающей, чем она затем стала позже.
Бисмарк избежал этого. Он всегда старался оставлять открытым выбор Германии между Англией и Россией, возможно даже с той задней мыслью, чтобы в самом скверном случае оставить Австрию и возродить старое немецко-русское сообщество. К Средиземноморскому Альянсу, который он продвигал, сам он не присоединился, а наоборот, дружески обратился к теперь отчасти находящейся в изоляции России и заключил проблематичный «договор перестрахования». Однако от этого договора перестрахования при отставке Бисмарка, когда как раз наступил срок его продления, тотчас же отказались, и тем самым отпало последнее слабое препятствие для альянса России с Францией, которое было в стадии зарождения с 1878–1879 гг. В 1894 году он был официально заключен. И тем более теперь для Германии надо было ухватиться за старый, всё еще существовавший Средиземноморский Альянс и теснее присоединиться к Англии.
Преемник Бисмарка Каприви пытался сделать это. Сейчас едва ли еще вспоминают о заключенном вскоре после его вступления в должность англо-германском договоре обмена, по которому Англия получила Занзибар, а Германия — остров Гельголанд. Этот договор должен был стать началом большого сближения. Пока Каприви был у власти, и еще некоторое время после этого продолжались предприниматься такие попытки сближения. Отношения между Германией и её союзниками с одной стороны, и Англией с другой стороны в период так называемого нового курса до 1897 года в целом были неплохими. Об англо-немецкой вражде тогда еще не могло быть и речи. Даже когда в 1897 году было принято решение о строительстве флота и Тирпиц, архитектор германского флота открытого моря, развернул в Германии сильнейшую пропаганду флота — которая естественным образом должна была иметь антианглийскую направленность — то не было никакого германо-английского отчуждения как непосредственного её результата. Напротив, определенная группа в английском правительстве предприняла попытку, чтобы отговорить Германию от её планов по строительству флота и включению в мировую политику, и со своей стороны обезопасить себя на континенте союзной комбинацией с немцами. В годы с 1898 до 1901 снова и снова были еще англо-немецкие зондирования возможности заключения союза — о настоящих переговорах тут нельзя говорить. В конце концов они провалились. И именно в основном потому, что немцы верили: Англия нам и без того обеспечена. Если Англия уже теперь к нам «подъезжает», когда наш флот еще большей частью находится на бумаге, то тогда она по-настоящему будет готова к союзу, если мы на море станем еще сильнее.
Аргументация, которая примечательным образом напоминает о гораздо более поздних временах, а именно о германской политике Конрада Аденауэра. Когда Россия в 1952 году в ответ на предстоящее вхождение Германии в западный союз сделала предложение воссоединения Германии в обмен на нейтралитет, то Аденауэр аргументировал тем, что русские, если они уже теперь делают такие предложения, позже будут делать еще гораздо лучшие, если западные страны станут сильнее. Здесь речь явно идёт о возвращающейся склонности немецкого внешнеполитического мышления — переоценивать момент начинающегося или только лишь предстоящего усиления и верить, что так прямо и будет продолжаться. Никогда они не размышляют о том, что может произойти внезапное изменение, если пока лишь угрожающее превратится в действительность: предупредительная любезность может тогда обернуться враждебностью.
Этот переворот случился в английской политике относительно поздно, а именно лишь в 1904 году, если брать сближение с Францией, и лишь в 1907 году, что касается России. В 1904 году Англия в основном уладила свои колониальные конфликты с Францией, которые к концу девятнадцатого века еще раз опасно обострились. Ядром англо-французского колониального соглашения было то, что французы отказались от притязания на Египет, а англичане за это предоставили им свободу рук в тогда еще не колонизированном Марокко. Как раз здесь немцы попытались теперь отравить французам и англичанам радость от их нового «сердечного согласия[11]», тем что они со своей стороны — это было их первое активное вмешательство в колониальный вопрос — выступили в Марокко против Франции. Дело дошло до первого настоящего кризиса на протяжении долгого мирного времени между 1890 и 1914 гг., первого марокканского кризиса 1905 года, который начался тем, что немцы послали кайзера Вильгельма II. в Танжер, и он дал там своего рода гарантии марокканской независимости против Франции.
Этот кризис отчётливо показал недостаток координации в германской внешней политике. В 1905 году Россия была связана войной с Японией, исход которой для России был плачевным. Россия пережила первую революцию. Она на время почти перестала быть в Европе державой. В германском Генеральном Штабе, которым руководил в то время Альфред фон Шлиффен, одна из важнейших фигур немецкой политики того времени, из этого образовалась мысль о превентивной войне против Франции. Русско-французский альянс казался моментально парализованным, Россия недееспособной. Франция связала себя колониальной компенсацией вместо сближения с Англией. Теперь Шлиффену казалось, что возникла возможность использовать Марокко как предлог для того, чтобы «рассчитаться» с Францией. Он видел пришедшую возможность в односторонней войне, в которую Россия реально не вмешается, а Англия на континенте едва ли сможет играть какую-либо роль, настолько ослабить Францию, что она надолго еще не сможет больше приниматься в расчет в будущих комбинациях великих держав.
Это планирование, исходившее от Генерального Штаба, было одобрено наиболее влиятельным тогда человеком в департаменте внешних сношений — исполнительным советником Хольштайном, и он уговорил рейхсканцлера и министра иностранных дел Бюлова присоединиться к этой политике. Но Бюлов не хотел никакой войны, он желал чисто дипломатического триумфа, который убедил бы французов в том, что для них в случае реальной опасности будет бесполезен как альянс с русскими, так и соглашение с Англией, и при известных условиях он должен сделать это для будущих германских комбинаций.
Кайзер в конце концов вообще не желал никакого кризиса и уж совсем не хотел никакой войны. В противоположность многим некрасивым хвастливым заявлениям, которые он при случае делал, Вильгельм II. по сути своей обладал чувствительным, нервным и миролюбивым характером. Он очень неохотно позволил отправить себя в Танжер и в развившемся из этого кризисе всё время боялся дальнейших шагов.
Бюлов тем не менее получил свой престижный успех. Французский министр иностранных дел подал в отставку, а Бюлов был — подобно Бисмарку после победоносной войны 1870–1871 гг. — возвышен до княжеского звания. Всё казалось было улажено наилучшим образом, тем более что европейской конференцией держав был наконец еще добавлен кульминационный пункт тем, что Германия снова, как на Берлинском Конгрессе, уладила международный кризис при всеобщем взаимопонимании; правда в этот раз кризис, который она сама вызвала. Все же этот расчёт не оправдался. Конференция по Марокко в испанском Альхесирасе превратилась в позор и в предупреждение для политики Германии. Это выразилось именно в том, что кроме Австрии, никакая другая великая держава не выступила против позиции Франции, так что в конце концов она получила очень далеко идущее господство над Марокко, можно даже сказать — колониальное господство, смягченное только парой детальных компромиссов, которые должны были позволить немцам более-менее сохранить лицо.
Так что уже кризис 1905 года, первый из трёх настоящих предвоенных кризисов кайзеровского рейха, отчётливо показал, что Германия перешла границы меры. В действительности в намерениях было осуществить комбинацию Англии, Франции и России — то есть обратное тому, к чему она должна была стремиться. Вместо того, чтобы приблизиться к планируемой мировой политике, Германии грубо напомнили о том, что она ни в коем случае не находится в Европе в безопасности — что один опрометчивый шаг в любое время может превратить в реальность кошмар Бисмарка: коалицию.
Тремя годами позже последовал кризис совершенно иного рода, который в конце концов должен был оказаться прелюдией к Первой мировой войне. В октябре 1908 года Россия попыталась в согласии с Австрией произвести политический манёвр, который должен был сделать возможным для неё свободный проход через турецкие проливы. Австрия, в соответствии с тайным соглашением между Петербургом и Веной, не стала бы протестовать, когда Россия будет требовать свободного прохода через проливы. За это Россия в случае успеха подтвердит Австрии формальную аннексию Боснии и Герцеговины, которые уже с 1878 года управлялись Австрией как оккупированные области. Но для свободного прохода через турецкие проливы нужно было согласие не только Австрии, но также и Англии с Францией, как установил Берлинский Конгресс 1878 года. Этого согласия Россия не получила. Всё же в то время, как Россия еще вела об этом переговоры, Австрия уже аннексировала Боснию и Герцеговину. Из этого вышло сильное напряжение между Австрией и Сербией, которая тогда уже была под протекцией России. Сербия угрожала войной, если Австрия не отменит аннексию Боснии и Герцеговины. Из этого осенью 1908 года произошел большой балканский кризис: непосредственно угроза австро-сербской войны, косвенно — как позже в 1914 году — угроза вмешательства России на стороне Сербии.
Тут вмешался Германский Рейх как верный союзник Австрии и третейский судья в этой области Европы. Он потребовал от русских, чтобы Сербия сняла свои возражения и признала аннексию Боснии. В противном случае Германия со всей своей мощью встанет на стороне Австрии и предоставит события их собственному течению. В «блестящем сопротивлении», как тогда выражалась немецкая публицистика, Германия выступила на стороне Австрии против России и опозорила её. Петербург увидел себя принужденным уступить из простой оценки ситуации, что он еще не столь силён после проигранной войны с Японией и после революции 1905 года, чтобы позволить себе войну с Германией и Австрией, будь это даже с французским альянсом как усилением и прикрытием. Россия отступила, и в этот раз Германия действительно тем самым добилась дипломатического триумфа. Но со временем это оказалось столь же бесполезным и опасным, как и самое большее половинный триумф, которого она добилась в 1905 году над Францией. Потому что Россия чувствовала себя отныне вынужденной скорейшим образом снова стать сильной. Второй раз им не может сойти с рук такое, как «Босния». С боснийским кризисом 1908–1909 гг. Германия уже вступила в предполье континентальной войны, что в конце концов в 1914 году привело к взрыву.
А затем в 1911 году произошёл второй марокканский кризис. В детали я не хочу вдаваться. Возможно, что Франция — это вопрос истолкования — несколько перешла за пределы условий соглашения в Альхесирасе, распространилась в Южном Марокко дальше, чем это было в этих условиях предусмотрено. Немцы теперь посылкой канонерской лодки в южно-марокканский порт Агадир сделали угрожающий войной жест, и возникла новая конфронтация с Францией, которая в конце концов снова была мирно разрешена, даже снова с небольшим немецким успехом: французы оказались готовыми отдать Германии часть Конго в обмен на то, что Германия откажется от всяческого влияния в Южном Марокко. Это было вообще-то первое колониальное расширение, которого достигла Германия в Африке со времён Бисмарка. Однако этот второй марокканский кризис имел одно еще более фатальное последствие, чем предыдущий первый и чем боснийский кризис: именно в этот раз Англия впервые открыто выступила почти как союзник Франции.
Прежде в своих обоих соглашениях, 1904 года с Францией и 1907 с Россией, она сознательно воздерживалась от действительного союза. Англия уладила спорные вопросы по заморским территориям с Францией, а затем и с Россией (в Персии), и тем самым сделала свои руки свободными, чтобы, если до этого дойдёт, она смогла бы присоединиться к франко-русской комбинации. С Францией она также уже вела тайные военные предварительные обсуждения. Но настоящий альянс тем самым ещё не был заключён. Англия еще никоим образом не была связана обязательствами в случае войны на континенте выступить на стороне франко-русского альянса.
Тем не менее, теперь в первый раз член английского правительства Ллойд Джордж, казначей и позже, во время войны — премьер-министр, был послан, чтобы в сенсационной речи, воспринятой в Германии как вызов, объявить, что Англия не будет безучастно наблюдать, если будут угрожать Франции. Кроме того, в этом 1911 году были возобновлены англо-французские конференции генеральных штабов, которые вели к конкретным результатам, в отличие от предшествовавших переговоров 1904–1905 гг. Было намечено, что во франко-немецкой войне на крайнем левом фланге французов выступит английский экспедиционный корпус. Облака сгущались таким образом, что с 1911 года можно было говорить о предвоенной атмосфере.
И всё же как раз в это время еще раз случилась широко задуманная попытка германо-английского компромисса. Нельзя сказать, что какая-либо из участвовавших держав уже в 1911 году действительно решилась на большую войну: менее всего можно говорить это про Англию. Только вот все государства теперь старались сориентироваться на такую войну и приготовиться к ней, в первую очередь, естественно, в военной области. Во Франции произошел переход к трёхлетнему сроку военной службы, в Германии в 1913 году — большое увеличение численности сухопутных войск, которое — что примечательно — одобрили также и социал-демократы (увеличение сухопутных войск было профинансировано из разового налога на имущество, что облегчило им одобрение). Россия уже со времени боснийского кризиса начала чрезвычайно сильно вооружаться, в особенности наращивать свои стратегические железные дороги в Польше, укреплять крепости, развивать гораздо более сильную артиллерию. Разумеется, это были нацеленные на долгосрочную перспективу усилия, из которых предполагалось, что русские тем самым станут готовыми лишь примерно к 1916–1917 году.
И вот в это время, когда всё начали принимать в расчёт войну между двумя большими альянсами на европейском континенте как угрожающую возможность — в это время между Германией и Англией была сделана последняя существенная попытка к достижению договоренности. Для Германии речь шла о том, чтобы по возможности исключить Англию из этой войны; с точки зрения Англии целью было смягчить остроту угрожающего англо-германского конфликта. Немецкая попытка была нацелена на обширную колониальную сделку подобно тем, что произошли ранее: в 1904 году между Англией и Францией, в 1907 году между Англией и Россией. Была готовность в согласии с Англией определить и ограничить колониальные цели Германии. Попытка Англии увенчивалась так называемой миссией Хэлдэйна весной 1912 года: при этом для Англии речь шла в первую очередь о перемирии в гонке вооружений на море. Тогда это была в высшей степени непривычная идея. Сегодня для нас идея «контроля над вооружениями» очень привычна: это попытка смягчить конфликтную ситуацию в определенной области гонки вооружений посредством обоюдного соглашения о масштабах вооружения. Такова была уже тогда цель британцев.
Цель немцев при переговорах с Хэлдэйном состояла в том, чтобы добиться от Англии обещания нейтралитета в случае большой континентальной войны в Европе. Обе цели провалились. Англичане не были готовы дать обещание нейтралитета, поскольку они тогда уже опасались, что Германия победит в чисто континентальной войне и затем своим будущим устремлениям мировой державы сможет придать чрезвычайный акцент. А германский государственный секретарь по военно-морским делам Тирпиц в отличие от рейхсканцлера Беттман-Хольвега не был готов заключить соглашение о контроле вооружений морских ударных сил, что ограничило бы свободу вооружений Германии. Собственно говоря, секретарь по военному флоту был подчинён рейхсканцлеру. Однако кайзер, прямо-таки оскорбленный новомодной идеей о контроле вооружений, решил в пользу Тирпица, и тем самым рейхсканцлер проиграл.
Вследствие этого миссия Хэлдэйна потерпела неудачу, что естественно означало обострение германо-английских противоречий. И несмотря на это, и в 1913, и в 1914 году между Германией и Англией продолжались переговоры, разумеется, менее бросающиеся в глаза. При этом речь шла о двойной колониальной сделке. Германия впервые выложила на стол в Лондоне карты своей колониальной программы. Она хотела иметь возможность получить португальские колонии, в основном Анголу и Мозамбик; тогда рассчитывали на банкротство португальского государства, которое вынудит Португалию свои колонии, так сказать, продать. Сверх этого Германия желала, в случае если для того возникнет возможность, также выкупить у Бельгии часть бельгийского Конго и таким образом получить непрерывную цепочку земель от Германской Юго-Западной Африки через Анголу и Конго до Германской Восточной Африки. Тем самым рейх объявил бы себя удовлетворенным, а Англия могла бы получить определенные компенсации из португальских, а возможно также и из бельгийских колониальных владений.
Интересно то, что эти переговоры были отмечены довольно дружелюбной атмосферой и в заключение привели к своего рода предварительному результату — в июне 1914 года, в канун начала войны. Соглашение о будущем колониальном разделе в средней части Африки было тогда в Лондоне уже парафировано, естественно строго секретно. Так что как раз на том поле, на котором прежде возникло германо-английское противостояние — колониальной и мировой политики — явная разрядка казалась возможной.
Тогда шли переговоры между Англией и Германией еще и на другой части этого широкого поля, и притом равным образом многообещающе. Устремления Германии как мировой державы с 1900 года были в двух направлениях: в первую очередь на большие приобретения территорий в Африке, но наряду с этим также на расширение на юго-восток, правда в своей методике еще чрезвычайно неопределенное. При этом из германо-австрийского союза вместе со свежим германо-турецким союзом должна была получиться структура единства — по крайней мере, экономического плана. При этом надеялись полностью или частично принудительно втянуть в эту систему балканские государства. Символизироваться это должно было грандиозным предприятием — железной дорогой между Берлином и Багдадом, знаменитой «Багдадской Трассой». Германский Рейх хотел в определенной мере создать себе между русской и английской сферами интересов собственную зону влияния, причем правда оставалось неясным, как там собственно хотели создать структуру единства и какую форму она должна принять. Потому что Австрия еще ощущала себя великой державой и вела себя соответственно, да и Османская Империя была еще самостоятельной, даже если и слабеющей, державой. Германский Рейх тогда стремился установить очень тесные отношения с Османской Империей, которая вследствие революции «младотурков» 1908 года казалось переживает омоложение. Германская военная миссия в Константинополе должна была обучить турецкую армию по немецким меркам. Одновременно в перспективе был политический союз с турками.
То, что здесь замышлялось расширение влияния Германии, не могло ускользнуть ни от кого — тем более что и Англия в южной части тогдашней турецкой империи, нынешнем Ираке, имела большие интересы. Нефть начала тогда уже играть определенную роль. Так что здесь равным образом речь шла о том, чтобы по возможности дружелюбно разграничить германские и английские сферы интересов. И здесь также не обошлось без успеха.
Это вело к тому, что тогдашний немецкий рейхсканцлер Беттман-Хольвег теперь все-таки снова начал надеяться на нейтралитет Англии в случае войны на континенте. Хотя Англия никогда не давала обещаний, но никогда и не объявляла, что она при всех обстоятельствах будет участвовать в возможной войне. Теперь в области колониальной и политики экспансии Англия и Германия несколько сблизились, во всяком случае настолько, что старые противоречия казались сглаженными. Так ведь начиналось и согласие между Англией и Францией, а позже и между Англией и Россией. Почему же с такой точки не могли развиться улучшенные отношения также между Англией и Германией, несмотря на продолжающееся соперничество флотов? Возможно даже тоже своего рода «Согласие», так что Англия, если дело должно дойти до европейской войны, во всяком случае в начальной стадии должна будет решиться на нейтралитет третейского судьи.
Таковы были умозрительные рассуждения, которые лежали в основе политики Бетманн-Хольвега во время летнего кризиса 1914 года. Но в соответствии с этими расчётами пришлось бы поставить крест на германском военном планировании.
О начале Первой мировой войны еще 20 лет назад нельзя было свободно говорить, потому что тогда всё вращалось вокруг так называемого вопроса об ответственности за войну. В двадцатые годы почти вся немецкая историческая наука была занята тем, чтобы попытаться обосновать невиновность Германии в развязывании войны; и еще в начале шестидесятых годов была мужественная работа гамбургского историка Фрица Фишера, постаравшегося поколебать этот тезис. Сегодня благодаря «Контр-версии Фишера» можно об этих вещах говорить несколько свободнее.
Понятие «ответственности за войну» полностью неадекватно для 1914 года. Война тогда была легитимным средством политики; каждая великая держава всегда принимала в расчёт возможность войны, каждый генеральный штаб теоретически постоянно вёл войну против какой-либо вражеской комбинации, и когда возникала благоприятная возможность для войны, то не считалось аморальным или совсем уж преступным использовать её. В отношении роли немцев в развязывании войны интересно нечто совершенно иное. Возможная война 1914 года именно политическим руководством Германского Рейха, в особенности рейхсканцлером Бетманн-Хольвегом, замышлялась и планировалась совершенно иначе, чем Генеральным штабом, и затем выявилось еще также, что планирование Генерального штаба в военном отношении было ошибочным. Имеет смысл оба этих пункта рассмотреть поближе.
Уже в годы после 1911 во всей Европе наступило предвоенное настроение. Считались с военным столкновением, планировали его с обеих сторон уже как весьма возможное, и для всех было важно так замыслить войну, чтобы она началась при возможно благоприятнейших начальных условиях и с возможно более благоприятными перспективами.
Бетманн-Хольвег представлял себе дело таким образом — как вытекает из всего, что известно о ходе его мыслей в предвоенные годы — что война очевидно начнется, и что для Германского Рейха существует три условия, при которых он может её вести и возможно даже сможет выиграть: Австрия тоже должна принимать в ней участие, социал-демократы должны сотрудничать, а Англия должна была оставаться нейтральной.
В свете этих трёх условий положение, которое неожиданно образовалось после убийства австрийского престолонаследника в Сараево, было возможно благоприятным. Война стала бы в первую очередь не немецкой, а австрийской войной, войной Австрии против Сербии. Если в эту войну Россия вступит на стороне Сербии, то во-первых наверняка Австрия будет на стороне Германии — ведь в первую очередь это же была австрийская, не немецкая война, — а во-вторых настолько же наверняка было то, что германские социал-демократы одобрят войну против царистской России. Однако в-третьих, и это было самое лучшее, Англия очевидно не вступит в такую чисто восточную войну, во всяком случае не сразу же — что было совершенно правильным предположением. Англия всегда в своей истории держалась в стороне от чисто восточноевропейских осложнений. И в этом случае её интересы не были особенно затронуты; определенное смещение веса между Австрией и Россией в пользу Австрии было бы для Англии в целом приемлемо, возможно даже желательно.
Но это всё предполагало, что война и в военном отношении останется тем, чем она собственно должна была быть в соответствии с политико-дипломатической историей её возникновения: восточно-европейской войной между Германией и Австрией с одной стороны, Россией и Сербией с другой. Ход войны, по крайней мере в начальной фазе, должен был бы выглядеть так: спровоцированная убийством в Сараево Австрия нападает на Сербию; Россия приходит на помощь опекаемой ею Сербии тем, что нападает на Австрию; Германия приходит на помощь своему союзнику Австрии тем, что нападает на Россию. Правда, в таком случае она должна считаться с тем, что на Западе Франция придёт на помощь своему союзнику России тем, что она нападёт на Германию. Но тогда на Западе Германия станет объектом нападения, и если она там будет вести себя чисто оборонительно, то она не должна будет непременно считаться с возможностью нападения Англии.
На этом представлении основывался знаменитый «бланко-чек[12]», который Бетманн дал 6-го июля Австрии: если вследствие австрийской акции против Сербии дело должно дойти до войны между Австрией и Россией, то Австрия может быть уверена, «что Его Величество в соответствии с его союзническими обязанностями и его старой дружбой будет верным и останется на стороне Австро-Венгрии».
Странным образом никакими словами не было объяснено подробнее, что конкретно в военном смысле будет означать «останется на стороне Австро-Венгрии». Если буквально, то это собственно должно было означать, что Германия нападёт на Россию, если Россия нападёт на Австрию. Если бы Австрии было прямо сказано, что Германия сначала будет вести себя в отношении России чисто оборонительно, и вместо этого использует австро-российский конфликт как повод для нападения на Францию и Бельгию, то решение о войне и мире в Вене возможно было бы иным, чем оно стало в действительности.
Однако дела обстояли именно так. У германского Генерального штаба был план войны, который в любом случае начинался блицкригом против Франции, где бы ни находился политический центр кризиса, ведущего к войне. И начинался он предварительным проходом войск через нейтральную Бельгию, поскольку германский Генеральный штаб полагал (с военной точки зрения вероятно по праву), что война на сильно укрепленной с обеих сторон немецко-французской границе не предвещала блицкрига. А знаменитый пресловутый «План Шлиффена» состоял в том, чтобы обойти стратегическое сосредоточение и развёртывание французов на их восточной границе через Бельгию, напасть на них с фланга и с тыла, мощным натиском прижать их к швейцарской границе и там уничтожить.
Этот план должен был с самого начала привлечь Англию на сторону врага, потому что у Англии было две причины вмешаться в таком случае. Первая — то, что нельзя было спокойно наблюдать полное лишение силы Франции. Если сфера действия силы Германии, включая побежденную Францию, достигнет пролива Ла-Манш и будет простираться до Атлантики, то Англии будет противостоять континентальная сверхдержава, что было несовместимо с её безопасностью. Кроме того, Бельгия была страной на побережье, лежащей прямо напротив Англии. Кто господствовал на берегу Бельгии, тот угрожал Англии, особенно если речь шла о таком сильном военном флоте, какой возник у Германии при Вильгельме II. Об Антверпене всегда говорили как о пистолете, направленном в сердце Англии: так что англичане не могли примириться с оккупацией Бельгии из чисто географически-стратегических причин. Более того, на этот счёт существовала еще юридическая точка зрения, потому что европейские великие державы, включая Германию, столетиями гарантировали нейтралитет Бельгии. Сильнейший интерес в её нейтралитете был у Англии; она не могла безучастно наблюдать, как будет разрушаться её бельгийский буфер. Таким образом, Бетманн следовал плану начала войны, который уже заранее был выбит у него из рук планированием германского Генерального штаба.
Неразрешимой загадкой остаётся то, что эта проблема ни разу не обсуждалась руководством Германского Рейха до 1 августа 1914 года — дня начала войны. Потому что вне всякого сомнения, что Бетманн, так же как и его предшественник Бюлов, был проинформирован о плане Шлиффена. Как это ни странно, но похоже однако, что он воспринял его не совсем серьёзно и не вычислил его последствий для своих политических хитросплетений. По-видимому, он исходил из того, что военные планы можно будет изменить в последний момент. Что же случилось 1-го августа? Началу войны предшествовала неделя лихорадочной дипломатической деятельности, в которой Англия играла посредническую роль. Из Лондона пришло два предложения. Первое инициировало конференцию послов четырёх не участвующих непосредственно в австрийско-русском конфликте держав — Англии, Германии, Франции и Италии, которые должны были направить Австрии и России совместные предложения. Это предложение было отклонено немцами: они не будут ставить Австрию перед европейским ареопагом. Второе предложение состояло в том, что Германия должна подействовать на Австрию с целью её вступления в прямые переговоры с Россией, чтобы по возможности предотвратить русское вмешательство посредством ограничения австрийских военных целей — к примеру «остановкой в Белграде». Это предложение правительство рейха сначала без комментариев передало в Вену, а позже немного способствовало тому, чтобы все же воспринять его более серьёзно. В конце концов и эту возможность Германия пропустила, не участвуя в ней серьёзно. И таким образом 28-го июля Австрия объявила войну Сербии.
Россия отреагировала на это сначала частичной, а затем и всеобщей мобилизацией. Немцы также объявили состояние угрозы войны и распорядились начать мобилизацию. Был приведен в действие план Шлиффена с массированным стратегическим развертыванием на Западе, не на Востоке. И вот 1-го августа из Лондона, где всё ещё велась лихорадочная деятельность, пришла телеграмма от германского посольства, которая была неверно истолкована в том плане, что Англия будет гарантировать нейтралитет французов, если Германия на Западе будет вести себя сугубо оборонительно и нападёт только на Востоке. На основании этого кайзер в присутствии Бетманна на спешно созванной чрезвычайной конференции в берлинском замке заявил начальнику Генерального штаба, племяннику знаменитого Мольтке, прославившегося в войнах 1866 и 1870 гг.: «Таким образом, мы просто выступаем всей армией на Востоке!» Это предложение натолкнулось на отчаянное сопротивление Мольтке: он никак не мог более менять военное развертывание, которое уже происходило на Западе. Если он это сделает, то на Востоке будет не боеспособное войско, а беспорядочная толпа вооруженных людей без обеспечения, и война будет проиграна с самого начала. Кайзер неблагосклонно ответил: «Ваш дядя дал бы мне другой ответ». Так это было передано словами Мольтке, который был чрезвычайно потрясен, обижен и возмущён вмешательством кайзера.
Но в действительности у него не было права возмущаться. Генеральный штаб должен иметь наготове различные планы для всех возможных политических ситуаций, и также должен быть в состоянии, даже если он предпочитает один из этих планов, поставить на его место другой, когда этого требует политическая обстановка. Об этом Мольтке не позаботился. В 1913 году Мольтке распорядился прекратить разработку планов развёртывания на Востоке, которые регулярно подготавливались уже много лет. Это подлинное нарушение долга, даже преступление германского Генерального штаба. Он настроился на единственный возможный вариант войны и все альтернативы заранее отбросил.
Как упомянуто выше, в Берлине неверно поняли телеграмму германского посольства в Лондоне. Англичане никогда не говорили, что они будут удерживать Францию нейтральной. Они лишь намекнули, что сами они пока останутся нейтральными, если Германия будет вести себя оборонительно на Западе и вести чисто восточную войну. Такой образ действий в действительности, как впоследствии ироническим образом выявилось, был бы для Германии здоровее также и с военной точки зрения. Политически же исполнением плана Шлиффена во всяком случае было предопределено, что и Англия будет сражаться на стороне врагов Германии. Тем самым германский политический план войны с самого начала был перечеркнут — от чего Бетманн вообще впал в отчаяние. Уже после вступления германских войск в Бельгию и после объявления войны Франции он безнадежно пытался отговорить англичан вступать в войну из-за «клочка бумаги», как он называл гарантии бельгийского нейтралитета, который может всё в Европе сбить с толку. Но было слишком поздно.
Интересно впрочем отметить, что кайзер в своём упреке младшему Мольтке («Ваш дядя дал бы мне другой ответ») поистине был точнее, чем возможно он сам знал. Пока старший Мольтке был начальником Генерального штаба, германское военное планирование для войны на два фронта всегда предусматривало стратегическую оборону на Западе и на Востоке; при его преемнике Вальдерзее планировалось германо-австрийское наступление на Востоке, но все же чистая оборона на Западе. Лишь у его преемника Шлиффена с 1895 года появилась честолюбивая мысль — из войны на два фронта сделать, так сказать, две последовательных войны на один фронт: выбить из войны Францию, прежде чем Россия со своей более медленной мобилизацией станет готова, и после этого всеми силами повернуть на Восток. После смерти Шлиффена младший Мольтке отказался от каких-либо альтернативных планов развертывания. В этом развитии немецких военных планов особенно хорошо видна интеллектуальная разница между эпохой Бисмарка и периодом правления Вильгельма II.: пессимистическая осмотрительность прежде, оптимистическое ощущение силы теперь.
Ощущение силы не было совершенно безосновательным, но оно вело к заносчивости. План Шлиффена для войны на два фронта был заносчивым планом, и он потерпел крах.
Разумеется, что все континентальные великие державы начали Первую мировую войну с широкомасштабных наступлений, которыми они надеялись достичь быстрой победы, и все эти наступления потерпели неудачу: австрийское против Сербии и русское против Австрии (в Галиции) и Германии (в Восточной Пруссии), так же как и французское против Германии в Лотарингии и в Арденнах; но в конечном итоге также и немецкое против Бельгии и Франции. В первые месяцы войны на всех театрах военных действий — против убеждений всех генеральных штабов! — проявилось то, что стало основополагающим для всего хода Первой мировой войны: то, что при тогдашнем уровне военной техники оборона превосходит нападение, так что наступления в лучшем случае завоевывают территорию, но никогда враждебную великую державу, даже не могут исключить из войны малые страны, такие как Сербия и Бельгия. Это придало Первой мировой войне её тягостный характер войны на истощение, всё время повторяющейся стратегически безрезультатной бойни.
Но в такой войне на истощение английская блокада превратилась в решающее оружие. Она стала такой не тотчас же, поскольку Германия материально хорошо подготовилась к войне. В первый год войны она смогла еще без особых затруднений в обеспечении мобилизовать и ввести в действие все свои силы. То, что она была отрезана Англией от всех заморских поставок, сначала не играло еще никакой роли. С другой стороны, никуда было не деться от того факта, что с экономической, и прежде всего, с продовольственной точки зрения продержаться в состоянии войны с каждым военным годом будет всё большей проблемой. В войне на истощение время несомненно работало против Германского Рейха. Даже вместе с Австро-Венгрией он был экономически слабее, чем враждебная комбинация стран, и именно английская блокада, отрезавшая его от заморских поставок, нанесла ему поражение. Германия голодала; Англия и Франция по крайней мере ели досыта. Правда, зато Англия и Франция более чем Германия истощили свои военные силы во всё новых напрасных и при этом ужасно кровопролитных наступлениях. Только эта твердолобая ошибочная стратегия её врагов давала Германии несмотря на всё это определенный шанс на то, чтобы продержаться дольше и со временем настолько вымотать своих противников, что они в конце концов придут к «миру от изнурения», что означало пожалуй в общем и целом — к миру, закрепляющему статус-кво. Тотальная победа в Первой мировой войне была недостижима, возможно ни для кого, и определенно — не для Германии.
Несмотря на это, в дальнейшем ходе войны Германия разработала два новых плана победы, из которых первый принёс ей окончательное поражение, но второй был удачным, и на короткое время казалось, что это в действительности ещё раз приведёт к возможности победы. Первым планом была контрблокада Англии, неограниченная война подводных лодок. Вторым планом было революционизирование России, союз с Лениным.
Поговорим сначала о подводной войне.
Германский надводный флот, который внёс такой большой вклад в причины войны, в самой войне не сыграл практически никакой роли. Он оставался в гаванях и наносил удары в Северном море только от случая к случаю, чтобы так сказать позлить англичан. Одна из таких атак привела к единственному большому надводному морскому сражению в войне — у пролива Скагеррак, в результате которого немцы всё-таки могли записать себе на счёт тактический успех. Они потопили больше английских кораблей, чем потеряли своих, но однако после этого вынуждены были скорейшим образом вернуться в родные гавани. Стратегически от этого ничего не изменилось. Английская блокада не была прорвана германским флотом.
Так германскому командованию военно-морских сил во время войны пришла идея, чтобы совершенно новое, тогда ещё почти экспериментальное оружие — подводные лодки — развить далее таким образом, чтобы при помощи подводных лодок можно было перекрыть английские морские пути снабжения. Надеялись, что если слабые места подводных лодок компенсировать чрезвычайной беспощадностью при их применении, то можно будет потопить достаточный тоннаж судов, чтобы причинить англичанам острые проблемы обеспечения, таким образом вытолкнуть Англию из войны и решить тем самым её исход в пользу Германии. Эта «неограниченная» война подводных лодок, от которой в 1916 и 1917 гг. обещали чудеса, не только потерпела неудачу, но и в добавление она принесла нового противника в войне, который со временем мог настолько усилить Англию и Францию, что любая перспектива германской победы, сама перспектива «мира от изнурения» надолго исчезла: Соединенные Штаты Америки. В первые два года войны Америка оставалась нейтральной. Тогдашний президент Вудро Вильсон — в отличие от президента Рузвельта во Второй мировой войне — не планировал вмешиваться в войну на стороне Антанты, а имел намерение в подходящий момент времени вмешаться в качестве мирного посредника, третейского судьи с собственными идеями о том, как в будущем можно вообще предотвратить войны. Такое вмешательство он уже начал в конце 1916 года. Но с другой стороны Вильсон и с ним Америка не были готовы, чтобы топили без предупреждения их суда и оставляли тонуть их экипажи.
Тем не менее, как раз в этом и состояла «неограниченная» подводная война — отсюда и название. Она только тогда имела шансы на успех, если любое судно, которое попадало в запретную зону, топилось без предупреждения — в том числе и нейтральные суда. Это был чрезвычайно беспощадный способ ведения войны. Между тем, даже применяемые с величайшей беспощадностью, подводные лодки Первой мировой войны едва ли могли быть успешными. Ведь они были очень слабым, еще совершенно слаборазвитым оружием. Собственно более «ныряющие», нежели «подводные» лодки, они должны были постоянно снова всплывать на поверхность, чтобы зарядить свои аккумуляторы; и там они никогда не могли сравняться с самым малым боевым кораблем. Не вдаваясь в технические подробности, можно утверждать, что в действительности они были побеждены английской системой конвоирования транспортных судов — уже до практического вступления в войну Америки.
К этому моменту неограниченная подводная война всё-таки уже втянула Америку в лагерь противников и тем самым ухудшила общее положение Германии вплоть до безнадежного. Причём правда не стоит забывать, что равно как и Англия со своим оружием блокады была в состоянии рассчитывать на эффект только в длительной перспективе, так и Америка смогла принять действенное участие в войне лишь спустя долгое время после своего объявления войны. В 1917 году, когда Америка вступила в войну, она еще не обладала настоящей армией и достаточным тоннажем флота, чтобы перевозить в больших масштабах в Европу войска и материальную часть. Только в 1918 году в операциях на Западе впервые участвовала относительно небольшая американская армия. Настоящее решающее вступление Америки в европейское ведение войны было запланировано лишь на 1919 год, для чего оно уже вовсе не понадобилось. Между тем в Германии всё же разработали второй новый план победы, а именно революционизация России. Россия в Первой мировой войне с самого начала проявила себя гораздо слабее, чем ожидало германское политическое и военное руководство. Чтобы объяснить эту ситуацию, следует отдавать себе отчет в общем промышленном уровне развития ведших войну государств. Англия была старая, сильная индустриальная держава; Германия была в последнее время самой сильной индустриальной державой; Франция также была значительное индустриальной державой — но Россия была почти что еще развивающейся страной. Она начала свою индустриализацию как раз лишь примерно на рубеже столетий. Хотя у неё была очень большая, очень отважная армия, но это была как раз отсталая армия, почти без действительно современного оружия. Поэтому русские потерпели в 1914–1915 гг. тяжелые поражения и в 1917 году подошли к пределу своей возможности ведения войны. В то же время тотальная мобилизация самих ограниченных промышленных ресурсов России сама по себе была чрезвычайно тяжелой задачей, поскольку она была так велика, а транспортное сообщение было чрезвычайно неразвитым. В российских городах люди голодали уже с 1916 года, в Германии же лишь годом позже. Так что русская февральская революция 1917 года была в основе своей революцией голодных городов, а также восстанием солдат-крестьян против продолжения войны, которая требовала ужасных кровавых жертв и приносила только поражения. Либерально-демократическое правительство, которое посредством Февральской революции сначала пришло к рулю власти, совершило патриотическую ошибку — продолжало войну, несмотря на ужасное истощение русских сил. Это создало для немцев возможность возобновить русскую революцию, тем, что они обеспечили отъезд Ленина в Россию. Ленин был «чудо-оружием» Германии в Первой мировой войне. Вождь большевиков, живший тогда в швейцарской эмиграции и чья партия в момент начала войны была лишь маленькой группой аутсайдеров, всегда намеревался использовать войну и поражение России в войне для того, чтобы произвести в России всеобъемлющую социалистическую революцию. При этом в качестве инструмента должны были использоваться чрезвычайно возросшая потребность мира у русских масс, а также русская армия. План Ленина совпадал с желанием немцев — окончательно выбить Россию из войны. Октябрьская революция 1917 года была победой Ленина; а победа Ленина казалась руководству Германского Рейха также и победой Германии — по меньшей мере на Востоке. То, что во время Октябрьской революции Ленин думал не только о России, но также и о мировой революции, что он надеялся — из России получится начальная искра социалистической революции также и в Германии, также в Австрии, возможно и в западных державах — это германское правительство не беспокоило. Оно было уверено, что сможет сорвать эту часть планов Ленина, и они исходили из того, что пока в настоящий момент Россия вследствие внутренних переворотов и борьбы выпадет из войны. Это произошло.
В конце 1917 года война на Западе оставалась завязнувшей на месте и позиционной; разумеется, примерно через два года угрожал сильный перевес западных держав вследствие полного вступления в войну Америки. Между тем однако Россия как противник вышла из войны и тем самым немцы смогли (хотя сами уже были на грани изнеможения) вести войну на один фронт и выиграть немного времени, в течение которого они обладали на Западе преимуществом. Возможно, что таким образом в 1918 году можно было всё же еще воплотить в реальность план 1914 года — блицкриг на Западе.
Между тем всё-таки и в Германии во время войны происходили значительные внутриполитические изменения. Первое, к которому следует обратиться, произошло в 1914 году. Социал-демократы не только принимали участие в войне, не только давали своё согласие на военные кредиты, не только воздерживались от какой-либо антивоенной деятельности — полностью, как надеялся и рассчитывал Бетманн, — но они даже начали становиться частью германского политического военного механизма. Невозможно переоценить внутриполитический перелом 1914 года. В нём была уже заложена вся немецкая история периода с 1918 до 1933 года.
До 1914 года в кайзеровском рейхе социал-демократы всё ещё оставались отрезанными от настоящей политики. Они были внутренним врагом, «врагом Рейха», их никогда не воспринимали как настоящих партнеров, хотя они с 1912 года уже представляли собой самую сильную партию в рейхстаге. В предыдущей главе я попытался изложить, как под воздействием этой конфронтации социал-демократов с официальной Германией уже внутри социал-демократической партии происходили большие изменения, как социал-демократы уже до 1914 года из революционной партии превратились в реформистскую партию, которая внутренне была готова врасти в германскую политическую систему. Всё это до 1914 года внешне еще не было видно; для немецкой буржуазии военный патриотизм социал-демократов стал совершенно неожиданным. Но в 1914 году он отчётливо выявился, и руководство рейха также поняло это. Война Германии финансировалась посредством военных займов, общим числом девять, на которые каждый раз должен был давать свое согласие рейхстаг. Это означало, что рейхсканцлер каждый раз, когда требовался новый военный заём, должен был проводить совместные заседания с партиями рейхстага, с ними советоваться, добиваться их согласия, в связи с этим естественно также обсуждать с ними общую военную политику и военные перспективы — и теперь к этому привлекались социал-демократы, как все остальные партии. И они сотрудничали. Внутри социал-демократии это постепенно вело к расколу.
Левое крыло социал-демократов уже в 1914 году неохотно приняло патриотическую военную политику партии. Оно усилилось в течение следующих лет и в конце концов в 1917 году откололось в качестве новой «независимой» социал-демократической партии, которая отвергала войну и не одобряло более военные займы. Но партия независимых социал-демократов оставалась относительно малочисленной; социалисты большинства, как они теперь назывались, были как и прежде самой большой партией в рейхстаге и всё более и более врастали в германскую войну и в германские военные усилия. Причём они также образовывали противовес сильно завышенным военным целям, которые пропагандировались немецкими правыми и наполовину принимались Бетманн-Хольвегом с его «политикой диагонали».
В первые два военных года Бетманн в рамках так называемого «гражданского мира» держал общественность в стороне от дискуссии о целях войны. Всё же с 1916 года эта дискуссия всё более и более прорывалась наружу и подействовала так, что в рейхстаге в конце концов образовались две группы партий: правая, которая добивалась весьма радикальных целей войны, захватов и аннексий, огромной колониальной империи, требовала громадных контрибуций; и левоцентристская группа, которая заявляла, что следует радоваться, если из этой войны удастся выйти подобру-поздорову, и потому нужно использовать каждую возможность, чтобы заключить компромиссный мир, мир «без аннексий и контрибуций».
К этой группе принадлежали теперь не только социал-демократы. В 1917 году образовалось новое большинство в рейхстаге из социал-демократов, левых либералов и центра. Они вели в прессе и в обществе постоянную борьбу с правыми, правыми либералами, консерваторами и с внепарламентской правой оппозицией, которая теперь объединилась в «Немецкую Партию Отечества». Это были так называемые «дебаты о целях войны», чисто академическое занятие, поскольку следовало сначала войну выиграть, достичь полной победы, чтобы вообще быть в состоянии превратить в реальность огромные военные цели правых. Но этого сделать не смогли, во всяком случае до 1918 года. Чтобы претворить в реальность цель войны нового большинства в рейхстаге, а именно компромиссного мира на основе границ 1914 года, требовалась разумеется готовность противника такой мир заключить, чего также не было.
Несмотря на это — или как раз поэтому — дебаты о целях войны чрезвычайно углубили внутренние противоречия в Германии. Они велись со столь большим ожесточением, как если бы единственно постановкой великих целей войны можно было достичь победы, а готовность к взаимопониманию уже означала компромиссный мир. По этому вопросу в Германии произошёл глубокий внутренний раскол, который правда должен был по-настоящему сказаться лишь после войны. Но практически дело обстояло так, что большинство в рейхстаге вовсе не оставалось глухим к тяготам войны и ко всё более ожесточённому продолжению войны.
В 1916–1917 гг. в Германии произошло два больших внутренних изменения. В августе было смещено второе Верховное Командование войсками, которое уже в ноябре 1914 года заявляло рейхсканцлеру, что войну более невозможно будет выиграть чисто военными средствами. Оно вело войну до 1916 года в определенной мере по-бухгалтерски: экономное обращение с человеческими и материальными ресурсами, так чтобы можно было продержаться как можно дольше; ограниченные военные операции, чтобы продлевать войну столь долго, пока не возникнет положение, в котором можно будет без издержек выйти из неё. Это командование войсками в 1916 году было смещено и заменено третьим Верховным Командованием войсками во главе с Гинденбургом и Людендорфом. Эти люди политически полностью принадлежали к немецким правым, которые добивались полной победы, с нею всех завоеваний, которые должны были за такой победой последовать, и которые были готовы в любое время для победы всё поставить на карту. Неограниченная подводная война была внедрена этим третьим Верховным Командованием, и революционизирование России также проходило под его сильным влиянием.
Второе большое внутриполитическое изменение последовало в июле 1917 года: смещение рейхсканцлера Бетманн-Хольвега, при котором удивительным образом сотрудничали правое Верховное Командование и левое большинство в рейхстаге. Обе стороны желали избавиться от Бетманна, хотя и по противоположным мотивам: Верховное Командование — поскольку он не был достаточно воинственным, а большинство рейхстага — потому что он не был для них достаточно мирным. И у тех, и у других не было наготове преемника. Лишь несколько месяцев на этом посту был случайный кандидат, и затем (в декабре 1917 года) появился первый в известной степени парламентский рейхсканцлер, старый баварский политик-центрист граф Гертлинг. Гертлинг опирался на новое парламентское большинство и одного из их депутатов рейхстага (ныне забытого партийного вождя фон Пайера) сделал вице-канцлером.
Кайзер тем временем скатился в полную пассивность: во всей войне он больше не играл прежней роли. Вильгельм II. колебался только еще между подчинением Верховному Командованию и подчинением большинству рейхстага. Ни как Верховный Главнокомандующий, ни как действительно авторитетный, решающий в последней инстанции политик он уже не задавал тон.
В 1917 году Германия в своём состоянии была удивительно запутанной. Внешне в её устройстве ничего не изменилось, но практически оно более не функционировало. Внешнеполитически Рейх в основном управлялся Верховным Командованием, внутриполитически — в основном новым большинством в рейхстаге. Во многих делах они работали резко раздельно, в противостоянии новым центрам силы также и вместе: например новое армейское командование в конце 1916 года провело мобилизацию всех сил (то, что позже обозначат как «тотальная война»), то есть своего рода рабочую повинность для всех немцев в возрасте от 17 до 60 лет, возможное трудовое участие женщин, полное замещение всей промышленной продукции на военную продукцию. Большинство в рейхстаге соучаствовало в этом, но во внутриполитическом реформистском смысле с подтекстом. Так называемый «Закон о вспомогательной службе» был принят, с которым в первый раз были проведены такие вещи, как будущее повышение тарифов между предпринимателями и профсоюзами, а также участие профсоюзов во внутренней жизни предприятий. Эти перспективные учреждения, которые для тогдашней Германии были поистине революционными, Верховное Командование армии приняло, хотя и против воли, чтобы протащить свою военную программу.
Так что в конце 1917 года ситуация в Германии выглядела следующим образом: внутриполитически Рейх стоял на новой основе, действительным силами теперь были не кайзер и рейхсканцлер, а Верховное Командование на одной стороне и большинство рейхстага на другой. Обе силы до определенной степени работали совместно, не достигая при этом настоящей гармонии. Внешнеполитически дела обстояли так, что война на Западе становилась всё более позиционной, подводная война проигранной, а Америка вступила в войну в качестве противника. С другой стороны предполагалось, что Россия как противник выйдет из игры. Таково было положение к началу 1918 года, в котором при уже сильно перенапряженных и почти истощенных внутренних силах рейха еще раз на короткое время показалась возможность победы.
1918 год был поворотным в истории Германского Рейха. До 1918 года рейх в своей написанной конституции и в сознании его граждан всё еще был государством, каким он был основан — федеративной монархией с сильным доминированием Пруссии и с полупарламентским устройством. В 1918 году всё изменилось, и с 1918 Германский Рейх больше не успокаивался. События этого года были неслыханно противоречивыми, неслыханно лаконичными, неслыханно опрометчивыми — и они до сих пор в сознании немцев никогда не были правильно осмыслены. В этом месте я хочу попытаться по возможности в какой-то степени прояснить их.
В начале 1918 года положение Германского Рейха в войне внешне казалось более обнадеживающим, чем когда-либо раньше со времени провала плана Шлиффена в сентябре 1914 года. Большим событием, с которого начался этот год, было заключение мира со ставшей большевистской Россией — Брест-Литовского мира. Тем самым Германия могла в любой момент оставить войну на Востоке и сконцентрироваться на войне на Западе, могла на Западе еще раз, по меньшей мере на время, получить военное превосходство. И кроме того, Германия на Востоке почти полностью достигла своих изначальных военных целей.
В своем сентябрьском меморандуме 1914 года Бетманн так обрисовал военные цели на Востоке: оттеснение России от германских границ и освобождение вассальных народов России. Точно таким было содержание Брестского мира, чрезвычайно жесткого для России победного германского мира. Большая полоса территорий, принадлежавшая до того России — балтийские государства, Польша и Украина — получали теперь государственную независимость, однако становились при этом более или менее зависимыми от Германии и также оставались оккупированными Германией. Так что Россия была оттеснена от границ Германии, и Германия за счёт России приобрела в Восточной Европе огромную империю, которой она могла управлять прямо или косвенно. Кроме того, и в тот момент это казалось гораздо важнее — высвобождалась германская восточная армия в новых странах, за исключением некоторого количества оккупационных войск.
На этом месте, забегая вперед, я хочу указать на факт, который лишь позже должен был получить большее значение. В сумятице начинающейся русской гражданской войны и интервенции держав Антанты против большевистского правительства руководящие лица Германского Рейха неожиданно увидели шанс: сверх Брестского мира заполучить всю Россию в зависимость от Германии. Началось большое наступление германских войск за пределы установленных Брестским договором границ. Летом 1918 года немцы стояли на линии, простиравшейся от Нарвы на севере через Днепр до Ростова на Дону. Это означало: они дошли почти так же далеко, как Гитлер во Второй мировой войне, они завладели огромными территориями России, и они начали размышлять, не смогут ли они на развалинах большевистского господства также и собственно Россию сделать германской империей. В определенном смысле это была та Восточная Империя, к которой стремился позже Гитлер, и она уже однажды была в пределах досягаемости немцев, что глубоко врезалось в память многих немцев — в том числе и Гитлера. От 1918 года осталось убеждение, что Россия побеждаема, что, несмотря на свою величину, несмотря на массы своего населения, она была слабой страной, которую можно одолеть, покорить и подчинить. Совершенно новая идея, которая в 1914 году была очень далека, начала играть роль в германской политике. Она должна была, как сказано, стать важной лишь в будущем, потому что в 1918 году эта германская Восточная Империя просуществовала лишь мгновение. Она исчезла в результате более поздних событий этого года; и от этого осталось одно лишь видение.
Всё предвещало, или мы скажем точнее: к началу 1918 года ещё ничего не знали. Тем не менее положение казалось вполне обнадёживающим, потому что теперь можно было большую часть — лучшую часть — германской Восточной армии отвести назад и перебросить на Запад. К этому решению Людендорф — при Гинденбурге подлинный глава Верховного Командования — пришел уже вскоре после победы большевистской революции в ноябре 1917 года. Тем самым он приблизил к реальности надежду — на Западе впервые с 1914 года иметь определенный военный перевес — так что там весной 1918 года можно было начать решающее для исхода войны наступление.
Таким соображениям можно было бы найти возражения, поскольку информированные современники уже в начале 1918 года знали, что не стоит в последний момент возбуждать большие надежды на победу, ибо Германия уже была ужасно обессиленной войной. Недоедало не только гражданское население родных городов, в 1918 году армию тоже кормили недостаточно. Еще хуже выглядела ситуация у союзников Германии. Австрия собственно уже с 1917 года была близка к концу: в этом году она предприняла неудачную попытку выйти из войны. Только перспективы победы Германии в 1918 году заставили её в конце концов всё же остаться в союзе. У турок и болгар дела обстояли подобным образом. Никто не хотел стоять в стороне, когда теперь в конце немцы всё-таки еще победят. Но отскочить в сторону все они были готовы: в том случае, если немцы весной и летом 1918 года упустят решающую военную победу, они должны были принимать в расчет немедленный развал союзников.
От германского наступления на Западе в 1918 году всё зависело еще с другой точки зрения. Когда в 1917 году в войну вступила Америка, она не была к ней ни в коей мере подготовлена. Она должна была свои армии сначала призвать, выучить и в заключение перевезти во Францию. Всё это в 1917 году еще не могло произойти (не принимая в расчёт небольшие передовые отряды) — но теперь, в 1918 году, машина была запущена в ход и начала работать. Первые американские войсковые части прибыли весной во Францию, и летом и осенью 1918 года они участвовали в военных действиях — еще в относительно скромных масштабах. Они становились бы всё сильнее и в 1919 году были бы в наличии в подавляющем количестве. Если войну на Западе не выиграть с военной точки зрения до этого, то тогда — это было очевидно — война была проиграна.
Так что у немцев был, так сказать, узкий коридор, через который они должны были проскочить в большой спешке, если хотели еще добиться для себя благоприятного исхода; если же этот шанс упустить, то тогда поражение было реально у ворот. Такова была чрезвычайно драматическая ситуация в начале 1918 года.
Людендорф поставил всё на то, чтобы весной 1918 года, прежде чем американцы смогут вмешаться в больших масштабах, смочь прорвать фронт — а именно фронт англичан. План наступления на Западе в 1918 году во многом напоминает более поздний план Манштейна, который был столь успешным в 1940 году. По этому плану всё должно было быть сконцентрировано на стыке английского и французского фронтов, английский фронт должен был быть прорван на его южном конце и изолированные к северу от места прорыва английские войска планировалось сбросить в море. Когда это произойдёт, можно будет наброситься на Францию.
Всё зависело от того, что первое большое наступление действительно добьётся прорыва, что получится дойти до моря и что удастся отделить друг от друга английскую и французскую армии. Эта попытка была предпринята в так называемой «кайзеровской битве». Речь шла о крупном наступлении на местности, где уже многократно происходили сражения. Теперь там в чрезвычайно тщательно подготовленной наступательной операции были сконцентрированы три германских армии против двух английских. Они начали наступление 21 марта 1918 года. Это наступление в оперативном смысле было успешнее, чем любое из больших наступлений союзников на Западе. Во всяком случае немцы нанесли тяжелое поражение одной из двух английских армий, южной, заняли большие территории, отбросили англичан и на пару дней вызвали кризис на стороне союзников.
Но с этим кризисом справились. И в этот раз в очень короткое время выявилось снова то, что всё время показывала Первая мировая война: то, что технические условия этой войны радикально ограничивали возможности стратегии. Даже успешное наступление — а немецкое было сначала успешнее, чем было любое из наступлений союзников — не могло привести к полному прорыву, поскольку удавалось быстрее закрывать возникающие бреши, подводить резервы, снова и снова останавливать наступление, чем было возможно подпитывать, форсировать наступление, усиливать его новыми вводимыми войсками.
Всегда следует иметь в виду, что Первая мировая война, во всяком случае на Западе, и в этой фазе была войной пехоты. Никакая армия не могла наступать быстрее, чем маршировал отдельный солдат. Но за спиной у оборонявшегося были железные дороги, по которым он мог перебросить резервы с других фронтов. Точно так же произошло и на этот раз. 21 марта началось германское наступление, пару дней поступали победные сообщения, были большие захваты территорий; затем дела стали замедляться, вслед за тем и вовсе застопорились. В конце марта германское наступление окончательно потерпело стратегическую неудачу, то есть — оно застряло, прежде чем были достигнуты его стратегические цели. Если быть точным, то тем самым был упущен видимый или действительный шанс победы немцев на Западе.
Тем не менее, Людендорф еще не сдался. Вскоре после этого, в апреле, он предпринял второе, уже не столь мощное наступление против северной части английского фронта. Затем наступила пауза. Затем третье наступление в совершенно другом месте, на этот раз против французского фронта, в ходе которого немцы в конце мая — начале июня еще раз продвинулись до судьбоносной реки 1914 года — Марны. Теперь уже отчасти существовало впечатление дикой и напрасной бойни ради неё самой. Снова операция тактически в целом прошла успешно — но и её постигла судьба первой. После больших начальных успехов она была остановлена новыми подтянутыми резервами, настоящего же прорыва достигнуто не было. В заключение в середине июля под Реймсом произошло ещё четвертое наступление, которое подобно наступлениям союзников предыдущего года было отбито сразу же в начале. И тем самым шансам на победу Германии в 1918 году пришёл конец.
Я подчеркиваю это совершенно особо, поскольку это мне представляется непосредственным ключом к дальнейшему чрезвычайно драматическому ходу событий 1918 года. Германское руководство, германская армия и до определенной степени также германская общественность — насколько она была осведомлена — знали с середины июля 1918 года, что войну больше выиграть нельзя, что упущен последний шанс на победу. Теперь уже в войну вступили американцы и они становились всё заметнее, и, что никто не предвидел, теперь ещё раз приободрились французы и англичане, после того, как миновал момент настоящей смертельной опасности, и они перешли к крупному контрнаступлению. Оно началось на французском фронте непосредственно после провалившегося последнего германского наступления 18-го июля, а на английском фронте, который был между тем усилен войсками преимущественно из Канады и Австралии, 8-го августа 1918 года. Нам следует запомнить эту дату — 8 августа. Людендорф назвал её «черным днём германской армии».
Именно в первый раз союзникам посчастливилось совершить то, что им до того не удавалось — и что совершили немцы весной 1918 года: в первом рывке наступления достичь действительно большой оперативной победы. Хотя и она не вела ещё к стратегическому решению, к прорыву, но это был для немцев совершенно новый и травматический опыт. Англичане, канадцы и австралийцы, усиленные теперь танками, которые впервые сыграли в этой войне большую роль, ворвались на германские позиции, вынудили к похожему на бегство отступлению первую линию — и этого тоже до сих пор не происходило — и взяли очень много пленных. И они смогли также развить эту победу.
В своих воспоминаниях Людендорф повествует: ему было сообщено, что выдвигавшиеся на замену германские части приветствовались откатывавшимися фронтовыми войсками криками «Штрейкбрехеры!» Действительно ли это происходило или это только легенда — во всяком случае на Людендорфа эта история произвела глубокое впечатление. В своих воспоминаниях он написал, что ему после этого стало ясно, что инструмент, которым ведется война, германская армия, больше не был надёжным: «Войну следовало окончить».
Что же произошло с германской армией между мартом и августом? В марте они, изнуренные, истощённые, с уже убывающими последними силами, всё же ещё раз с полной волей к победе и с временным большим успехом сражались в наступлении. В августе они явно не были больше готовы даже в обороне отдать последние силы. При этом следует иметь в виду одно обстоятельство, которое проявилось особенно отчётливо в последующие месяцы, во время долгих боёв при отступлении с августа по ноябрь 1918 года. Германская армия тогда с моральной точки зрения распалась на две различных части. Одна часть войск сражалась столь же твёрдо, как и прежде, грозящим поражением она была прямо фанатизирована. Она еще вела героические оборонительные сражения — однако, как сказано, только частью войск. У другой, большей части проявилось, что германский военный дух теперь был подпорчен. Эти солдаты в целом внутренне сдались, они больше не видели никаких шансов на победу, а видели только неминуемое поражение и просто не имели никакого желания ещё отдавать свою жизнь в этом заключительном акте проигранной войны. С военной точки зрения возвысившаяся до фанатизма, до отчаяния готовность к обороне одной части армии само собой разумеется оценивалась более высоко; но следует быть справедливыми и по отношению и к другой части.
Это были не трусы и не дезертиры, напротив — речь шла о думающей части армии. Ведь массовые войска Первой мировой войны были думающими войсками. Старые профессиональные армии были чистыми машинами, прочно вымуштрованными на приказ и повиновение: «Пусть лошади думают — у них голова большая». На это безоговорочное послушание регулярных войск нельзя было более рассчитывать в войсках «последнего призыва» — в армиях последних лет мировой войны. Они были думающими армиями граждан. Чтобы проявить их полную боеспособность, им кроме военной дисциплины требовалось то, что теперь называют мотивацией. Они должны были иметь чувство, что они сражаются за нечто такое, за что имеет смысл сражаться. Я думаю при этом вовсе не об идеалистических целях войны, а просто о возможности победы.
Этой возможности с июля или быть может уже с апреля 1918 года объективно больше не было. Немцы выложили свой последний козырь; он оказался битым. С этого момента они сражались только еще затем, чтобы отодвинуть неминуемое поражение. При мысли о том, чтобы стать жертвой — и при этом напрасной жертвой — должны были проявиться как психологические, так и вещественные симптомы изнурения.
Людендорф полностью был прав также в том, что упадок боеспособности происходил в самой армии — еще не в народе, не в тылу, где всё еще довольно слепо верили в возможность победы; впрочем также введенные в заблуждение преувеличенно оптимистическими военными сообщениями. Это действительно была та армия, которая весной и летом 1918 года потерпела поражение. Поражение, которое на карте военных действий вряд ли можно было различить, поскольку оно было моральной природы. Стремящейся к победе германской армии 1914 года после этого больше не было. Даже если некоторые войсковые части еще продолжали сражаться с полной отдачей, то моральное состояние германской армии в целом если и не было сломлено, то всё же оно сильно пострадало. Людендорф был полностью прав в том, что из этого он уже в августе 1918 года вывел заключение, что войну следует окончить.
Но как? Ведь между тем западные державы были убеждены, что они преодолели критический момент, так что они смогут тотчас же перейти к контрнаступлению, не ожидая еще долго американцев. И к тому же у них теперь был непривычный опыт — опыт успешного контрнаступления. С августа германская армия постоянно отступала с одной позиции на другую — всё еще сражаясь, но сражаясь уже всё же не столь решительно, как прежде. В конце сентября они достигли так называемой линии Гинденбурга — последней полностью выстроенной, находившейся уже далеко за старым фронтом оборонительной позиции; и как раз там союзники после небольшой паузы со всей силой возобновили своё контрнаступление. Теперь грозил прорыв союзников через позиции линии Гинденбурга и тем самым — военная катастрофа на Западном фронте.
В этой ситуации Людендорф решился капитулировать. 28-го сентября он пришел к соглашению с Гинденбургом, что требуется заявление о прекращении огня. Оно должно было быть объединено с предложением мира на базе так называемых «14 пунктов» американского президента Вильсона. Если бы Гинденбург и Людендорф внимательно прочитали эти 14 пунктов, то им бы стало ясно, что они предусматривают полное поражение Германии, поскольку среди этих 14 пунктов было не только возвращение Эльзас-Лотарингии Франции, но также и восстановление Польши, включая прусско-польские области и с доступом к морю, то есть будущим польским «коридором». Я не верю, что Людендорф подробно изучил 14 пунктов, он вбросил их, так сказать, на ринг, чтобы затруднить американцам отказ немцам в просьбе о прекращении огня и предложении мира.
На следующий день, 29 сентября, произошло ещё нечто, что должно было стать весьма важным для дальнейшего хода событий. Людендорф в это воскресенье пригласил в штаб-квартиру гражданское руководство рейха. Оба важнейших члена правительства — рейхсканцлер граф Хертлинг и министр иностранных дел фон Хинтце — ехали различными способами: Хинтце, молодой, энергичный мужчина, ехал всю ночь и встретился с Людендорфом утром воскресенья; Хертлинг, старый человек, путешествовал дневным поездом и потому прибыл в штаб-квартиру в Спа лишь далеко после полудня. Однако между тем Хинтце уже познакомил Людендорфа с новой идеей.
Рассуждения Хинтце исходили из того, чтобы предложение о перемирии подкрепить внутриполитически, чтобы завоевать симпатии президента Вильсона. Требовалось парламентарно-демократическое правительство, чтобы произвести на американцев впечатление новой, демократической Германии, стремившейся к миру — на основе самим Вильсоном разработанной мирной программы! Так что теперь следовало привлечь в правительство большинство рейхстага, и кроме того, изменить конституцию, сделать рейх парламентской монархией, в которой рейхстаг может смещать министров и рейхсканцлера через вотум недоверия, следовало пробудить впечатление, что к миру стремятся не из-за грозящей военной катастрофы, а вследствие этого демократического обновления.
Людендорф охотно воспринял это предложение, но при этом он скорее думал о несколько ином. Я уверен, что психологические и дипломатические соображения, которые стояли за предложением Хинтце, он признал заслуживающими внимания. Но что он из этого тотчас же понял — это то, что в таком случае ему не требуется самому поднимать белый флаг, а он сможет втиснуть его в руки большинства в рейхстаге, то есть своих внутриполитических врагов.
Так что 29 сентября в присутствии также появившегося кайзера — который однако вёл себя при этом исключительно пассивно — в штаб-квартире было решено, что тотчас же должно быть образовано парламентское правительство с министрами из большинства в рейхстаге. Это правительство должно было без официального участия Высшего Командования, но с чрезвычайной скоростью опубликовать заявление о прекращении огня и о мирных переговорах, так как по оценке Людендорфа существовала непосредственная угроза развала Западного фронта. Поэтому ему должно было быть разрешено изменить конституцию и парламентаризировать рейх.
Когда ведущие депутаты рейхстага 2-го октября в Берлине были посвящены во всё посланником Людендорфа, то они растерялись. Понимание того, что война на Западе теперь проиграна с военной точки зрения и что даже грозит военная катастрофа, все они, включая членов большинства в рейхстаге, всё же восприняли как страшную неожиданность. И с этим ужасным сообщением было сверх того связано требование теперь им самим принять ответственность за потерпевшее банкротство предприятие.
В этот мрачный момент на сцену предсказуемо вышли социал-демократы. Это примечательное развитие событий было подготовлено уже в мирное время и в ближайшие недели и месяцы должно было стать решающим. Социал-демократы, во всяком случае, их большинство, были более чем другие партии готовы к ответственности. Если нам теперь передают ответственность, говорил председатель партии Фридрих Эбен, то тогда мы должны «впрыгнуть в брешь» и спасти то, что еще можно спасти оставшегося от Германского Рейха. Это тем более, что социал-демократию считали способной не только выработать заявление о прекращении огня, но и им разрешили в то же время наконец то, чего они добивались уже десятилетия: парламентаризацию правительства, то есть возможности для рейхстага смещать рейхсканцлера и министров посредством вотума недоверия, и к тому еще запоздавшего упразднения прусского трехклассного избирательного права. Это были впрочем последние существенные пункты в каталоге социал-демократических требований, которые к тому времени еще были открытыми. Теперь эти их требования будут наконец выполнены, и социал-демократы во главе с Эбертом после некоторых дискуссий и размышлений были готовы вступить в эту сделку.
Подумают: что за невероятный дополнительный внутриполитический успех это был для кайзеровского периода. Бисмарковские «враги рейха», всё еще стоявшие в стороне и предаваемые поруганию «безродные космополиты» Вильгельма II., были готовы в качестве правящей партии принять рейх — и именно кайзеровский рейх, ведь о свержении монархии в этот момент времени вообще не было речи, — с некоторыми реформами вести его дальше и даже взять на себя ответственность за его поражение. Это было эпохальное событие.
При принце Максе фон Баден, либеральном аристократе и члене правящей баденской династии, было теперь составлено правительство с социал-демократами, левыми либералами и центристами в его составе. Это правительство 3-го октября от своего имени, без намёка на военное положение и на роль Верховного Командования, отправило президенту Вильсону заявление о прекращении огня и о предложении мира. Сам кайзер убедил сомневавшегося принца Макса фон Баден в необходимости этого шага.
Теперь одновременно случилось много событий. Прежде всего, на Западном фронте не произошло катастрофы, которую Людендорф ожидал 28-го и 29-го сентября. Германская армия продолжала сражаться ещё вплоть до дня объявления перемирия 11-го ноября, правда при постоянных отступлениях и сдачах территорий. В эти последние недели войны четверть миллиона немецких солдат попали в плен. Но все же до последнего дня войны существовал сплошной фронт, который продолжал сражаться на бельгийской и французской территориях.
С другой стороны теперь произошло — и только теперь — нечто вроде внутренней катастрофы на фронте Родины. Немцы в своей массе, и особенно голодавшие и уже давно недовольные слои рабочих, то есть массы избирателей левых партий, теперь неожиданно узнали — так сказать в разгар побед, поскольку о действительных поражениях военные сводки еще никогда не сообщали — что война проиграна, по меньшей мере явно будет проиграна. Ничего удивительного в том, что эти люди теперь со своей стороны потеряли всякую веру в своё руководство, которое довело их до такой ситуации. В больших городах Германии подготавливалось что-то вроде революции. Она только подготавливалась, она ещё не разразилась, но внутриполитический ландшафт в Германии в октябре 1918 года начал сильно меняться.
И еще кое-что произошло в этом октябре. Вильсон ни в коем случае не согласился сразу же на германское предложение о перемирии. Он послал ноту, в которой он — не совсем без оснований — усомнился, что следует действительно серьёзно воспринимать неожиданную демократизацию Германского Рейха (кайзер и все правители земель рейха всё еще были на местах), и в трёх последовавших друг за другом нотах он потребовал дальнейших изменений внутри Германии. Вильсон смотрел на войну в первую очередь с идеологической точки зрения. Он требовал настоящей демократизации в Германии и разъяснил, что под этим он в первую очередь подразумевает исчезновение кайзера.
Тут только — вследствие требований Вильсона — в течение октября в Германии развернулись «дебаты о кайзере»: следует ли, поскольку теперь и без того возврата больше нет, выполнить и это требование — должен ли кайзер отречься от престола? В кругах нового правительства рейха образовалась партия, которая ратовала за то, чтобы по крайней мере пожертвовать кайзером как фигурой, если не приносить также в жертву и монархию как таковую. Им противостояла другая группировка, имевшая своих приверженцев в особенности в руководстве армии и военно-морского флота, на что я намеренно указываю уже теперь. Людендорф в октябре претерпел необычайное изменение. Свой государственный переворот (так можно его пожалуй назвать) он начал 29 сентября в своего рода паническом настроении, поскольку опасался непосредственного развала Западного фронта. Когда этого не произошло, когда Западный фронт продолжил сражаться, Людендорф снова изменил своё мнение. Теперь он хотел всё же продолжать войну дальше до конца. Следует отдать ему должное, что вероятно с военной точки зрения еще было бы возможно спастись на Западе, так сказать, в зиму. Хотя наступления союзников происходили с постоянным продвижением вперед, настоящий прорыв не был достигнут нигде. Между тем пришёл октябрь, на пороге был ноябрь. Вероятно, что зимой наступила бы оперативная пауза, возможно, что Западный фронт был бы ещё раз консолидирован на линии Антверпен-Маас и смогли бы подготовиться к весенней и к летней военным кампаниям в будущем году. Разумеется, при тогда уже достигнутой массивной американской силе это стало бы полностью безнадёжным делом и это вероятно привело бы к вторжению в Германию.
Но теперь случилось еще нечто иное, что сделало дальнейшее сопротивление на Западе так сказать беспредметным: союзники Германии развалились. Собственно говоря, союз этот уже в начале 1918 года дышал на ладан, и союзники хотели подождать результатов последнего шанса большого германского наступления, результата разыгрывания последней германской военной козырной карты. После того, как эта козырная карта была бита, Австрия, Болгария и Турция внутренне распались. В Австрии начались восстания национальностей; австрийская армия как военный инструмент стала непригодной к использованию в гораздо большей степени, чем германская. Первый фронт, который полностью развалился, был австро-болгарский на Балканах. За ним последовала катастрофа австрийской армии в Италии. Даже если германский Западный фронт и смог бы возможно спастись в зиме, то теперь угрожал новый Южный фронт, против которого немцы вообще ничего не могли выставить.
В рамках этих сложных исходных условий продвигалась теперь внутренняя политика Германии. Как уже было упомянуто, в конце октября в Германии снова противостояли друг другу обе старых партии: прежняя партия военных целей оказалась теперь партией последней отчаянной битвы; прежняя партия переговоров проявилась как партия почти безоговорочного окончания войны. Эта конфронтация в начале ноября привела к возникновению германской революции, которую в действительности никто ещё не предвидел.
Германская революция была спровоцирована решением командования ВМФ — принятым вообще-то без информирования правительства Рейха — еще раз отважиться на большое морское сражение с английским флотом. Против этого плана восстала часть германского флота, и в конце концов от него вынуждены были отказаться. Однако при этом множество матросов было арестовано: им грозил военный суд, смертная казнь, и их товарищи не хотели оставаться при этом безучастными зрителями. 4-го ноября в Киле, куда был отведён германский флот из своих западных баз, вспыхнуло большое восстание матросов. Восставшие захватили корабли, подняли красные флаги, образовали Советы матросов и в конце концов захватили власть в городе Киль.
Восстание матросов, которое по времени совпало с дебатами по «вопросу о кайзере», не имело никаких политически выраженных целей. Однако после того, как матросы один раз овладели флотом и городом Киль, они осознали, что начатое они должны как-то довести до конца, если они в конце концов не хотят принять смерть как мятежники. Они разъехались из Киля, и в течение короткой недели, начиная с 4 ноября, революция как лесной пожар распространилась сначала на Северную Германию, затем на Западную Германию, и в заключение на большую часть Германского Рейха. Вдобавок дело дошло до спонтанных восстаний в других главных городах германских земель, например 7-го ноября в Мюнхене.
В целом это был процесс без вождей, но неудержимый, вырвавшийся из масс: в армии были образованы солдатские Советы, на фабриках — Советы рабочих. Эти Советы рабочих и солдат в больших городах взяли на себя своего рода управление. У октябрьского правительства почва начала уходить из-под ног. Революция для него была чрезвычайно некстати.
Принц Макс фон Баден в своих воспоминаниях пишет о встрече с Эбертом 7-го ноября 1918 года:
«Я увидел Эберта одного рано утром одного в саду. Сначала я говорил о моей запланированной поездке: «Вы знаете, что я планирую. Если мне удастся убедить кайзера, будете ли Вы тогда на моей стороне в борьбе против социальной революции?» Ответ Эберта последовал без задержки и недвусмысленно:
«Если кайзер не отречется, тогда социальная революция неизбежна. Но я её не хочу, да, я её ненавижу как смертный грех.»»
Тем самым он высказал свою личную правду. Он вместе со своей партией внутриполитически достиг в октябре всего, чего он хотел достичь. Теперь они планировали скорейшим образом закончить войну и затем в союзе с буржуазными прогрессивными и центристскими партиями управлять Германским Рейхом так сказать в качестве конкурсных управляющих военного банкротства — как это между тем представлялось с октябрьскими реформами, в форме парламентской монархии. По этой причине революция была самым последним, что могло им потребоваться в этот момент.
Но революцию, казалось, нельзя было больше остановить. В субботу, 9 ноября, она охватила также столицу — Берлин. Произошла всеобщая забастовка, массы рабочих вышли на улицы, стянулись в центр перед рейхстагом и демонстрировали — собственно без каких-либо определенных требований, кроме окончания войны. Однако Шайдеманн, второй человек в социал-демократии, полагал, что им следует пойти навстречу тем, что он из здания рейхстага объявил ждущим внизу людям Германскую Республику, за что Эберт на него был безмерно обижен. Вскоре между ними в ресторане рейхстага произошла большая ссора. Эберт сказал, что прежде всего учредительное собрание будет решать, что получится из Германского Рейха — монархия или республика, или что-то ещё.
Он со своей стороны желал сохранения монархии. Поэтому он попытался еще после полудня 9-го ноября — очень интересное примечание для германской истории — провозглашение республики Шайдеманом сделать недействительным. Он принял принца Макса фон Баден, который между тем самовольно объявил об отречении кайзера, а свою должность рейхсканцлера антиконституционно передал Эберту, и попросил его как правителя рейха оставить возможность сохранения монархии. Однако сам принц Макс больше ничего не хотел. Ему было всего довольно и более чем довольно, он хотел вернуться в частную жизнь, он отказался от всего. Так что и Эберт вынужден был считаться с фактом возникновения германской республики.
Она стала фактом не только вследствие речи Шайдемана с балкона рейхстага. В эти дни разыгрывалось ещё нечто иное. Кайзер, к которому я вскоре вернусь, в действительности ещё вовсе не отрёкся. Тем не менее в ночь с 9 на 10 ноября он ускользнул в эмиграцию в Голландию. Но все остальные германские правители, короли Баварии, Саксонии, Вюртемберга, и великие герцоги, и герцоги остальных германских государств, в эти ноябрьские дни в действительности отреклись, одни несколько раньше, другие несколько позже. Это было поразительное событие, потому что им всем без исключения никто физически не угрожал. К ним просто приходили делегации рабочих и солдатских советов и требовали их отречения, и они без сопротивления сдавались.
Это безмолвное исчезновение всех германских монархий, которые только что были само собой разумеющимися, уважаемыми и неприкосновенными институциями, было событием, которое в сумятице этих ноябрьских дней осталось почти незамеченным, но что удивительно — оно также едва удостаивалось позже внимания немецкой историографии, и вплоть до нынешних дней оно не нашло полного объяснения. Отречение порой происходило в почти добродушных формах. Например, король Саксонии сказал делегации, которая потребовала его отречения: «Ну и хорошо, в таком случае сами занимайтесь своим дерьмом».
Слово, которое могло бы обозначать все эти события. Германские монархи не желали продолжать властвовать, они стремились назад в частную жизнь, в большинстве случаев уютно организованную. Никого из них не арестовали, не говоря уж о том, чтобы казнить, как французского и английского королей во время французской и английской революций. Германская революция, если можно так сказать, была добродушной. И всё же в эти дни она была подобна землетрясению, против которого никто не мог ничего сделать.
Я хочу ещё ненадолго вернуться к разговору о кайзере. 29 октября кайзер отправился в штаб-квартиру в Спа и сначала был совершенно согласен одобрить парламентские реформы и продолжать править в качестве парламентского монарха. Прусского министра, который отыскал его в Спа, чтобы склонить к отречению, он резко отчитал. Когда же его застала врасплох революция, то вначале он ещё надеялся, что сможет усмирить её с помощью действующей армии, которая вследствие перемирия вскоре станет свободна. Однако 9 ноября он пережил в этом свое глубокое разочарование.
Как уже подробно говорилось, боевой дух германских войск после провала большого немецкого наступления не был больше таким же, как прежде. После заявления о перемирии и внутренних потрясений в Германии он стал только лишь хуже. 9 ноября Верховное Командование сухопутных войск пригласило в штаб-квартиру 39 фронтовых офицеров, большей частью командующих дивизиями, чтобы выяснить, готова ли армия в случае наступления перемирия сражаться против революции для сохранения трона, за кайзера. Единогласное мнение командиров гласило: нет. Армия была готова маршировать обратно в Германию в сопровождении Его Величества, если этого пожелают — но сражаться она более не желала, ни с внешними врагами, ни с внутренними.
На основании этого Гинденбург и назначенный в конце октября преемником Людендорфа в качестве начальника Генерального штаба генерал Грёнер решились посоветовать кайзеру отречься или по крайней мере удалиться в изгнание. В течение 9 ноября кайзер поддался этому напору — снова удивительным образом без сопротивления. Вильгельм II. отправился в голландское изгнание и похоронил тем самым не только своё личное монаршество, но и, как оказалось, одновременно и все шансы на будущее восстановление монархии. Его формальное отречение, которое последовало лишь позже в ноябре, не имело практически уже никакого значения.
Так что конец германской монархии подготовили 9 ноября два решения: бегство кайзера в Голландию и отказ принца Макса фон Баден (он тоже был монаршего происхождения) принять регентство в рейхе для сохранения германской монархии — что разумеется не означало бы непременно сохранение правления Гогенцоллернов. Итак, Эберт в качестве нового рейхсканцлера и действительного главы нового правительства остался наедине с революцией и с необходимостью заключения перемирия.
Впрочем, это перемирие спорно обсуждалось и среди союзников в течение всего октября. Американский Верховный командующий в Европе, генерал Першинг, не хотел его. Он исходил из того, что немцы и так были бы разбиты. Почему теперь ещё предоставлять им перемирие, которое облегчит им возможность заново окопаться за Рейном и продолжить сражаться? Першинг требовал безусловной капитуляции, как позже во Второй мировой войне американский президент Рузвельт.
Французский и английский же Верховные командующие были скорее готовы согласиться с перемирием. Их армии были, как и германская, сильно обескровлены: они не были более предрасположены к новому большому наступлению в 1919 году — в противоположность американцам, для которых это стало бы первым настоящим испытанием. В конце концов сошлись на том, чтобы предоставить перемирие, но при условиях, которые сделают для Германии невозможным возобновление военных действий.
На основании этого немцам сообщили, что они могут послать в штаб-квартиру союзников переговорщика, которому будут сообщены условия перемирия. Это произошло 6 ноября. Депутат Эрцбергер, центрист и министр в кабинете Макса фон Баден, был выбран для руководства германской делегацией по перемирию. Это очень примечательно: не генерал, а член гражданского правительства был послан для подписания военных условий перемирия. Они оказались чрезвычайно жёсткими. Эти условия в действительности закрепляли полное поражение рейха и делали какое-либо дальнейшее сопротивление невозможным. Западные державы потребовали, чтобы в чрезвычайно короткий срок были освобождены от немецких войск ещё оккупированные области и немецкие области на левом берегу Рейна вместе с тремя предмостьями на правом берегу. Союзные армии должны следовать за оттягивающимися германскими войсками и оккупировать области на левом берегу Рейна вместе с тремя предмостьями на правом берегу Рейна. Далее потребовали передачи флота и огромных количеств материальных ресурсов. Так выглядели основные требования союзников. Они недвусмысленным образом сделали для немцев ясным то, что они проиграли войну. Да, можно сказать даже так, что поражение в действительности было удостоверено лишь этими условиями. Потому что лишь они делали любое будущее сопротивление за Рейном невозможным.
6 ноября посреди революционных дней Эрцбергер поехал в Компьень к маршалу Фошу, получил предоставленные условия перемирия, обговорил ещё пару деталей и доложил их затем правительству рейха, которое их в свою очередь передало Верховному Командованию армии. Верховное Командование, объявило, что их следует принять, даже если невозможно будет добиться какого-либо смягчения условий, поскольку борьбу продолжать невозможно. На основании этого Эрцбергер подписал условия перемирия. Перемирие вступило в силу 11 ноября.
Теперь следует представить себе, как всё это подействовало на немцев. Ещё вплоть до августа они чувствовали себя посреди побед. Лишь вследствие предложения о перемирии в начале октября они узнали, что правительство рейха — вовсе не Верховное Командование, заметьте — объявило борьбу бесперспективной и сдалось. Затем 9-го ноября правительство было заменено на чисто социал-демократическое правительство, и одновременно произошла революция, государи отреклись, кайзер будто бы тоже отрёкся — во всяком случае, он бежал.
Что всё это означало? Для массы малоинформированных немцев события в чисто их временной последовательности представлялись следующим образом: мы собирались выиграть войну, тут в правительство пришли хитрецы, которые уже всегда желали только компромиссного мира, затем был выброшен белый флаг, затем произошла революция, и затем было заключено перемирие, которое сделало нас неспособными к борьбе.
На этой почве позже развилась так называемая «легенда об ударе ножом в спину[13]» — легенда, впервые открыто обнародованная Людендорфом, который, однако, (что примечательно) уже заранее подготавливал дорогу Эберту. Для Эберта речь шла теперь преимущественно о том, чтобы спасти во внутренней политике то, что можно было спасти: октябрьской монархией, если уж так должно было случиться, управлять далее как республикой и подавить революцию. Сначала Эберт заключил мнимый мир с революцией тем, что он 10-го ноября на собрании берлинских рабочих и солдатских советов в качестве руководителя шестиглавого «Совета Народных Уполномоченных» во второй раз воззвал к правительству. В действительности он всё же завязывал союз с оставшимся Верховным Командованием армии, то есть с его действительным новым главой — генералом Грёнером.
Ещё в тот же самый день произошёл ставший позже известным телефонный разговор между ними. Эберт, который хотя и не был легальным рейхсканцлером, но который был так сказать дважды революционно легитимирован с одной стороны принцем Максом фон Баден, с другой берлинским Советом рабочих и солдат, попытался обновить союз начала октября с Верховным Командованием армии. Он хотел освобождающиеся вследствие перемирия фронтовые войска применить для подавления революции и таким образом обеспечить поддержку нового правительства и нового порядка при помощи Верховного Командования. Грёнер уже в этом первом телефонном разговоре заявил о своей готовности к этому, позже он подтвердил соглашение. Оно включало контрреволюцию, военное подавление левой революции, имевшее своё руководство в Совете Народных Уполномоченных, во главе которого как бы в насмешку стоял сам Эберт.
Имеется более позднее представление этой договоренности генералом Грёнером, которое он дал под присягой во время так называемого «Процесса об ударе кинжалом в спину» в 1925 году. Тогда Грёнер показал следующее:
«Прежде всего, разговор шёл о том — и это была моя идея и ближайшая цель — чтобы отобрать власть в Берлине у Советов рабочих и солдат. Для этой цели было запланировано ввести в Берлин войска в составе десяти дивизий. В Берлин был послан офицер, который должен был обговорить детали этого мероприятия, в том числе с прусским военным министром, которого естественно нельзя было исключить. Тут возник ряд трудностей. Я должен указать лишь на то, что со стороны независимых членов правительства, так называемых народных уполномоченных, а также и со стороны, я полагаю, солдатских Советов — без подготовки я не могу точно говорить о частностях — было выставлено требование, чтобы войска вступили без боевых патронов. Само собой разумеется, мы тотчас же воспротивились этому, и господин Эберт безусловно тотчас же подтвердил, что войска вступят в Берлин с боевыми патронами.
Для этого вступления, которое заодно должно было дать возможность снова установить в Берлине твёрдое правление…, была разработана сильная программа, для дней вступления. В этой программе по дням было расписано, что должно происходить: разоружение Берлина, очистка Берлина от спартаковцев[14] и т. д. Всё было предусмотрено, расписано по дням для отдельных дивизий. Это также обсуждалось с господином Эбертом тем офицером, которого я послал в Берлин. За это я особенно благодарен господину Эберту и я буду защищать его из-за его абсолютной любви к отечеству и полной отдачи делу везде, где на него будут нападать. Эта программа в согласии и взаимопонимании с господином Эбертом была вполне завершена».
Это был пакт Эберта-Грёнера, который в течение ноября был усилен и проработан во всех деталях, в то время как одновременно армия очень быстро возвращалась в области рейха, хотя всё же для этого требовалось несколько недель. Эберт приветствовал возвращающихся солдат в Берлине в начале декабря словами, которые в сущности уже предупреждают легенду об ударе ножом в спину: «Никакой враг не одолел вас. Только когда преимущество противника в людях и в материальных ресурсах стало подавляющим, мы отказались от борьбы… Вы можете возвращаться с поднятыми головами».
Пакт Эберта-Грёнера потерпел неудачу. 16 декабря в Берлине должен был проходить конгресс Советов рейха: этот конгресс должны были опередить вернувшиеся 10 дивизий посредством государственного переворота. Однако выяснилось, что солдат просто нельзя было больше удерживать, как и сказал Грёнер под присягой в 1925 году. Это больше не была старая германская армия четырёх военных лет! Солдаты стихийно стремились домой; их число уже вечером после их вступления в Берлин сильно уменьшилось, и в следующие дни войсковые подразделения почти полностью распустились. Когда 16 декабря собрался конгресс Советов рейха, то в 10 дивизиях, которые были введены в Берлин, на месте было только лишь 800 человек. Это был результат той тихой моральной революции, которая с лета бурно прогрессировала в войсках, и которую следует чётко отделять от более поздней революции в Германии, хотя естественно между обеими существовала взаимосвязь. Во всяком случае, фронтовая армия как инструмент внутриполитической борьбы за власть более была непригодна.
Из этого Верховное Командование, которое теперь заседало в Касселе, сделало тот вывод, что для демобилизации больше нет препятствий и вместо этого следует образовать добровольческие войска: добровольные образования из тех войсковых частей, которые не принимали участия во внутренней революции в армии, которые напротив к концу войны фанатически сражались, были враждебно настроены по отношению к развитию событий на родине, оставались верны кайзеру, Людендорфу и были готовы то, что произошло в ноябре, насилием повернуть вспять. И с этими добровольческими соединениями правительство Эберта, особенно новый министр рейхсвера Носке, отныне также вошло в союз.
1918 год окончился первым большим уличным сражением в Берлине при Маршталле, во время которого дивизион революционных матросов одержал победу над остатками старой армии. Новый год начался с так называемой «Спартаковской недели» в Берлине, во время которой первые добровольческие корпуса кроваво подавили новый всплеск революции.
И этими событиями мы заканчиваем рассказ о 1918 годе. Однако я хочу тотчас же добавить, что такие события, которые в декабре и в январе происходили в Берлине, в первой половине 1919 года повторились во многих больших городах Германии. Происходила своего рода ползучая гражданская война, в которой добровольческие корпуса во многих больших городах Германии кроваво подавляли последние остатки власти рабочих и солдатских Советов. Они делали это с полной поддержкой правительства Эберта-Носке, а позже, когда Эберт стал рейхспрезидентом, правительства Шайдеманна-Носке. Большинство рейхстага во главе с социал-демократами и в союзе с контрреволюционными силами старой армии делало ноябрьскую революцию 1918 года реально несостоявшейся. Остался только один результат этой революции: конец монархии.
Но я хотел бы добавить ещё кое-что. Мы видели, как события этого запутанного года находили свое отражение в настроении в особенности немецкой буржуазии. Среди этих немецких бюргеров был также неудавшийся художник, австриец, который вступил добровольцем в германскую армию. Конец войны он встретил в качестве пострадавшего от газов в померанском лазарете — и в этот момент он решил стать политиком, чтобы всё ужасное, что по его мнению произошло после 1918 года, кажущееся истощение нервной системы родины, кажущееся отречение от надёжного шанса на победу — всё это обратить вспять. Этого человека, о котором тогда никто ничего не знал, звали Адольф Гитлер, и в последующие десять лет он постепенно стал ключевой фигурой германской политики.
Национальное собрание, которое было избрано в январе 1919 года, заседало в Веймаре, а не в неспокойном Берлине. Выбрали Веймар, потому что это было тихое место, потому что с военной точки зрения его можно было хорошо защитить — и возможно немного также из-за славы исторического духа этого городка, к которой желала примкнуть новая Германия. Однако принятие Веймарской конституции вовсе не было важнейшим и также не было самым тяжелым решением, с которыми должно было встретиться Веймарское национальное собрание. В гораздо большей степени это было решение «за» или «против» подписания Версальского мирного договора, который в ультимативной форме был представлен Германии в апреле 1919 года как готовый документ.
Когда в мае 1919 года стал известен проект Версальского договора, то для немцев, а именно как для немецкого народа, так и для Национального собрания и правительства это было подобно удару дубиной. Уступки территорий на Востоке, Западе и на Севере были восприняты как чудовищные требования; почти полное разоружение, огромные репарации, больше никаких колоний… И во всём тоне договора обращение с Германией не как с побежденным, но всё еще принадлежащим к сообществу государств военным противником, а как с подсудимым, который получает своё наказание. Первая реакция у народа, Национального собрания и у правительства была: договор не подписывать.
Что бы произошло, если бы его не подписали? В таком случае (в этом и тогда, и в настоящее время при взгляде на прошлые событии не было и нет сомнений) западные союзники снова предприняли бы военные действия, вторглись бы в Германию, не нашли бы никакого, во всяком случае никакого успешного военного сопротивления и оккупировали бы Германию, по крайней мере до Везера, как предусматривали тогдашние планы союзников. Под давлением военного ультиматума в конце концов после ужасной борьбы и преобразования правительства договор бы подписали.
Потому что в случае оккупации союзниками германское правительство и большинство Национального собрания боялись распада рейха. Как предполагали тогда, союзники на Западе заключили бы сепаратные договоры с существовавшими южнонемецкими государствами и с некоторыми вновь созданными на прусском Севере государственными образованиями, и тем самым рейх был бы разорван надвое: оккупированная западными государствами западная часть, а на Востоке и на Северо-Востоке старые Пруссия и Саксония. Нынче, с результатами Второй мировой войны перед глазами, задаются вопросом — действительно ли это было бы столь ужасным.
Дело свелось бы к тому, что в конце концов получилось как следствие Второй мировой войны: германское западное государство, которое раньше или позже должно было бы присоединиться к Западу, и германское восточное государство (тогда еще не сокращенное на все прусские восточные провинции), судьбу которого было трудно предугадать. О наступлении союзников вплоть до Везера рассуждали и тогда и сейчас очень много.
Можно ли было вообще быть столь уверенным, что южнонемецкие правительства и те, что возникли бы в Северо-Западной Германии, со своей стороны тогда подписали бы договора? Не пришлось ли бы возможно союзникам всё-таки в случае, если бы в Берлине осталось германское правительство, оккупировать и восточную часть Германии? И не получилось ли бы тогда гораздо более благоприятное решение, чем после Второй мировой войны, а именно в известной степени 1945 год без русских и без ампутации восточных провинций — полностью оккупированная западными державами вся Германия? И поскольку союзникам в конце концов пришлось бы всё же найти германское правительство, едва ли такое состояние длилось бы долго.
Это были совершенно неразрешенные вопросы. Возможно, что неподписанием в 1919 году мирного договора у немцев был такой же шанс спасти рейх, как и подписанием. Однако с подписанием договора в средне- и долгосрочной перспективе у них были гораздо лучшие политические шансы, как им тогда было ясно. Потому что если разобраться хладнокровно, то парижский всеобщий мирный порядок, в котором Версальский договор представлял собой лишь часть, непосредственно касающуюся Германии, вовсе не был неблагоприятным для Германии как великой державы.
Конечно, разоружением и требованиями репараций Германия была подвергнута двум тяжелым обременениям, которые когда-то следовало бы уплатить. Однако в остальном постепенно выявилось, что положение Германии в Европе, её положение уменьшившегося в размерах на Западе, Востоке и на Севере, но всё же цельного Германского Рейха ни в коем случае не было слабее, чем до 1914 года, а наоборот сильнее.
До 1914 года Германский Рейх был «окружён», как звучало тогда ходячее выражение. Он лежал между великими державами Англией, Францией, Австро-Венгрией и Россией. Три из них — Англия, Франция и Россия — были в Первой мировой войне объединены против Германского рейха.
Из этих четырёх великих держав одна между тем полностью распалась: Австро-Венгрии больше не существовало. На её месте были слабые государства-наследники, которые поодиночке вследствие своих размеров никогда не могли стать значимыми державами, а наоборот, раньше или позже должны были попасть под влияние находящейся рядом державы — то есть Германии.
Россия существовала теперь в качестве Советского Союза вне пределов европейской системы; она была так же, как и Германия — это резкое выражение не будет ошибочным — отверженной. Но эта Россия склонялась к тому, чтобы объединяться с другими отверженными, а именно с Германией, нежели с западными державами.
Таким образом, у рейха была теперь, как говорят в шахматах, более сильная позиция, чем перед войной, поскольку вокруг Германии так многое изменилось в её пользу. И это позиционное усиление Германии результатами войны, а также и самим мирным регулированием было не подлежащим отмене, кроме как пожалуй посредством новой войны. Ослабление Германии посредством разоружения и вследствие репараций было напротив по своей сути временным. Через десять или двадцать лет после войны никто не стал бы уже вести новую войну для того, чтобы ограничить Германию в ремилитаризации или чтобы принудить её к дальнейшим выплатам репараций. Так что в долгосрочной перспективе позиции Германии были в действительности усилены результатами Первой мировой войны, а вовсе не ослаблены.
Западные же державы с другой стороны с самого начала вовсе не были едиными; они с большим трудом смогли достигнуть соглашения по заключению мирного договора. Вслед за тем отпала самая сильная из них: Америка не ратифицировала Версальский договор, вышла из обсуждения европейских вопросов и также отказалась сохранить гарантии поддержки французских требований. Это означало, что Версальский договор будет обеспечиваться только двумя державами, а именно Англией и Францией. Однако обе этих державы, как это проявилось в ходе первой мировой войны, смогли удержаться вместе против Германии лишь с чрезвычайными усилиями. Надолго сдерживать Германию они не могли.
И кроме того, между ними весьма скоро выявилось противоречие интересов. Англия была удовлетворена результатами Версальского договора. Германский флот был перемещён в Англию уже по условиям перемирия, новый большой военно-морской флот был запрещён по условиями Версальского договора, колонии оставались отобранными у Германии и были разделены между английскими доминионами, частью переданы и самой Англии. Англия достигла своих военных целей.
Но Франция — и это очень важно — не достигла своих военных целей. Франция со своими тогда сорока миллионами населения после выстоянной лишь с чрезвычайными кровавыми жертвами войны чувствовала себя впредь в конфронтации с Германией с семьюдесятью миллионами населения, которая оставалась неразделенной, не расчлененной. И она со временем, когда восстановит свои силы, и когда сможет освободиться от бремени Версальского договора, снова станет превосходящей силой.
Поэтому Франция, как и Германия, после 1919 года была реваншистской державой. Версальский договор не удовлетворил её, и она должна была в силу своих жизненных интересов пытаться пересматривать его результаты в свою пользу за счёт Германии. Равным образом Германия с самого начала решилась добиваться пересмотра Версальского договора и прежде всего избавиться от обоих больших обременений, которые лежали на её пути к возрождению силы рейха: разоружения и выплат по репарациям.
При этом в Германии при всеобщем согласии о том, что договор в глубине души не может быть принят, что он должен будет быть пересмотрен, приоритеты пересмотра были с самого начала ограничены. Следует ли прежде пытаться обойти условия разоружения и снова становиться военной силой, или же следует сначала пробовать избавиться от репараций, чтобы возродить германскую экономику и на этом пути снова стать державой?
Первое было политикой рейхсвера и в особенности тогдашнего главнокомандующего генерала фон Зеекта. Вначале она победила. Зеект добивался тайного перевооружения, которое по сути дела, что было совершенно очевидно, могло быть достигнуто лишь совместно с Россией. Уже очень рано, в начале двадцатых годов, сформировалось тайное военное сотрудничество между рейхсвером и Красной Армией. Советский Союз предоставлял рейхсверу в России в распоряжение полигоны, на которых он мог тренироваться с запрещенными по Версальскому договору видами вооружений: танками, военно-воздушными силами и боевыми химическими веществами. Взамен рейхсвер предоставлял находившейся ещё в состоянии строительства Красной Армии обучение и посвящение в методику германского Генерального штаба. Германский военный атташе в Советском Союзе генерал Кёстринг после особенно блестяще проведенных советских военных маневров сообщал: «Мы можем быть довольны этой похвалой. Ведь руководители и начальники — это наши ученики».
В добавление к этому уже очень рано казалось появился еще и другой шанс для военного сотрудничества с Советской Россией. В 1920 году в ответ на польское нападение началась война между Польшей и Россией, которая сначала проходила благоприятно для России; русские продвинулись до Варшавы. Зеект тогда уже раздумывал о том, что немцы, если русские победят, со своей стороны нападут на Польшу и вместе с Россией снова её поделят, что по меньшей мере возвратит немцам всё потерянное ими по Версальскому договору.
Правда, из этого ничего не вышло, поскольку польско-русская война в конце концов закончилась в пользу поляков. Русские не захватили никаких польских территорий, а наоборот — Польша аннексировала весьма значительные белорусские и украинские области и оставалась в них до 1939 года. Однако и такое развитие событий было для Германии благоприятным. Оно укрепило многолетнюю вражду между Польшей и Россией, что давало курсу Зеекта в руководстве рейхсвера долговременный повод стремиться к германо-русскому союзу и к германо-русской войне против Польши когда-либо в будущем. На время рейхсвер при этом даже получил союзников в официальной германской внешней политике, которая сама по себе шла другими путями. Так дело дошло до первой послевоенной сенсации, а именно до договора 1922 года в Рапалло между Германским Рейхом и Советским Союзом. Он возник неожиданно посреди международной экономической конференции в Генуе и вызвал на Западе глубокое недоверие по отношению к Германии, так называемый «комплекс Рапалло», который до конца не изжит и до сих пор.
По своему внешнему содержанию этот договор был совершенно скромным и благоразумным мирным договором между Германией и Советским Союзом. Ведь «Брестский мир», договор, заключенный в Брест-Литовске, вследствие Версальского мирного договора стал несостоятельным, и новая Германия и новая Россия теперь решили установить официальные дипломатические отношения — которых тогда ещё не было между западными державами и Советским Союзом — а также торговые отношения при взаимном режиме наибольшего благоприятствования, и в целом восстановить нормальные межгосударственные отношения. Против этого мало что можно было бы возразить. Но естественно, за этим скрывалось большее.
Потому что после Рапалло до того слабо проводившееся германо-русское военное сотрудничество укрепилось до постоянного, что сохранялось вплоть до 1933 года. Мысль о совместном ведении когда-либо в будущем войны против Польши оставалась жить в умах военных руководителей обеих стран. Так что германо-русским сотрудничеством до определенной степени уже была воплощена в жизнь приоритетная задача рейхсвера: обход военных ограничений Версальского договора.
В германском министерстве иностранных дел и в общей политике Германии однако был выставлен другой приоритет: не ремилитаризация должна стоять во главе германских целей, а прежде всего попытка освободиться от бремени репараций и тем самым дать экономике Германии шанс возрождения. Для этой цели германской политике пришлось пойти на социальную катастрофу, что разрушительно подействовало на внутриполитическое настроение в Германии, а именно — длительная инфляция, которая в годы с 1919 до 1922 бежала рысью, а в 1923 году превратилась в галопирующую.
Уже до гротескной ситуации 1923 года, к которой я вскоре вернусь, в годы с 1919 по 1922 произошло полное обесценивание всех германских капиталов. В конце войны курс немецкой марки был еще в разумном отношении к доллару — примерно 1:10. В 1922 году один доллар стоил уже более 20 000 марок, что означало полную потерю всех германских капиталов. Произошло чудовищное перераспределение германских капиталов в убыток для владельцев денежных вкладов и наличных денег и в пользу владельцев реальных ценностей — что впрочем имело и экономические преимущества в тот момент.
Потому что с 1919 до 1923 года в Германии была полная занятость, правда при уменьшающихся реальных заработках. Германская промышленность смогла за счёт владельцев денежных вкладов избежать массовой безработицы, которая в других странах проистекла из массовой демобилизации. Она экспортировала — разумеется, при постоянно снижающихся ценах — огромное количество товаров и оставалась на плаву.
Так что от инфляции в Германии пострадали прежде всего не столько рабочие, а откладывавший деньги средний класс. Он был практически лишен собственности. Это создало чудовищное ожесточение. Стефан Цвейг описал позже, что ничто не подготовило германскую буржуазию к принятию Гитлера так, как это сделала инфляция с 1919 по 1923 годы.
Так что ожесточение граждан не было вовсе неоправданным. Потому что правительство рейха не только бездействовало в отношении инфляции, но оно тем самым даже преследовало важную цель. Вследствие того, что у Германии больше не было международно признанной валюты, в которой она могла бы платить, правительство пыталось освободиться от бремени репараций.
Здесь германский ревизионизм встречался с французским. Немцы позволяли скакать инфляции, чтобы сделать себя неплатёжеспособными и тем самым уйти от репараций. Французы пытались невыполнение германских обязательств по репарациям использовать для того, чтобы пересмотреть Версальский договор территориально в свою пользу. Своей кульминации эти обоюдные устремления пересмотра Версальского договора достигли в так называемом Рурском конфликте 1923 года.
Франция уже в предшествующие годы объявляла определенные санкции в ответ на нарушения выполнения Германией репарационных платежей. Так в связи с этим кроме областей по левому берегу Рейна были оккупированы и города на правом берегу. Однако в 1923 Франция окончательно решилась на новый большой удар: она оккупировала Рурскую область, которая тогда была наиважнейшей и незаменимой для промышленности Германии. Теперь Франция пыталась военными средствами отделить эту область от Германии как экономически, так и политически.
Германия ответила так называемым пассивным сопротивлением: производство в Рурской области было прекращено. Однако ведь рабочие и промышленники Рурской области должны же были каким-то образом выживать, и это происходило отныне посредством безудержной работы станка по печатанию денег.
Однократным запуском денежного станка больше не обошлось. В 1923 году чистое производство необходимых теперь количеств бумажных денег стало настоящей проблемой. Для печатания банкнот пришлось привлечь частные типографии. Возникла также проблема доставки: для своевременной доставки этих новых банкнот пришлось задействовать целые товарные поезда. Существуют чрезвычайно гротескные описания того времени; здесь не следует углубляться в эту тему.
Во всяком случае, в 1923 году из пассивного сопротивления в Рурской области и его финансирования получилась ситуация, в которой в Германии денежное хозяйство практически было парализовано. Курс доллара в этот фантастический год стал привычен всему населению Германии: оно использовало его как термометр при лихорадке. В начале 1923 года доллар стоил ещё 20 000 марок; в августе доллар достиг отметки в миллион марок, тремя месяцами позже — в миллиард. В конце 1923 года итог был таков, что стоимость одного доллара выросла до 4,2 триллиона марок. В Германии практически больше не существовало денег.
Если во время инфляции в годы до 1923 были всё же потеряны только финансовые капиталы, то теперь были обесценены также и выплачивавшиеся в деньгах заработки. Теперь инфляция с полной силой обрушилась и на рабочих, а не как прежде лишь на откладывавших деньги буржуа. В сущности говоря, больше не существовало денег за работу — во всяком случае денег, которые часом позже еще хоть что-то стоили бы. В Германии господствовало абсурдное положение вещей. Осенью 1923 года оно привело также и к политическому кризису. Осенью 1923 года Германский Рейх был на краю своего политического существования. Пассивное сопротивление в Рурской области должно было быть непременно прекращено. Но однако все же получился очень счастливый для Германии результат: два других получателя репараций, Англия и Америка, теперь пришли к убеждению, что так больше продолжаться не может. Франция была подвергнута давлению, чтобы она прекратила свою авантюру в Рурской области, и в Германии наконец должна была быть проведена денежная реформа, которая собственно говоря назрела уже в 1919–1920 гг.
На основе стабильной валюты затем смогли прийти к соглашению, по которому Германия отныне без определения окончательной суммы должна была теперь частями выплачивать ежегодно умеренные репарации примерно в 2 миллиарда марок. Для этого следовало заложить определенные источники постоянных доходов, главным образом доходы от сбора таможенных платежей, а также железные дороги. Впрочем однако между Германией, Англией, Америкой и Францией должно было быть произведено окончательное урегулирование западных границ, которое должно было исключить как будущие злоупотребления Франции, так и требования территориальных пересмотров со стороны Германии.
Всё вместе в 1924–1925 гг. привело к новому миру на Западе. Он состоял из двух частей, Лондонского соглашения 1924 года, которое прежде всего регулировало вопрос о репарациях, и Локарнского договора 1925 года, по которому Германия добровольно и окончательно отказывалась от притязаний на Эльзас-Лотарингию. Кроме того, Германия соглашалась с тем, что оккупированные в настоящий момент области по левому берегу Рейна по окончании оккупации их союзниками останутся демилитаризованными. Но за это Германия получала нечто весьма выгодное, а именно — англо-итальянские гарантии западных германских границ, которые отныне были окончательно согласованы между Францией и Германией.
Локарно означало, что Франция, в сущности, отказывалась от своих восточно-европейских союзников. Если западные границы Германии будут гарантироваться Италией и Англией, то тогда Франция не должна будет переходить их и в том случае, если Германия на Востоке вступит в войну с союзниками Франции — Польшей и Чехословакией.
Франция вышла из этих обязательств неявно, однако в соответствии со смыслом договора в Локарно логическим следствием было то, что она переключилась исключительно на самооборону. В годы после Локарно Франция построила линию Мажино и объявила всему миру, что она отныне рассматривает себя не в качестве европейской державы и гаранта новых средне- и восточноевропейских национальных государств, но как страну, занимающуюся лишь своей собственной безопасностью и ничем другим, которая, впрочем, желает и должна каким-то образом отрегулировать отношения с Германией.
Франция сначала пыталась избежать этой ситуации тем, что она настаивала на заключении некоего «Восточного Локарно», то есть на гарантии восточных границ Германии, в особенности польско-германской границы, Англией, Италией и самой Францией. Однако это было отклонено не только Германией, но также Англией и Италией. И не без оснований, потому что то, что западные державы в случае действительной войны на востоке Германии не могли реально гарантировать границы Польши, отчетливо выявилось во время Второй мировой войны и было также предвидимо уже и ранее. Для заключения договора «Восточного Локарно» было бы необходимо участие Советского Союза — однако же Советский Союз тогда был исключен из взаимоотношений европейских государств и впрочем также вовсе не помышлял о том, чтобы гарантировать в ущерб Германии какие бы то ни было польские границы, тем более что у него самого были существенные территориальные претензии к Польше.
Так что после Локарно сложилась следующая ситуация: немцы втихомолку, но весьма эффективно сотрудничали на Востоке с Советским Союзом, чтобы обойти военные условия Версальского договора; а на Западе с Францией, Англией и Италией у них был своего рода новый мир, введенная в действие Версальским договором новая мирная система, которая должна была исключить войну между Францией и Германией.
Пока же рейх должен был далее выплачивать репарации, правда, только в умеренных количествах и без установления общей суммы. Кроме того, между тем Америка включилась в европейскую экономику, что прежде всего пошло на пользу Германии.
Франция и Англия ведь были не только получателями репараций от Германии, они были также и должниками Америки. Они широко финансировали войну при помощи американских кредитов. Американцы настаивали на оплате этих кредитов; и Франция и Англия платили, пусть и неохотно. Таким образом, теперь существовало своего рода круговое экономическое движение: Германия платила репарации Англии и Франции, Англия и Франция выплачивали военные долги Америки, и, чтобы всё это в целом обеспечить, Америка закачивала кредиты в Германию. Таким образом, в годы с 1924 до 1929 в Германии развивалась фаза возрождения, даже определенное скромное благосостояние, которое в основном зиждилось на американских кредитах. Они существенно превосходили выплаты Германии по репарациям. Было подсчитано, что в целом немцы в эти годы — считая очень округленно — выплатили около 10 миллиардов по репарациям и получили примерно 25 миллиардов американских кредитов. Кроме того, вследствие нового расцвета немецкой экономики они очень хорошо экспортировали.
Министр иностранных дел Германии Штреземанн председательствовал при принятии всех этих договорённостей и добился тем самым уже значительно улучшенной версии Версальского договора, однако все же не удовлетворяясь этим. Он редко открыто высказывался о своих дальнейших целях пересмотра, однако всё же несколько раз их обозначил настолько широко, что приблизительно их можно сформулировать.
К чему Штреземанн стремился в качестве следующей цели, был вывод войск из всё еще оккупированных Францией и Англией областей по левому берегу Рейна. Этого он впрочем также достиг, хотя конечно же сам он до этого не дожил. Ведь вывод войск был одобрен в 1929 году, в котором Штреземанн умер; произведен он был лишь в 1930 году.
Второй целью Штреземанна была мобилизация так называемых «заграничных немцев», то есть прежде всего немцев в Австрии, в Чехословакии, в Польше и на Балканах. Он надеялся, что они в своих странах образуют немецкие форпосты, будут эти страны экономически и политически склонять к ориентации на Германский Рейх, и даже смогут способствовать стремлениям к присоединению к Германскому Рейху. И это также уже во время его службы стало весьма успешным, и гораздо более успешным позже в тридцатые годы при Гитлере. После Второй мировой войны конечно же все это страшным образом было отомщено на «заграничных немцах».
В качестве третьей цели, которая однако была уже далёкой целью, Штреземанн стремился к территориальному пересмотру на Востоке, главным образом к ликвидации так называемого «польского коридора». Но он хотел также при помощи давления, не обязательно посредством войны, вернуть обратно в благоприятный момент времени ставшую польской часть Верхней Силезии. Это казалось также не совсем безрассудным, поскольку ведь руки Франции в это время были связаны договором в Локарно.
В качестве четвертого и самого далёкого пункта Штреземанн стремился к объединению Германского Рейха с Австрийской Республикой, которую тогда называли Немецкой Австрией. Этот «аншлюс[15]» тогда совершенно официально вполне был желаемым также и австрийцами; правда, в концепции Штреземанна его оставили на дальнюю, еще не обозримую благоприятную дипломатическую ситуацию.
Таким образом, Германия оставалась ревизионистской, однако в ближайшей перспективе она преследовала только одну цель, а именно досрочное освобождение Рейнской области, которое затем должно было быть связано с окончательным урегулированием репараций. По так называемому «плану Юнга» такое соглашение было подготовлено в 1929 году. План Юнга ещё раз снизил величину германских выплат по репарациям, однако за это предусматривал очень длительные выплаты репараций вплоть до восьмидесятых годов. Тем не менее, при процветающей экономике Германия могла без проблем возложить эти выплаты на своё превышение экспорта над импортом. Урегулирование 1924–1925 гг., которое сначала принесло относительно спокойные и счастливые годы, было нарушено мировым экономическим кризисом, который в 1929 году начался в Америке. Для Германии он имел самые злосчастные последствия: перестали поступать американские кредиты; поскольку они были краткосрочными, то частично они даже были отозваны. В Германии тотчас же наступил довольно сильный спад в до того момента более-менее высокой занятости населения, и в экономике наметилась волна банкротств.
Такое развитие событий во второй раз предоставило германскому правительству, которое между тем было сменено, шанс стряхнуть груз репараций по только что заключенному новому урегулированию в соответствии с планом Юнга. И хотя на этот раз это должно было произойти не вследствие массовой инфляции, как в начале двадцатых годов, а вследствие сознательной политики дефляции, которая сделала Германию такой бедной, что она просто не была в состоянии более выплачивать репарации. Её кредиторы должны были в конце концов признать это.
Эта политика дефляции была второй великой социальной катастрофой, которую Германия Веймарского периода взяла на себя, чтобы стряхнуть груз репараций — и на этот раз эта политика была успешной. Ведь мировой экономический кризис затронул не только Германский Рейх, он захватил поистине весь западный мир (России он не коснулся). И во всех затронутых государствах, в особенности в самой Америке, отныне приходили к мнению, что в такой ситуации так называемые политические платежи, то есть с одной стороны платежи по долгам европейских западных союзников в пользу США, а с другой стороны репарационные платежи Германии западноевропейским союзникам, представляли теперь лишь затруднение для всё более и более рушащейся мировой экономики. В 1931 году американский президент Гувер потребовал прекращения всех этих политических платежей и также настоял на так называемом «моратории Гувера», сначала на один год. Но по прошествии этого года в Лозанне в 1932 году в действительности последовал долговременный отказ Франции, Англии и остальных стран от дальнейшего получения германских репараций. Договорились о ещё одном заключительном платеже в 3 миллиарда марок, который никогда не был произведен и которого никогда серьёзно не потребовали. Это означает, что рейхсканцлер Хайнрих Брюнинг при помощи своей политики умышленного обнищания Германии для ухода от репараций своей цели достиг, даже если сам он вскоре после этого уже был свергнут со своего поста.
Я хотел бы ещё кратко указать на то, что обнищание в годы с 1930 до 1933 года всё ещё и теперь рассматривается как неизбежное следствие мирового экономического кризиса. Однако оно было таковым лишь частично, точно так же, как германская инфляция с 1919 до 1923 года лишь частично была просто следствием финансировавшейся при помощи займов и затем проигранной войны. Но именно лишь частично, как в одном, так и в другом случае. Своевременная денежная реформа после войны спасла бы Германию от полной экспроприации всех накоплений, а иная экономическая политика существенно смягчила бы последствия мирового экономического кризиса в Германии, вместо усиления их. Такая экономическая политика рекомендовалась тогда не только английским учёным Кейнесом, но также и немецкими учеными-экономистами, например фон Вагеманном: политика, которая при помощи больших общественных задач — пусть даже за счёт баланса бюджета рейха — дефицитного расходования[16], как это было названо, дала бы экономике новый толчок. Брюнинг проводил как раз обратную политику, он обострял следствия мирового экономического кризиса, он намеренно позволил германской экономике полностью прийти в упадок, чтобы избавиться от репараций. В этом, как уже сказано, он достиг успеха. Правда, у этого успеха, как будет показано в следующей главе, внутриполитическая цена была такова, что обнищавшие немцы массами пошли за Гитлером.
В том же году Германия пережила ещё один большой успех своей политики ревизионизма. В этом, 1932 году, в Женеве заседала международная конференция по разоружению. Западные державы в Версальском мирном договоре представили разоружение Германии как предварительное условие всеобщего разоружения. Эта формулировка стала теперь для германской политики рычагом: немцы аргументировали, что либо западные державы теперь должны разоружиться до той степени, до которой они принудили разоружиться рейх, либо же они должны предоставить рейху право точно так же снова вооружиться. С этой аргументацией немцы имели успех. Мировое общественное мнение переменилось, частично вследствие мирового экономического кризиса, частично просто вследствие удаленности от прошедшей войны во времени. Это не было больше настроением 1919 года. В декабре 1932 года западные державы на женевской конференции по разоружению признали за германским правительством, которое возглавлялось тогда уже не Брюнингом, а Шляйхером, равное право на военное вооружение.
Это означало, что в конце 1932 года множеством окольных путей Германия сбросила два главных бремени, которые препятствовали восстановлению её силы — обязанность огромных выплат по репарациям и обязанность свои оборонительные силы держать очень малыми. Она снова встала как великая держава среди других великих держав. Она стала даже, как теперь окончательно выявилось, и как уже было подтверждено Локарно, в Восточной и в Южной Европе своего рода скрытой господствующей силой. Это были решающие успехи германского ревизионизма, которые все были достигнуты ещё во время существования Веймарской республики. Но они пошли теперь на пользу совсем изменившейся Германии.
Потому что уже до 1932 года — об этом речь пойдёт в следующей главе — Веймарская республика внутренне изжила себя, она уже обрушилась. Во внутренней политике речь шла тем временем уже больше не о её сохранении, а о её наследовании. Это наследство очень скоро после заключительных больших успехов 1932 года в январе 1933 года досталось Гитлеру. И Германия, которая теперь снова была в своём прежнем положении великой державы, и по крайнем мере в Восточной и в Центральной Европе занимала позицию наполовину главенствующей державы, была Германией Гитлера.
В предыдущем разделе мы в основном занимались Версальским договором и в меньшей степени Веймарской республикой, то есть внешняя политика Веймарской республики и её ревизионизм были подробно разобраны, но мы мало занимались внутренней политикой. Однако именно внутренняя политика в конечном итоге предопределила переход от Веймарской республики к Гитлеру. Так что нам следует наверстать упущенное.
Хотя Веймарская республика существовала лишь 14 лет, в её истории можно увидеть три чётко различающихся периода. В свои первые годы, от основания и до 1924 года, выглядело так, будто республика с самого начала потерпит крах. Затем поразительным образом наступил период кажущейся консолидации, «золотые» двадцатые годы, с 1925 до 1929. Затем последовал довольно неожиданно период распада и подготовки перехода власти в руки Гитлера, с 1930 до 1932 года.
Первый период не следует представлять здесь подробно. Годы с 1920 до по меньшей мере 1923, а частично также и 1924 год, были чрезвычайно сложным временем с повторяющимися путчами справа и слева, с очень большим количеством политических убийств только со стороны правых, с постоянно сменяющимися правительствами. Всё это разыгрывалось на фоне инфляции, этой первой из двух социальных катастроф, которые безрассудно затеяла республика, чтобы избавиться от репараций — что было описано в предыдущей главе.
Я не хочу рассказывать это в подробностях — никакое из множества драматических событий этих лет не определило эпоху — но ограничусь тем, чтоб выделю два проходящих сквозной нитью обстоятельства, которые мне кажутся основополагающими.
Первое: Веймарская республика опиралась тогда только лишь всего на три партии. Это были партии старого большинства в рейхстаге 1917 года, которые в Национальном Собрании 1919 года, где у них было большинство трех четвертей голосов, объединились в так называемую Веймарскую коалицию: социал-демократы, Немецкая Демократическая Партия и Центр. Только эти партии голосовали за Веймарскую конституцию. Только они вообще приняли республику вместо монархии, к которой были привычны немцы. И даже внутри этих партий было много таких, кто более смирялся с новой формой государственности, нежели в действительности желал её. Говорили о республике без республиканцев. Ну, вовсе уж без республиканцев она не была. Но республика стояла, так сказать, на одной ноге. Согласным с ней был лишь левый центр. Коммунистические левые хотели совсем другой республики. А правые, которые в действительности были гораздо сильнее, чем позволяло предположить количество их мандатов в национальном собрании, просто хотели снова получить обратно своего кайзера.
Веймарская коалиция при первых выборах в рейхстаг в середине 1920 года потеряла большинство, которое было у неё в Национальном собрании. Произошёл обвал: социал-демократы потеряли почти половину своих мест, обе буржуазные партии также потеряли множество мандатов, а правые снова стали настолько сильны, какими они собственно всегда и были. Это означало, что в течение всего последовавшего затем времени никогда не было стабильного правительства. Существовали правительства меньшинства буржуазного центра, порой были попытки создания больших коалиций от СДПГ до правых либералов, которые очень скоро снова распадались. Даже однажды, с конца 1922 до августа 1923 года, существовало правительство рейха так называемых министров-специалистов. Все эти правительства были импровизацией и недолговечны. Это первое обстоятельство, которое в годы между 1920 и 1924 давало основания полагать, что республика как бы с самого начала была обречена на провал.
Второе обстоятельство не столь очевидно. Речь при этом идёт о СДПГ, истинной ведущей партии как Веймарской коалиции, так и Веймарской республики, единственной, которая не вынуждена была из необходимости поступать иначе. В соответствии с её программой СДПГ всегда была республиканской партией, но внутренне она, не признавая этого открыто, при Вильгельме II. привыкла к монархии. В 1918 году, когда всё разлетелось вдребезги, СДПГ уже была готова, как выразился её председатель Фридрих Эберт, «броситься на помощь». Эберт даже сделал ещё 9 ноября 1918 года попытку спасти монархию посредством введения имперского регентства. Когда же это не получилось, то социал-демократы захотели так сказать управлять далее монархией как республикой. Они были готовы все общественные институты оставить по-старому, содержать в порядке фундамент монархии, правящему кайзеру позволить править и далее. Можно сказать и так: дальше управлять кайзеровским рейхом под социал-демократическим менеджментом. Очень великодушное предложение, которое ставший теперь рейхспрезидентом Эберт обращал к обществу и к государству, которое он нашёл, принял и спасал от революции.
Однако это предложение не было принято. В основе этого факта лежит очень большая слабость, которая была присуща республике с самого начала. Соответствующие институты кайзеровского рейха, армия, чиновничество, юстиция, церковь, университеты, не в последнюю очередь крупное сельское хозяйство и крупная промышленность, остались в оппозиции, хотя их не трогали и были готовы оставить им их традиционный характер и их прежний персонал, как и их выдающееся и авторитетное положение.
Неприятие было несколько ступенчатым. Высшее чиновничество, министерская бюрократия, оставалось угрюмо лояльным. Советники министерств и правительства исполняли свою службу, делались полезными, безусловно не проявляли восторга по отношению к новому государству, которое их раздражало, но служили ему все же честно. Во время правого путча капповцев в 1920 году они даже помогли его ликвидировать тем, что проявили своего рода пассивное сопротивление, так что путчистское правительство не смогло утвердиться.
Но это было уже самое благоприятное отношение к республике, которое можно было найти у старых элит. Рейхсвер же, например как раз во время капповского путча в отличие от высшего чиновничества сохранял хладнокровный нейтралитет между легальным и нелегальным правительствами. «Войска не стреляют по войскам», заявил тогдашний начальник командования армией генерал фон Зеект. Во время другого более позднего кризиса Эберт, все таки в качестве рейхспрезидента бывший номинальным Верховным Командующим рейхсвера, задал Зеекту смиренный вопрос: «Я хочу в действительности знать, где же тогда собственно стоит рейхсвер?», и получил на это надменный ответ: «Рейхсвер стоит за мной».
Совсем плохо для республики дела обстояли в университетах и высших учебных заведениях. Студенты и профессоры, преподаватели и их ученики были — я могу это подтвердить на основании опыта своей юности — резко антиреспубликанскими, монархическими, националистическими и реваншистскими. В церквях эта позиция была несколько смягчена, однако в целом во всяком случае протестантская церковь была по крайней мере настолько правой, насколько сегодня она является левой. Католическая церковь также явственно холодно относилась к республике, хотя католический центр принимал участие в управлении страной. Конкордат с властью она заключила лишь в 1933 году — с Гитлером.
В промышленности положение было сложнее. Сразу после революции, в ноябре, было заключено «Соглашение Штиннеса-Легиена[17]», соглашение между работодателями и профсоюзами, своего рода заключение мира, которое предусматривало в будущем тарифные договоры при участии профсоюзов. Однако инфляция затем снова сильно вывела на передний план противоположные классовые интересы предпринимателей и рабочих. В целом дело обстояло так, что Веймарская республика была только республикой рабочих — если они не становились коммунистами — а большинство предпринимателей очень скоро знать ничего не желало об этом государстве.
Неприятие всех этих групп было пожалуй самой глубокой причиной того, почему республике при президенте Эберте с 1919 до 1924 года никогда не удавалось консолидироваться как устойчивой государственной форме Германского Рейха. В противоположность этому тот факт, что Эберт никогда не избирался народом, как собственно предусматривала Веймарская конституция, а только «временно» избирался Национальным Собранием, играл лишь второстепенную роль.
И затем, в среднем периоде существования Веймарской республики, в годы между 1925 и 1929, казалось, что республика вдруг консолидировалась. Эберт умер в феврале 1925 года. Теперь произошли первые предусмотренные конституцией всенародные выборы рейхспрезидента. В первом туре, в котором каждая партия выставила своего кандидата, не выявилось однозначного победителя. Для второго тура затем германская национальная народная партия, то есть монархически настроенные правые, находчиво выставили старого, знаменитого фельдмаршала Гинденбурга, героя мировой войны. И он выиграл.
Победа Гинденбурга сначала была воспринята республиканцами как ужасный удар. Гинденбург был фельдмаршалом Первой мировой войны, в то время символической фигурой чрезвычайно реакционного Людендорфа, монархистом до мозга костей. Как можно было при его верховенстве продолжать дело республики? Совершенно неожиданно сначала дело пошло очень хорошо. Первые пять лет президентства Гинденбурга были пятью самыми лучшими годами Веймарской республики. Казалось, что наконец-то она консолидировалась. У этого была очень простая причина:
Старые правящие слои общества кайзеровского рейха, которые и в республике оставались истинными правящими слоями, не воспринимая в действительности новое государство как свое, теперь вдруг стали смотреть на него другими глазами. Республика под управлением рейхспрезидента Гинденбурга, то есть под управлением чрезвычайно респектабельной ключевой фигуры кайзеровского рейха, который во время Первой мировой войны уже однажды был почти что своего рода заменителем кайзера — это все же было нечто совсем иное, чем республика Эберта и социал-демократов. Это настроение очень скоро нашло свое отражение в том, что полностью отрицавшая до тех пор государство самая большая правая партия рейхстага, немецкая национальная народная партия, теперь сочла возможным для себя сотрудничать в правительстве республики.
С 1925 до 1928 года в Веймарской республике с небольшим перерывом теперь правила не Веймарская коалиция, а правая коалиция, состоявшая из партии центра, немецкой народной партии и немецких националистов, у которых было серьёзное, даже если и не подавляющее большинство в рейхстаге. Неожиданно республика стала стоять на двух ногах. Она не зависела больше только лишь от партий центра и левого крыла, но могла теперь также совершенно нормально управляться коалицией центра и правыми. Это стабилизировало республику. Этому способствовало, как уже было изложено в предыдущей главе, то, что в это время произошли большие улучшения в экономике: инфляция была остановлена уже в последний год правления Эберта, теперь наконец была произведена и денежная реформа, а затем, благодаря обильно поступавшим американским кредитам, наступил некоторый расцвет экономики. Во внешней политике также можно было отметить успехи: Рурская область стала снова свободной, был заключён договор в Локарно, ставший своего рода дополнением к мирному договору на Западе и исключивший в будущем злоупотребления со стороны французов. Одним словом, вдруг снова наступили счастливые времена. И во всяком случае вплоть до 1928 года дело выглядело так, как будто всё так и останется.
Затем произошло два события, которые уже в 1929 году, перед наступлением мирового экономического кризиса, снова начали дестабилизировать Германию. Одно заключалось в том, что коалиция центра и правых, правившая до середины 1928 года, проиграла выборы в рейхстаг в 1928 году. Немецкие националисты неожиданно стали гораздо слабее, социал-демократы стали снова сильнее — у них были наилучшие результаты выборов с 1919 года. И теперь оказалось, что новое правительство невозможно создать ни на базе Веймарской коалиции, ни на базе того, что я хотел бы назвать коалицией Гинденбурга: ведь у Веймарской республики не было того, что с самого начала было у нынешней Федеративной Республики — чёткой системы правых и левых партийных групп. Пришлось создать «большую» коалицию от СДПГ до правых либералов, и это было очень слабое правительство, поскольку его фланги с самого начала стремились в противоположные направления. В период с середины 1928 до начала 1930 года, когда правила большая коалиция, политическая стабильность отсутствовала, хотя до начала мирового экономического кризиса с экономической точки зрения это были ещё приятные годы. Это во-первых.
Но другое, что должно было проявиться как гораздо более опасное, было связано с личностью рейхспрезидента. Когда в 1925 году Гинденбург был избран, ему насчитывалось уже 77 дет, теперь же ему было за 80. Он не мог продолжать вечно стоять во главе государства. Нельзя было рассчитывать на то, что он в 1932 году по истечении своего семилетнего срока службы, будет в состоянии еще раз участвовать в выборах в качестве кандидата, не говоря уже о том, чтобы выдержать второй срок на посту. Как же тогда вести дела дальше? Второго Гинденбурга не было. Весь замечательный компромисс, который был достигнут в начале периода правления Гинденбурга, почти кайзеровская республика, которая стала приемлемой также и для монархических правых, опирались на два очень старых плеча.
Следовало подумать о том, как может сохраняться этот компромисс и должен ли он вообще сохраняться. В рядах правых возрастало беспокойство. Прежде всего среди немецких националистов, которые под новым, гораздо более радикальным руководством тем временем снова находились в оппозиции, родилась теперь мысль, что время правления Гинденбурга можно ведь рассматривать и иначе, чем прежде: не как стабилизацию республики, а как переход к монархической реставрации. Разве не мог бы Гинденбург из рейхспрезидента постепенно превратиться в наместника монарха? Возможно даже в регента вновь установленной монархии? Таковы были планы, которые всерьёз обсуждались, а в руководстве рейхсвера даже очень живо. Конкретизированы они были человеком, определявшим тогда политику рейхсвера — генералом фон Шляйхером.
В 1929 году, а именно весной, задолго до начала мирового экономического кризиса, в казавшееся ещё полностью спокойным и стабильным время, Шляйхер пригласил нового руководителя центра со скорее правыми взглядами Хайнриха Брюнинга к себе домой в берлинскую квартиру на Маттейкирхплатц. Генерал изложил политику крамольные идеи, как мы теперь знаем из мемуаров Брюнинга.
Остававшееся еще время на посту старого рейхспрезидента, объяснил Шляйхер, должно быть использовано для того, чтобы изменить конституцию, лишить власти рейхстаг и в конце концов снова установить «стабильные отношения» в духе нереформированной монархии времен до октября 1918 года. Глава государства — о монархе речь ещё не шла — должен не только назначать рейхсканцлера, но и оставлять его на посту также и против воли рейхстага, так что парламент, как в кайзеровские времена, был бы исключён из реальной политики. Для этой цели следовало несколько раз подряд распустить рейхстаг, пока партии не истощат финансовые ресурсы и не утомятся так, что не захотят более никакой предвыборной борьбы. А затем, в один из таких периодов без рейхстага, можно будет в конце концов преобразовать конституцию государства в чисто президентскую форму правления, в которой президент стал бы играть роль прежнего кайзера.
Брюнинг выслушал это и заинтересовался. Он спросил Шляйхера, сколь длительным он представляет себе этот процесс, и Шляйхер ответил: «Ну, это можно сделать за шесть месяцев». Кроме того, Шляйхер при этой встрече поведал Брюнингу о том, что рейхспрезидент рассматривает его, лояльного фронтового офицера Брюнинга, чьё подразделение пулеметчиков вплоть до объявления перемирия сражалось, находило погибших и было отмечено отличием, в качестве фигуры рейхсканцлера, который должен произвести государственный переворот. Брюнинг в тот момент отнёсся к этому сдержанно: время для таких планов ещё не созрело. Но время пришло быстро.
В октябре 1929 года разразился мировой экономический кризис. Правительство большой коалиции, глава которой Штреземанн к несчастью умер в том же месяце, не отнеслось должным образом к быстро распространявшемуся в Германии кризису. По этой причине оно в конце концов распалось, и в марте 1930 года Гинденбург по совету Шляйхера назначил Брюнинга рейхсканцлером, как и было предусмотрено. Брюнинг на основании Статьи 48 Конституции получил от рейхспрезидента полномочия управлять без оглядки на рейхстаг. Эта статья позволяла главе государства в случае устанавливаемого им самим по его усмотрению чрезвычайного положения обходить законодательное право рейхстага посредством внепарламентских чрезвычайных постановлений. Правом роспуска рейхстага рейхспрезидент и без того обладал: в случае если бы парламент отменил его чрезвычайные декреты, он мог распустить его в любой момент. Всеми этими правами теперь должен был пользоваться Брюнинг от имени рейхспрезидента. Это должно было обеспечить переход к планировавшемуся кругами за спиной Гинденбурга государственному перевороту, нацеленному на восстановление монархии.
Какую роль при этом играл сам Гинденбург, остаётся неясным. Старый человек не был политиком, никогда им не был. Во многих отношениях он был в качестве рейхспрезидента такой же символической фигурой, какой был в войну в должности начальника Верховного Командования сухопутных войск. Но у него вполне была своя голова на плечах, была она у него всегда и с годами она скорее стала лишь упрямее. После того, как в 1925 году он принял присягу главы государства о соблюдении конституции и соблюдал её, удовлетворенный достойным представительным положением, теперь он и сам пожалуй начал вспоминать свои монархические чувства и воспринимать это как своего рода призвание — возглавить обратный переход от республики к монархии, сделав всё возможное, чтобы не нарушить непосредственно свою конституционную присягу. Первым шагом на этом пути был переход от парламентского правления двадцатых годов к президентским правительствам начала тридцатых, из которых правительство Брюнинга было первым и самым длительным. Формально они вели себя ещё в рамках конституции, и так Брюнинг парадоксальным образом получил славу последнего защитника Веймарской конституции. Он не был им. Его заданием был государственный переворот, как он сам засвидетельствовал в своих мемуарах, и он был исполнен намерений выполнить это задание. Но он отложил государственный переворот в пользу другого намерения — что в итоге привело к его падению.
Между тем же разразился мировой экономический кризис, и Брюнинг увидел теперь тот большой внешнеполитический шанс, о котором уже шла речь в предыдущей главе: шанс использовать мировой экономический кризис, чтобы посредством преднамеренно проводимого радикального обострения экономического кризиса в Германии избавиться от репараций. Это было для него в тот момент важнее, чем задуманный государственный переворот. Тем не менее, в июле 1930 года он распустил рейхстаг, и назначил на сентябрь 1930 года новые выборы. И тут произошло нечто неожиданное. На этих выборах национал-социалисты Гитлера, в «хорошие» времена Гинденбурга бывшие партией малозначимой, неожиданно стали второй по силе партией. Они получили 18 процентов голосов избирателей, 107 мандатов, и тем самым на германской внутриполитической сцене внезапно появилась новая сила, с которой впредь следовало считаться. Что сделало вдруг национал-социалистов столь сильными?
Было три причины, которые сделали национал-социалистов в 1930 году сначала массовой партией, а затем, в 1932, вообще сильнейшей партией.
Первую следует искать в экономическом кризисе: он вёл к ужасно быстрому прогрессирующему обнищанию рабочих и также — это не следует забывать — предпринимателей, среди которых также многие обанкротились и жизнь их была разрушена. В 1932 году, в котором было шесть миллионов безработных, появился плакат, на котором в экспрессионистском стиле была изображена большая масса нуждающихся и больше ничего. Внизу стояли только слова: «Гитлер, наша последняя надежда». Это попало в цель. Нужда была реальностью. И реальностью было также то, что Гитлер был единственным, кто обещал изменить такую ситуацию. В то время как Брюнинг, как каждый мрачно чувствовал, нужду даже умышленно усиливал — с патриотическими внешнеполитическими целями, которые он однако не мог сделать достоянием гласности и которые сами по себе и сегодня еще не признаны повсеместно.
Нужда была первой причиной, которая привлекла массы к Гитлеру. Она стала еще и сегодня охотно признаваемой в качестве единственного, и тем самым решающего оправдания неожиданного столь массово проявившегося голосования за нацистов. Нужда была причиной, и очень сильной, но не единственной.
Вторая причина была в неожиданно снова усилившемся национализме. Он далеко не столь ощутим, как экономическая нужда тех лет, и также не столь легко объясним. Кажется даже противоречивым, что именно нужда и экономическое отчаяние сопровождались своего рода взрывом национальных чувств. Но так это и было; каждый, кто ещё осознанно пережил годы с 1930 до 1933, может это засвидетельствовать. Национальные комплексы и затаённые обиды времени после 1918 года, чувства, которые выражались в таких оборотах, как «удар кинжалом в спину» и «ноябрьские предатели» никогда не были преодолены полностью. Но в годы с 1919 до 1924 они всё же в основном были ограничены средой старых правых, избирателей Германской Национальной Народной партии, а после 1925, когда эта партия принимала участие в управлении страной, смягчились. Теперь же они вдруг стали общим достоянием почти всех партий; даже коммунисты вдруг заговорили националистическим языком, а тайные и явные монархисты, стоявшие за президентским кабинетом Брюнинга, и подавно.
Но тем самым они занялись тем, в чём их с самого начала недосягаемо превосходили национал-социалисты. Никто не апеллировал к национализму, национальной гордости и национальным обидам с такой убежденностью — и потому с такой силой убеждения — как они. Никто не отваживался утверждать, как они, что Германия собственно должна была победить в Первой мировой войне, да в сущности и победила, и лишь вследствие коварства и предательства у неё была украдена победа. Никто столь откровенно не предрекал, что эта потерянная победа однажды должна быть навёрстана. Немцы — я забегаю вперёд — в 1939 году с началом Второй мировой войны были далеко не столь воодушевлены, как это было в 1914 году при начале Первой; они истратили своё воодушевление в 1933 году. Но в воодушевлении от победы «национального подъёма» в 1933 году было много от военного восторга 1914-го, а своего рода военное воодушевление возбуждалось со всех сторон уже за годы до того — и пошло на пользу национал-социалистам.
Третья причина успеха выборов НСДАП была в самой личности Гитлера — это следует сказать, хотя сегодня это рассердит многих людей. Гитлер воздействовал на немцев своего времени не отталкивающе, а привлекательно, даже зажигательно. Он просто был фигурой гораздо большего политического формата, чем все другие, кто после смерти Штреземанна в поздней фазе Веймарской республики стоял на политической сцене.
Гитлера всегда недооценивали. Наибольшей ошибкой его противников было то, что они хотели сделать его мелким и смешным. Он не был мелким и смешным. Гитлер был очень нехорошим человеком. Великие люди часто бывают нехорошими. А Гитлер также был, что не следует превратно истолковывать, со всеми своими ужасными особенностями весьма великим человеком, как это снова и снова проявлялось в смелости его предвидения и в остроте его инстинктов в последующие десять лет. Как личность, Гитлер обладал магическим воздействием, которого не было ни у одного из тогдашних политиков.
Уже в 1918 и 1919 гг. многие немцы нарисовали себе как желаемую цель такого человека, какого им теперь представил Гитлер. Из того времени есть стихотворение Штефана Георге, в котором он выражает надежду, что придет его время:
«Единственный, кто поможет человеку подняться <…>
Он разорвет цепи, над руинами
Установит порядок, плетью загонит домой сбежавших,
В вечное право, где великое снова становится великим,
Господин снова господином, дисциплина снова дисциплиной,
Он прикрепляет истинный символ на народное знамя,
Он ведет через бури и ужасные знамения
Багряного рассвета свой верный отряд на дело
Пробуждающегося дня и основывает Новый Рейх»
Множество людей в послевоенные годы тосковали по фигуре вождя, который был бы одновременно жёстким и умным, создал бы порядок, дисциплинировал бы свой народ, положил бы конец возне партий, взял бы в свои руки единоличное руководство и в то же время знал бы, как с ним обращаться. А именно в особенности во внешней политике и — да — в том числе и военными средствами. Это видение повсеместно присутствовало уже в 1918–1919 гг., никогда не умирало полностью, в 1930 году неожиданно снова стало актуальным. И Гитлер казался ему соответствующим. Гитлер в действительности был воплощением сокровенной мечты множества немцев, как раз такой, каким он был: со своим неслыханным красноречием, со своей грубостью, своей жёсткостью, со своей решимостью, со своей способностью ошеломлять, со своим талантом — способным находить неожиданные выходы из тяжёлых ситуаций. И со своим антисемитизмом тоже? По меньшей мере, многие были готовы с этим смириться.
Все эти три фактора вместе: нужда, возродившийся национализм и фигура Гитлера создали национал-социалистическое движение, не столько партию как таковую, но массовое движение, которое неожиданно охватило партию и подпитывало её, день ото дня превращая её в очень сильную политическую силу, с которой теперь должны были считаться более старые правые Германии, правые высших классов, которые при Гинденбурге снова пришли к власти.
Шляйхер, бывший тогда ещё движущей силой движения реставрации, весьма отчётливо заметил это и побуждал Брюнинга так сказать опередить Гитлера и провести монархический государственный переворот, прежде чем движение Гитлера станет подавляющим. Но Брюнинг медлил — Шляйхер назвал его тогда «Осмотрительный Брюнинг». Он хотел сначала достичь своего большого внешнеполитического успеха — ликвидации репараций. А это требовало времени. Прошел 1931 год, один за другим протекали месяцы 1932 года. Лишь в июле 1932 года репарации в конце концов были отменены — а тут Брюнинг был уже свергнут.
Правда, до этого Брюнинг нашёл возможность продолжать управлять далее полупарламентским способом: в конце 1930 года он неожиданно снова обрёл парламентское большинство. Социал-демократов тогда охватил ужасный страх перед взлётом Гитлера, и они решили впредь «терпеть» Брюнинга как малое зло — так что создать ему в рейхстаге большинство, не участвуя самим в управлении. Брюнинг, если бы и захотел сам, не смог бы принять в правительство никаких социал-демократов. Он ведь возглавлял президентское правительство, он вовсе не должен был управлять парламентскими методами. Но он принял толерантность по отношению к себе и управлял довольно спокойно, во внутренних делах безопасно, с помощью своего квазипарламентского большинства и чрезвычайных постановлений рейхспрезидента вплоть до 1932 года. При этом у него всегда была надежда, что он затем, с большим внешнеполитическим успехом в кармане, сможет успешно взяться за внутриполитические изменения, что собственно было его задачей.
Но Шляйхер потерял терпение. Он уговорил Гинденбурга сместить Брюнинга и назначить рейхсканцлера, который бы проводил более резкий внутриполитический курс и в ускоренном темпе провёл бы то, что собственно обязан был провести Брюнинг и на что он согласился: переход к новой авторитарной конституции. Фигурой, которую можно сказать нашёл Шляйхер, был Франц фон Папен, до той поры незнакомый большей части немцев правый депутат центра в прусской палате представителей. Папен был также, в отличие от происходившего из средних классов Брюнинга, типичным представителем старой вильгельмовской правящей прослойки. Свои важнейшие политические точки соприкосновения он находил в берлинском аристократическом клубе.
Новый рейхсканцлер в июне 1932 года составил «кабинет баронов», как тот тотчас же был прозван, и провозгласил «совершенно новый вид управления правительством и государством». В отличие от Брюнинга, Папен прямо пошёл на государственный переворот. Для начала он распустил рейхстаг; в конце июля были проведены выборы, и теперь нацисты с 37 процентами голосов стали самой сильной партией в Германии. Коммунисты также усилили свои позиции. Рейхстаг с июля 1932 года был первым, в котором больше не было способного управлять большинства ещё достаточно большой коалиции буржуазных и социал-демократической партий. Теперь обе революционные, отрицающие государство партии, националисты справа и коммунисты слева, образовали большинство, из которого естественно никакого толка не могло выйти. По этой причине Папен нашёл, как казалось, очень благоприятное условие для задуманного государственного переворота: рейхстаг был теперь явно и отчётливо более неспособен к управлению страной.
Он был тотчас же снова распущен, правда не без того, чтобы он прежде не выразил Папену с преобладающим большинством свое недоверие. Уже этот роспуск был явным нарушением конституции. По конституции свергнутый рейхстагом с вотумом недоверия рейхсканцлер должен был бы быть отправлен в отставку. Папен же вовсе не помышлял об уходе в отставку.
Это было не первое нарушение конституции, которое совершил Папен. Ему уже предшествовало другое. В июле Папен, очень скоро после своего назначения, произвел так называемый «удар по Пруссии», то есть он сместил легальное прусское правительство, бывшее впрочем всё еще правительством Веймарской коалиции, изгнал министров из их министерств при помощи рейхсвера и назначил себя рейхскомиссаром по Пруссии. Это уже было малым государственным переворотом (и, рассматривая с исторической точки зрения, вообще-то подлинным концом самостоятельности Пруссии). К чему теперь подошёл Папен, это — время, в течение которого рейхстаг оставался распущенным, использовать для проведения запланированного большого государственного переворота, который должен был демократическую конституцию при помощи её статьи 48 превратить в монархическую. Папен действительно намеревался сделать это, и Гинденбург был готов поддержать его в этом. Но Шляйхер теперь вдруг отступился от Папена.
У изначальной идеи монархической революции Папена, Гинденбурга, а также Шляйхера была всё та же вовсе не незначительная слабость: не было в наличии кандидата на трон. Привести обратно состарившегося кайзера Вильгельма II. из его голландского изгнания было исключено. Бегство в Голландию стоило кайзеру потери уважения, в том числе и среди монархистов; посадить его на трон ещё раз, что было бы особенно по душе лично Гинденбургу, представлялось невозможным.
Кронпринц со времени своего раннего возвращения в Германию стал частным лицом; в роли кайзера он также более не рассматривался. Его сыновья были молоды и неизвестны. Во всей Германии того времени был только один человек, который возможно мог взять на себя роль монарха: кронпринц Руппрехт Баварский. В качестве короля Баварии он вполне вероятно был бы очень любезен своим землякам. Но сделать его новым кайзером Германии означало бы связать реставрацию монархии также со сменой династии. Это казалось невозможным. Решение, которое в заключение было принято, состояло в том, чтобы тем временем вновь избранного — при помощи голосов его прежних противников — рейхспрезидента сделать правителем империи, то есть регентом подрастающих сыновей кронпринца. Но это с учётом возраста Гинденбурга не было бы решением на длительный срок, и на это также не решились пойти открыто. Так что нужно было провести государственный переворот, который опирался бы единственно на древнего Гинденбурга, причём оставалось неясным, как должно пойти дело после его кончины. И следовало произвести этот государственный переворот против сильного народного движения национал-социалистов, против всего, что ещё оставалось от республиканцев, и против также становившихся сильными коммунистов. Это было бы возможно только при применении военного насилия; следовало бы считаться со всеобщей забастовкой, с сильными волнениями справа и слева — и тут Шляйхер струсил. Он не хотел править против всех, и он разузнал, как впрочем и Папен, что мощное национал-социалистическое движение ни в коем случае не было готово принять монархическую реставрацию или даже только лишь терпеть её.
Гитлер хотел всей власти для себя; но меж тем и его 13 миллионов избирателей не желали никакого восстановления монархии и старой системы, как при Вильгельме II. Они хотели нечто новое и динамичное. Очевидно, не будет неверным предположить, что в основном они хотели как раз того, что они затем получили: единоличного владычества Гитлера. Избирательная борьба 1932 года — сначала выборы президента, в которых Гитлер противостоял Гинденбургу, затем выборы в рейхстаг 31 июля, и в заключение вторые выборы в рейхстаг в ноябре — проводилась национал-социалистами совершенно отчётливо теперь не только против «ноябрьских предателей», но ещё в большей степени против старых-новых господствующих классов, против «баронов», против Папена. Во все времена национал-социалисты балансировали между правыми и левыми. В 1932 году они выпятили прежде всего свою «левую», популистскую сторону. Это зашло настолько далеко, что во время Берлинской забастовки транспортников в ноябре 1932 года они объединились с коммунистами. К этому времени относится фотография, на которой Геббельс и Ульбрихт изображены на одной и той же трибуне.
Шляйхер посчитал, что к такому союзу рейхсвер не готов. Кроме того, его идеи между тем изменились. Генерал обзавёлся «мозговым трестом» из блестящих молодых журналистов, которые издавали тогда очень популярный ежемесячный журнал «Die Tat[18]». Под их влиянием он разработал новую концепцию, которая в существенных моментах отличалась от его скромных представлений о реставрации в 1929 году. Что ему теперь представлялось как будущая основа правительства, был союз не парламентских партий, а союз рейхсвера, профсоюзов и входящей в объединения молодёжи. Кроме того, он хотел расколоть национал-социалистов. Грегор Штрассер, главный организатор НСДАП, должен был войти в правительство и привести с собой часть партии. Что теперь представлял в мыслях себе Шляйхер, было своего рода корпоративное или сословное государство, нечто вроде немецкого фашизма, который должен был нейтрализовать национал-социализм Гитлера. Монархическая реставрация в новых планах Шляйхера играла уже совершенно неопределённую роль. Возможно, что внутренне он уже от неё отказался.
Во всяком случае, теперь Шляйхер с конца ноября не принимал участия в плане государственного переворота Папена и привел к его свержению. После чего Гинденбург (весьма неохотно) отложил план государственного переворота и назначил Шляйхера рейхсканцлером.
Всё же во время краткого канцлерства Шляйхера потерпели неудачу все их честолюбивые планы. Этот генерал от политики, который в течение долгих лет казался могущественнейшим человеком в Германии, пока он действовал за кулисами, на открытой трибуне оказался самым неудачливым канцлером, какого когда-либо имела Германия. У него ничего не получалось. Профсоюзы отклонили идею сотрудничества, Грегор Штрассер отказался, а с одной лишь союзной молодёжью никакого государства не построишь. Даже в рейхсвере образовалась группа противников Шляйхера. Национал-социалисты, которые на ноябрьских выборах потеряли 2 миллиона голосов, стали снова сильнее, и коммунисты также усиливались. В конце января Шляйхер вынужден был вернуться к тому, что он еще избежал в ноябре: просить Гинденбурга распустить рейхстаг и дать ему возможность правления без парламента, и тем самым осуществить государственный переворот. Но в том, на что за два месяца до того Гинденбург дал согласие Папену, теперь он отказал Шляйхеру.
Между тем Гинденбург поддерживал постоянную связь с Папеном, которого вытеснил Шляйхера в пользу себе, и Папен со своей стороны не оставался бездеятельным. Он уже всегда намеревался каким-либо образом задействовать Гитлера, в августе 1932 года он даже однажды был готов назначить его вице-канцлером, причем он не только недооценивал Гитлера, но оценивал его полностью неверно.
Папен рассматривал Гитлера с перспективы господина, аристократа. Для него Гитлер был одарённым плебеем, выдвиженцем из низов, который должен быть рад, если будет допущен в «кабинет баронов» в качестве практиканта. Он не имел никакого понятия о гораздо более масштабных планах Гитлера и о его гораздо более высоком честолюбии.
Гитлер действительно отклонил великодушное предложение Папена. Он настаивал на том, что он сам должен стать рейхсканцлером, и именно со всеми чрезвычайными полномочиями. Гитлер стремился к своему собственному государственному перевороту.
Папен между тем взвесил вариант — не меняя при этом своей оценки Гитлера — что в чрезвычайной ситуации это могло бы быть приемлемым. Действительная власть всё же была ещё у рейхспрезидента, и в этом Папен чувствовал себя уверенным, даже если Гитлер станет номинальным рейхсканцлером, а Папен только лишь вице-канцлером. Если можно было «ограничить» Гитлера, как он сам охотно выражался, если Гитлер не настаивал на том, чтобы тотчас же привести в правительство всех своих последователей, если он был готов образовать своего рода коалицию с немецкими националистами и возможно даже с центром — то почему собственно нет?
Когда затем в последние дни января 1933 года была сформирована коалиция национал-социалистов и немецких социалистов, то Папен весьма самодовольно ответил критику, который изумлённо и испуганно упрекал его: «Как, Вы привели Гитлера к власти?!» — «Вы ошибаетесь, мы его только наняли». Насколько же он ошибался!
Последнюю эпоху Германского Рейха следует называть эпохой Гитлера, и именно в ином смысле, чем по которому годы перед Первой мировой войной можно обозначить как кайзеровскую эпоху, а позднейшую фазу Веймарской республики как эпоху Гинденбурга.
Кайзер и Гинденбург несомненно были представительными фигурами своей эпохи. Но они ни в коем случае не были людьми, которые определяли бы внутреннюю и внешнюю политику Германского Рейха по своему усмотрению. Это можно скорее сказать о Бисмарке. Но никогда в своё время Бисмарк настолько не господствовал над Рейхом и не мог его формировать в соответствии со своими идеями настолько без сопротивления, как это делал Гитлер в последние двенадцать лет его существования.
Захват власти Гитлером состоял не в том, что 30 января 1933 года он был назначен рейхсканцлером. Наоборот: тогда еще многие верили, что странное правительство Гитлера-Папена исчерпает себя настолько же быстро, как и его предшественники и тогда снова придёт нечто совсем другое. То, что этого не произошло, для многих людей было большой неожиданностью, а для большинства из них и отрадным явлением.
После того, как Гитлер был назначен рейхсканцлером, в последующие четыре месяца с февраля до июля 1933 года он захватил политическую власть почти полностью. А затем, после паузы, он захватил такого рода власть, которую до того невозможно было вообразить, а именно абсолютную власть. Так что захват власти произошел, так сказать, в два приёма.
Первый этап — в первой половине 1933 года — заключался в зачистке политического поля. Политическая жизнь, сформировавшаяся в прошедшие три года в Германском Рейхе, смесь остатков веймарской парламентской демократии с новым авторитарным и президентским управлением государством, существовала 30 января 1933 года точно так же, как и прежде. 14 июля 1933 года она полностью исчезла со сцены. Партий больше не существовало, не было ни президентского режима, ни парламентского режима — тем временем правил единственно рейхсканцлер со своей партией. Для этого был проведён захватывающий дух процесс, который естественно был проведён не без многочисленных нарушений закона, не без ужасных подлостей.
Решающим событием, которое до сих пор в действительности не раскрыто, стал пожар в рейхстаге 27 февраля 1933 года. Гитлер использовал этот поджог в качестве предлога, чтобы — ещё во взаимном согласии с Папеном — заставить рейхспрезидента подписать ещё один чрезвычайный закон, который далеко превосходил все предшествующие. Конституция была большей частью отменена, все основные права отменены, введена возможность произвольного ареста. Эти аресты также были уже подготовлены: они начались на следующий день, 28 февраля.
Тем самым был введен новый элемент в германскую политику: легальный государственный террор. Сначала это террор применялся ещё относительно выборочно. Первыми жертвами, которых тотчас же арестовали или которые вынуждены были бежать, чтобы избежать ареста, были коммунистические и некоторые другие левые политики и прежде всего левые публицисты и писатели, ставшие особенно нелюбимыми при правящей теперь группе. В первые недели не было никакого всеобщего террора.
Несмотря на это, террор от 28 февраля имел уже решающее воздействие. 81 депутат от коммунистов, которые были ещё избраны неделю спустя, больше не вошли в новый рейхстаг: когда через три недели рейхстаг был открыт, они все уже находились в концентрационных лагерях, в подполье или в эмиграции. Это существенно изменило результаты выборов в рейхстаг.
Ведь в сущности эти выборы прошли для правительства разочаровывающе. Национал-социалисты вместе с немецкими националистами обладали лишь скудным большинством примерно в 52 процента; сами национал-социалисты получили лишь 43,9 процента поданных голосов. Их надежды на абсолютное большинство не исполнились. Но после изгнания коммунистических депутатов теперь у национал-социалистов неожиданно было все же абсолютное большинство, и вместе с буржуазными партиями они смогли достичь даже большинства в две трети, которое могло дать им окончательное изменение конституции, устранение рейхстага от дел.
Когда 23 марта в рейхстаге речь зашла об отмене парламентской конституции, это большинство двух третей сыграло свою роль. Все партии за исключением социал-демократов проголосовали за так называемый закон о предоставлении чрезвычайных полномочий правительству, которое отныне имело право — легально, если желаете — издавать законы без участия рейхстага, а именно сначала в течение четырех лет. Это был второй государственный переворот после 28 февраля. От него до полного самороспуска всех буржуазных партий и до запрещения социал-демократической и коммунистической партий, которые последовали в июне и в июле, был теперь лишь короткий путь.
Примечательно в этом периоде времени то, что буржуазные партии в действительности не хотели больше участвовать в политической жизни, что они были удовлетворены тем, что вынуждены были так сказать отойти в политическое небытие. Это связано с тем, что тогда называли «национальным подъемом» или же «национал-социалистической революцией», а именно полной переменой настроений, которая произошла между выборами в рейхстаг 5 марта и летом 1933 года в Германии. Это нечто, что трудно поддаётся исследованию, но о чём помнит каждый, кто пережил это. Настроения нельзя даже определить, ограничить и удержать; они представляют собою нечто атмосферное, так сказать «газообразное» по своей природе — но они очень важны. Точно так же, как и настроение августа 1914, настроение 1933 года имело большое значение. Потому что этот рывок настроений образовывал собственную основу власти для наступающего фюрерского государства. Это было — нельзя назвать это как-то иначе — очень широко распространенное чувство избавления и освобождения от демократии. Что делать демократии, когда большинство народа больше не желает её? Тогда большая часть демократических политиков пришла к заключению: мы уходим от дел, мы выходим из политической жизни. Она не должна нас больше касаться. Демократические партии вели себя в июне и в июле 1933 года точно так же, как вели себя германские правители в ноябре 1918 года.
«Национальный подъём» — я его ещё отчётливо помню — вырос из двух корней. Во-первых, из усталости от политической неопределённости последних лет перед 1933 годом. Люди хотели снова знать, как им быть, хотели порядка, крепкой руки, крепкой воли, хозяина во главе страны.
Однако — и это второй корень этого движения — не желали ни Папена, ни Шляйхера во главе, никакого представителя представлявшегося изжившим себя и отрекшегося в 1918 году старого монархического высшего класса. Хотели нечто действительно нового: господства народа без партий, популярной фигуры вождя (как видели её в Гитлере), и прежде всего хотели, чтобы Германия снова стала единой, большой и сильной — как в 1914 году. Тогда кайзер сказал: «Я больше не знаю никаких партий, я знаю теперь только немцев». Теперь действительно не хотели больше никаких партий: «только лишь немцы». Когда Гитлер упразднил партии, это соответствовало чаяниям подавляющего большинства буржуазных избирателей, а не только тех, кто 5 марта голосовал на национал — социалистов.
Это настроение произвело на представителей старых буржуазных партий неотразимое впечатление. Один из последних министров Веймарской республики, бывший тем временем простым депутатом лево-либеральной демократической партии, Дитрих, который после некоторых совестливых размышлений проголосовал за закон о чрезвычайных полномочиях, писал после 1945 года, что никогда прежде он не получал от своих избирателей такой преобладающе одобрительной почты, как после этого решения.
Это выглядит как малозначимый факт; однако можно рассматривать его как симптом процесса, который разыгрывался в месяцы с марта по июль 1933 года. Несмотря на все нарушения закона, которые случались уже в это время, несмотря на организацию концентрационных лагерей, несмотря на произвольные аресты, а также первые отчётливые признаки антисемитской политики, в широких кругах населения формировалось убеждение, что наступило великое время, время, в которое нация снова объединилась и, наконец, нашла своего посланца богов, происходящего из народных масс вождя, который заботится о дисциплине и порядке, собирает вместе силы всей нации и который должен вывести Германский Рейх в новое, великое время. Это было то настроение, которое позволило Гитлеру практически без сопротивления зачистить всю политическую сцену и добиться ситуации, в которой никто за пределами его собственного круга не мог оказать сопротивления его воле или же сорвать его планы.
Это до сих пор необъясненное событие. Потому пожалуй, что охотно забывают, что весной и в начале лета 1933 года в действительности имело место нечто вроде сосредоточения нации; не непременно вокруг национал-социалистической партии, но вокруг Гитлера, вокруг Фюрера, как его теперь обыкновенно стали называть. Что с этим совпадало, было другое исключительное событие: то, что называли «приобщением» (к господствующей идеологии).
Всё, что ещё существовало в Германии за пределами собственно партийного ландшафта среди политических — или также и неполитических — организаций, от крупной промышленности и союзов по интересам, включая профсоюзы, вплоть до самых малых объединений, старалось в эти месяцы «приобщиться», что означало смену их руководства, придание им национал-социалистического характера, стремление пристать к движению, которое заполонило теперь Германию, и идти вместе с ним.
К этому прибавилось в эти месяцы неслыханное количество вступлений в партию людей, которые до того держались подальше от национал-социализма и которые теперь перед тем, как закроются ворота, ещё пробрались или протиснулись в партию: так называемые «мартовские новообращённые». Пока НСДАП действительно не закрыла свои ворота и с середины 1933 года в течение четырёх лет не принимала более новых членов. Было ещё раз второе короткое открытие партии для вступления в 1937 году, и ещё раз нашлось очень много новых членов партии, которые по своим убеждениям собственно вовсе не были национал-социалистами, но однако «поставили себя на почву фактов» и хотели сделать карьеру. Образ мыслей, который можно презирать, но который однако заложен в природе человека и который в тридцатые годы превратил немцев в политически совершенно превосходно сплочённую нацию.
Теперь обратимся ко второму этапу захвата власти. Как выглядело положение, после того, как политическая сцена была зачищена, и Гитлер со своей партией остался единственной политической силой в Германии? Хотя НСДАП была единственной политической силой, но она вовсе не была единственной силой. Система власти Гитлера не состояла единственно лишь из партии; она была составлена из нескольких национал-социалистических организаций, из которых самой важной были оборонительные соединения партии: СА[19].
СА в это время были собственно инструментом террора. Первые концентрационные лагери были оборудованы и управлялись СА, и тем самым они образовали инструмент самостоятельного террора. СА арестовывали не только по приказу сверху, они арестовывали также самостоятельно по своему разумению, не в последнюю очередь по причине личной вражды. Режим террора, который установился с очень многими преступлениями и немалым количеством убийств, частично выскользнул из рук Гитлера.
Наряду с СА в тогдашней Германии была ещё одна сила, хотя и не политическая, но зато более реальная. Это был рейхсвер. Рейхсвер вначале поддержал назначение Гитлера рейхсканцлером. Новая группа в руководстве рейхсвера, находившемся уже под руководством не генерала фон Шляйхера, а генералов фон Бломберг и Райхенау, было дружественной к нацистам и хотела использовать нацистское движение для своих целей. Поэтому они поддержали в январе решение Гинденбурга назначить Гитлера рейхсканцлером. Но несмотря ни на что, рейхсвер всё же оставался старым государством в государстве; они рассматривали национал-социалистов как дружественно настроенного союзника, но ни в коем случае не считали себя подчинёнными им.
Тут между рейхсвером и СА возник конфликт, который поставил Гитлера в большое затруднение. СА, массовая организация под руководством старого низшего офицера Первой мировой войны, желала теперь сама стать новой национал-социалистической армией нового рейха. Они планировали превратиться в новый рейхсвер, лишить власти старое руководство рейхсвера, частично вобрать его в себя, частично возможно отправить его на пенсию. СА должно было стать новым, великим, революционным, национал-социалистическим войском — что собственно должно было быть подходящим для Гитлера. Ведь СА была его собственной организацией, он сам был верховным вождем СА, OSAF[20] (даже если он и не мог каждодневно исполнять эти обязанности). Таким образом, он мог рассчитывать на то, чтобы получить армию, которая была бы политически проникнута его идеями и над которой он бы господствовал, а не только была бы с ним связана союзом.
Тем не менее, Гитлер принял сторону рейхсвера. Как мне представляется, по двум причинам: менее существенную следует искать в том, что Гитлер с первого момента планировал большое вооружение, а позже и ведение войны. Первая группа, к которой он обратился в начале февраля 1933 года сразу же после своего назначения рейхсканцлером, не случайно была генералитетом рейхсвера. Для большого вооружения, а затем и войны Гитлеру ведь требовался не только послушный, но и прежде всего первоклассный с военной точки зрения инструмент. А это был рейхсвер. СА со своими полными энтузиазма миллионами по большей части невысоко стоящих на социальной лестнице членов не имел военного духа и военных традиций, которыми был пронизан рейхсвер. Но ещё важнее для Гитлера должна была быть другая причина, по которой он в конфликте между рейхсвером и СА встал на сторону рейхсвера.
Старый Гинденбург ещё был жив, но больше не представлял политической силы, какой он был в годы до Гитлера. Теперь он действительно стал древним стариком и в начале 1934 года удалился в своё имение Нойдек, чтобы умереть там. Кто должен был стать его наследником? Гитлер был полон решимости самому стать им и завершить свой захват власти тем, что он в своей персоне объединит должности рейхспрезидента и рейхсканцлера. Но это было возможно только в том случае, если рейхсвер не встанет у него на пути. Так что Гитлер должен был попытаться прийти к некоему соглашению с рейхсвером, которое позволит ему стать рейхспрезидентом. Такое соглашение в сущности означало бы, что рейхсвер непосредственно подчиняется новому рейхспрезиденту Гитлеру — так же, как до того Гинденбургу, ибо в конце концов глава государства по старой германской традиции был Верховным Командующим вооруженных сил.
Рейхсвер проявил готовность к этой жизненно важной для Гитлера сделке; правда, при том условии, что СА будет отодвинуто на задний план, что их планы заменить собой рейхсвер будут уничтожены и что Гитлер впредь не будет более использовать СА как инструмент террора. Это поставило Гитлера в весьма щекотливое положение, поскольку многое говорит о том, что он подал надежды своей боевой группе в том, что после смерти Гинденбурга он проведёт задуманную им «вторую революцию», военную революцию. Из этой дилеммы Гитлер нашёл только один выход: он должен убрать вождя СА. И он это сделал 30 июня 1934 года. В этой истории, даже если нет никакой симпатии к руководству СА, есть нечто чрезвычайно отталкивающее. Гитлер договорился с руководством СА, что СА в июле 1934 года будет отправлено в отпуск, до ожидаемой смерти Гинденбурга. До этого он хотел 30 июня провести конференцию с руководством СА в Бад-Висзее, чтобы обговорить всё последующее. Таким образом, руководство СА 29 июня оказалось в Бад-Висзее, чтобы на следующее утро ожидать Гитлера. Гитлер появился на несколько часов раньше, ещё ночью, с большим сопровождением полиции, и именно не для того, чтобы принять участие во встрече с СА, а чтобы арестовать всех собравшихся в Бад-Висзее руководителей СА, отправить их в Мюнхен или в Берлин и там их без обвинений, без допросов и суда на скорую руку расстрелять. Позже он обосновывал это тем, что СА готовили путч. Действительно, название «Путч Рема» и сегодня ещё мелькает в немецких исторических книгах.
Но путча Рема никогда не было. Рем, «начальник штаба» СА, верил, что находится во взаимопонимании с Гитлером, когда он готовил планы для будущего военного государственного переворота. Вместо этого он был захвачен во сне и был убит вместе с большей частью своего руководства. События 30 июня 1934 года через пару дней были одобрены кабинетом министров рейха как необходимая защита государства. Они дали первое ощущение смертоносного господства террора и произвола, который должен был разразиться над Германией в годы с 1938 до 1945.
Рейхсвер соблюдал свой пакт с Гитлером. Гинденбург умер 2 августа, уже в тот же день Гитлер назначил себя его наследником, и рейхсвер принял личную присягу Гитлеру как своему Верховному Командующему, которая была от него потребована. Тем самым Гитлер кроме политической сцены лишил власти и военную, и сделал себя не только политическим единоличным властелином, но и своего рода Верховным Главнокомандующим, новым кайзером.
Вызывающее ужас убийство руководства СА в целом было одобрено также широкой немецкой публикой и старыми правящими слоями общества в Германии — не с восторгом, с которым приняли к сведению упразднение партий, однако с определенным удовлетворением и облегчением. СА не любили. В глазах правящих слоев Германии они были сообществом пролетариев и дебоширов, и в среде нормальных буржуа их боялись из-за их непредсказуемых и жестоких нападений, например на магазины. То, что теперь был положен конец преступлениям этих людей, что фюрер и тут наконец навёл порядок, что наконец пришла нормальность — это приветствовалось. С ужасными методами, которые при этом использовал Гитлер, смирились. Также смирились с тем, что при этом было убито несколько выдающихся консерваторов, среди них предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера генерал Шляйхер вместе со своей женой. Если искать вину всего немецкого народа в преступлениях Гитлера, то тогда пожалуй искать её следует здесь.
В результате этих обоих политических действий по осуществлению государственного переворота, с марта до июля 1933 и с июня по август 1934 г., настал период умиротворения. Годы с осени 1934 вплоть до 1938 были «хорошими» нацистскими годами. В эти годы террор раннего времени был несколько ограничен; концентрационные лагери продолжали существовать, но из них выпускали больше людей, чем поступало в них. Казалось, что жизнь нормализовалась.
Одновременно в эти годы началось гитлеровское экономическое чудо: оживление экономики, которое за четыре года с 1933 до 1937 привело от массовой безработицы к полной занятости — чем Гитлер завоевал симпатии почти всех бывших приверженцев социал-демократов и большей части тогдашних последователей коммунистов, тем самым получив на своей стороне большинство избирателей или, по меньшей мере, нейтрализовав их.
Можно ли таким образом подвергать сомнению истинно чистую совесть? В конце концов это открытый вопрос, насколько в эти годы массы немецкого народа действительно поддерживали Гитлера. Абсолютного большинства при свободных выборах он никогда не получил бы, а 99 процентов голосов при плебисцитах и обновлениях рейхстага, которые периодически проводились в ноябре 1933, весной 1936 и весной 1938 гг., вообще ни о чём не говорят. Это не были настоящие выборы: люди должны были идти на «выборы», чтобы не обращать на себя внимание, люди бросали в урны свои избирательные бюллетени, а ставили на них крестики или нет, это всё равно не имело никакого значения. Тем не менее для всех современников было очевидным, что Гитлера с конца 1933, самое позднее с конца 1934 года поддерживало весьма существенное большинство немцев, что они одобряли его власть, приветствовали и были удовлетворены её результатами. При этом в среде буржуазии особенно значимыми были удавшееся вооружение и всё более успешные внешнеполитические действия, а в среде рабочих — в основном никем реально не ожидавшиеся экономический подъём и полная занятость.
Что же за государством собственно был в этот период Третий Рейх? Это не было партийное государство, как часто говорилось. Это не было такое государство, как например нынешняя ГДР или Советский Союз, то есть такое, в котором власть реально принадлежит отдельной партии. У национал-социалистической партии не было Центрального Комитета, не было Политбюро, и Гитлер никогда не созывал какой-либо партийной коллегии, чтобы с ней посоветоваться. Партийные съезды, которые каждый год осенью с большой пышностью проводились в Нюрнберге, не были тем, что собственно называют партийными съездами, то есть встречами руководителей партии с делегатами основы партии, на которых обсуждаются программы и принимаются решения. Таких совещаний никогда не было в Нюрнберге. Национал-социалистические партийные съезды были парадами партийных масс, но также и других организаций. Были «День СА», «День СС», даже «День рабочих служб рейха», после 1934 года также «День Вермахта». Все органы, все государства в государстве — если хотите их так называть — собирались на грандиозную впечатляющую демонстрацию, на которой произносил речи только Гитлер, снова и снова Гитлер. Он сам ничего не слушал. Не партия управляла государством. Правил Гитлер, в том числе и через партию.
В том числе: потому что с исчезновением всех других партий национал-социалистическая партия также больше не играла никакой действительно значительной роли в государстве. Совершенно присуще этому то, что имена почти всех гауляйтеров и рейхсляйтеров, высших партийных функционеров, полностью забыты и уже в Третьем Рейхе едва ли были более известны широкой публике. Третий Рейх Гитлера не был партийным государством, он был государством Фюрера.
И он не был — также в противоположность многому, что теперь воспринимается как само собой разумеющееся — собственно тоталитарным государством. Напротив. В государстве Гитлера было большое количество государств в государстве — больше, чем когда-либо прежде в Германском Рейхе. Немецкий профессор Эрнст Фрэнкель написал в эмиграции книгу «The Dual State»(«Двойное государство»), в которой он очень тонко нащупал, что в Третьем Рейхе существовало по меньшей мере два государства: государство произвола и господства террора и наряду с ним старое, привычное чиновничье государство, даже правовое государство. Тот, кто вёл спор по вопросу найма или бракоразводный процесс, получал своё право совершенно нормально и точно по старым книгам законов и по старым процессуальным уложениям — национал-социализм или нет, это не играло никакой роли. Так было не только в области министерства юстиции, но также и во многих других областях, где дела велись по старому порядку и где особенно с конца 1934 года, после того как пошел на спад террор СА, наступила определённая нормальность. Конечно же, нормальность, которая могла быть прервана, если Фюрер планировал более значительную политическую акцию, для которой он в таком случае находил свои инструменты.
Особым государством в государстве оставался как и прежде вермахт, как он теперь назывался после введения всеобщей воинской обязанности. Поэт Готфрид Бенн, который тогда вернулся к своей старой профессии военного врача, назвал это аристократической формой эмиграции.
Ну, уж эмиграцией это никак не было, а в отношении аристократического могут быть различные мнения. Но это была форма личного отступления, сегодня бы сказали: в нишу, в особое государство в государстве, где ещё долгое время оставались преобладающими старые обычаи и традиции. Так например, в вермахте вплоть до 1944 не пользовались приветствием «Хайль Гитлер», а по старому военному обычаю прикладывали руку к головному убору.
То, что существовала такая ниша, ни в коем случае не было недосмотром Гитлера. Нацистов характеризуют как «движение», но мысль о том, что действительным движением после 1933 года был сам Гитлер, звучит очень редко. Гитлер в качестве правителя привёл в движение больше, чем весь Германский Рейх и весь немецкий народ. Он никогда не создал прочного государственного порядка, не оставил никакой конституции, множество институций и организаций, которые он вызвал к жизни, он никогда не координировал и не поставил их в упорядоченные отношения. И он оставил это так осознанно, именно чтобы всё оставить в движении. Потому что для Гитлера Германский Рейх не был окончательной целью. Он не был для него унаследованным, что следовало сохранять. Для Гитлера Рейх был только лишь трамплином, только лишь исходным пунктом для огромного территориального расширения и для создаваемой вновь структуры власти, чья внутренняя, конституциональная организация была ещё совсем не представима. Так что отсюда внутренний хаос Третьего рейха.
Как же тем не менее управлялось Гитлером это — во множестве отдельных проявлений расколотое, не тоталитарное — государство, что оно оставалось фюрерским государством? В чём была причина того, что при всей «авторитарной анархии» (как её назвали) как раз продолжала существовать верховная власть, которая была в состоянии в любое время осуществлять свою волю там и тогда, когда ей это захочется? На это можно ответить двумя словами: пропаганда и террор. Оба этих инструмента были и оставались до конца нацистского рейха Гитлера важнейшими средствами господства; это то, что отличает государство Гитлера от более ранних государственных форм Германского рейха.
Начнем с террора. Во время всего владычества Гитлера были концентрационные лагери, в которые люди попадали по произволу, без ордера на арест, без рассмотрения дела, без обвинения и в которых они должны были ожидать горькую участь. Эти концентрационные лагери после лишения власти СА подчинялись другому созданному Гитлером формированию террора — СС[21]. 30 июня 1934 года Гитлер сделал нечто весьма умное. Он расстрелял руководство СА не силами рейхсвера, которое весьма охотно устранилось от этой неприятной задачи, не желая пачкать руки. Он использовал для этого свою другую маленькую, вооруженную рейхсвером и снабженную требующимися средствами транспорта военизированную организацию, существовавшую до того собственно лишь как особое подразделение СА, а именно СС. Теперь СС стало новым СА — и в то же время несколько иным, чем СА. Потому что СС в противоположность СА никогда не была преимущественно пролетарской организацией. Она с самого начала задумывалась в качестве своего рода аристократии внутри национал-социалистической организации, особо отобранные войска, в том числе с расовой точки зрения. Гвардейский рост! Родословная до 1800 года! Но СС имела и свои специальные функции. СА хотели стать вермахтом. В этом им было отказано, и после того, как они не достигли своей цели, они отошли на незначительные роли. СС предприняла нечто иное: СС хотела стать полицией рейха, и это Гитлер им разрешил, это удалось. Полиция, которая ещё в первые годы правления Гитлера была делом независимых земель рейха, была теперь централизована, её отделения стали принадлежать к имперскому ведомству. СС очень скоро полностью пронизала главное ведомство безопасности рейха. Важнейшие люди руководства СС вступили в полицию, а оставленные на должностях служащие полиции получили свои звания соответственно рангам СС. СС и полиция сплавились в единое целое и стали тем самым ощутимой силой в государстве, силой, какой прежде не было.
Вдобавок СС было чрезвычайно расширено. Его функции террора, которые оно практиковало независимо от своих — равным образом наводящих страх — полицейских функций, были переданы особым выученным для этого соединениям, так называемым частям «Мёртвая Голова», которые теперь заместили СА в качестве заведующего и руководителя концентрационных лагерей и ввели в них новый, гораздо более урегулированный, гораздо более бездушный, не столь непредсказуемый и недисциплинированный режим, как прежде. Но это был разумеется не гуманный режим, а напротив скорее ещё более жёсткий с ужасными дисциплинарными наказаниями, от рутинным образом исполнявшегося телесного наказания за тривиальные нарушения дисциплины до часто произвольно применявшейся в качестве наказания смертной казни.
Всё это должно было быть подготовлено. В 1934 году СС были ещё относительно небольшим войском. Им требовалось несколько лет, чтобы превратиться в вызывающий ужас инструмент власти и террора, каким они были приблизительно с 1938 года. Аналогично тому, как вермахту требовались годы, чтобы из небольшого рейхсвера численностью в сто тысяч человек, каким он был ещё в 1933 году — даже если тайно и уже несколько увеличенный — стать огромной военной силой, которая требовалась Гитлеру для его войны.
То, что обе этих вещи, с одной стороны военное вооружение и с другой стороны расширение СС, требовали несколько лет, придало периоду времени между 1934 и 1938 гг. определённую нормальность. Истинные стремления Гитлера, которые очень сильно ощущались в первые годы и которые затем с 1938 года стали распространяться всё больше, только лишь на время ушли на задний план.
Выше я говорил о двух инструментах господства Гитлера: о терроре и о пропаганде. За террор был ответственен Гиммлер со своими СС. Он был в этом отношении правой рукой Гитлера. За пропаганду было ответственно созданное из ничего в марте 1933 года имперское министерство народного просвещения и пропаганды, подчинявшееся Геббельсу, которого можно было назвать левой рукой, незаменимой левой рукой Гитлера.
У Геббельса никогда не было самостоятельного властного положения под Гитлером, до какого вырос Гиммлер в течение последующих нацистских лет. Он всегда оставался только лишь исполнителем, функционером Гитлера, и он никогда не мог влиять на политику Гитлера, в том числе на его внутреннюю политику, как это иногда мог делать Гиммлер. Но Геббельс управлял одним из важнейших государств в государстве Гитлера. Потому что он монополизировал, будучи легальным образом облаченным властью для этого Гитлером, всю область, какую сейчас называют областью медиа, то есть всё, что могло влиять на общественное мнение и общественное настроение. Тогда это были в первую очередь пресса, радиовещание (телевидения ещё не было), но также театр, кино и в определенном смысле даже производство книг, литература. И Геббельс исполнял свою задачу очень искусно, чем с чисто технической точки зрения можно лишь восхищаться.
Геббельс вовсе не пытался обратить в национал-социалистическую веру весь немецкий народ. Вместо этого он направил свои усилия на то, чтобы нарисовать немецкому народу посредством медиа-ресурсов здоровый мир, который должен был установиться при режиме фюрера, под эгидой национал-социализма. Особенно отчетливо это проявлялось в политике Геббельса в области кино.
Хотя министр пропаганды при случае способствовал съёмкам нескольких грандиозных пропагандистских фильмов — но их можно сосчитать на пальцах одной руки. Как правило, вся продукция немецкой киноиндустрии состояла из весёлых, бесхитростных, впрочем технически и с художественной точки зрения хорошо сделанных развлекательных фильмов, в которых события происходили так, как именно всегда происходит в кино: фильмы, в которых маленькие девушки подцепляют больших мужчин и в которых любовь оказывается всегда права, в которых никогда не звучит приветствие «Хайль Гитлер!», в которых нет ни малейшего намёка на то, что Третий Рейх вообще существует. В этих фильмах немецкая кинопублика находила то, что она искала и всегда находила, а именно исполнение своей приватной сокровенной мечты.
Весьма примечательно то, что Геббельс большую часть своей пропаганды делал при добровольном сотрудничестве людей, которые считали себя противниками нацистов, и по образу мыслей были такими. Актёры кино и режиссёры Третьего Рейха большей частью были теми, кого тогда называли «антис[22]». Исходя из того, что они делали фильмы, в которых Третий Рейх так сказать игнорировался, многие даже полагали, что они ведут своего рода сопротивление. То, что они при этом во всей безобидности и не выражая ничего явно национал-социалистического, совершали работу Геббельса и помогали отчасти втирать очки немецкому народу — а именно, что всё лишь наполовину столь плохо, и что в основном всё ещё люди ведут совершенно нормальную жизнь — этого они не понимали. Нельзя упрекать их в этом, потому что они должны были зарабатывать свои деньги, как любой другой; и любой другой, кто в Третьем Рейхе посредством честной работы хотел заработать свои деньги, сотрудничал тем или иным способом с Третьим Рейхом. Только вот то, что задним числом представляется как помощь сопротивлению, как это теперь происходит во многих воспоминаниях актёров — это слегка преувеличение.
Абсолютно подобно ситуации в кино обстояло дело с политикой Геббельса в отношении прессы. Геббельс не запрещал буржуазные газеты. Запрещены были все предшествующие социал-демократические и коммунистические газеты. Буржуазным газетам он позволил существовать дальше; и ни в коем случае нельзя сказать, что он их на самом деле нацифицировал. В редакции правда посылали какого-нибудь национал-социалистического журналиста, в качестве своего рода соглядатая. Однако роль, которую он там играл, обычно была очень подчинённая. Большинство старых редакций значительных буржуазных газет, например «Дойче Альгемайне Цайтунг», «Франкфуртер Цайтунг», «Берлинер Тагеблатт», остались в прежнем составе, разумеется, за исключением своих еврейских сотрудников.
Они также писали так, как писали всегда — и они должны были так писать. В Третьем Рейхе вполне существовало многообразие прессы. Кто читал «Франкфуртер Цайтунг», тот получал описание событий совершенно в другом тоне и стиле, чем тот, кто читал «Фёлькише Беобахтер». А «Фёлькише Беобахтер» естественно ещё отличался от также продолжавших существовать национал-социалистических боевых листков, как например «Шварцен Корпс (Черный Корпус)», органа СС, или «Штюрмер (Бунтарь)», органа антисемитского среднефранконского гауляйтера Штрайхера. Читатель газет в целом имел выбор, чтобы видеть представление вещей таковым, каким он это желал, и обслуживаться далее в соответствии со своим настроем.
Геббельс ограничивался только относительно скромным вмешательством. Каждый день в министерстве пропаганды под руководством советника министерства, редко — самого Геббельса, проводилась встреча, на которую газеты посылали редактора — обычно не главного редактора, и на котором излагалась так называемая «языковая норма». Эта «языковая норма» не означала, что газетам предписывалась каждая мелочь; как уже сказано, им следовало, они даже должны были сохранять свой стиль. Но это «нормирование» означало, что определенные новости следовало подавлять или представлять их очень несущественными, и что другие определённые новости следует выставлять как значительные. В определённых случаях, не часто, в критических ситуациях, редакторам также указывалось, какой линии следует придерживаться в своих передовых статьях.
Так что о тотальной унификации прессы не могло быть и речи. Пресса оставалась разнообразной. Но границы, которые не следовало переходить, соблюдались, и таким образом было достигнуто то, что и не национал-социалистической публике то, что было одобрено Геббельсом и Гитлером, подавалось в таком виде, в котором она могла это проглотить. Можно назвать это почти гениальной формой манипуляции общественным мнением и, сверх того, общественным настроением, без того, чтобы навязывать людям идеи, для которых они с точки зрения руководства рейха ещё не созрели.
К этому добавилось то, что пропаганду в годы между 1934 и 1938 тем более стало легче вести, поскольку Гитлеру в эти годы действительно было что предъявить. В то время даже противники нацистов были вынуждены признавать: да, этот человек может ведь достигать того, чего он хочет. Он не только знает, чего он хочет, он может это делать, и это ему удаётся. Следует отдать ему должное, он успешен. Следует отдать ему должное, он делает нас богатыми, великими и могущественными, и он показывает миру, что Германия снова чего-то стоит.
У Гитлера в этот период было три совершенно великих успеха. Во-первых, восстановление полной занятости, что опять было доверено государству в государстве, без большого личного вмешательства Гитлера. За это следует прежде всего благодарить Яльмара Шахта, прежнего демократа, который при Гитлере стал сначала президентом имперского банка, а затем также и имперским министром экономики. Шахт смог достичь расцвета экономики посредством сильно отгороженного от внешнего мира внутреннего хозяйствования на кредиты, но без сразу же проявлявшегося инфляционного воздействия. Годы с 1936 вплоть до 1939 были годами неслыханного экономического подъёма. Годы, в которые у обеих сторон экономики, как у предпринимателей, так и у рабочих, дела шли исключительно хорошо, во всяком случае безусловно гораздо лучше, чем в годы экономического кризиса и дефляционной политики Брюнинга. Этого нельзя было недооценить. Экономическое положение определяет так сказать погоду своего времени. В середине эпохи Гитлера царила прекрасная погода.
Вторым большим успехом, который мог бы предъявить Гитлер в это время, было удавшееся вооружение. Все сомнения, которые могли бы ещё существовать в рейхсвере против дальнейшей политики Гитлера, он смог таким образом нейтрализовать. Не следует при этом также недооценивать того, какой огромный профессиональный и личный подъём означало вооружения для офицерского корпуса старого рейхсвера. В миллионной армии, которая создавалась теперь, лейтенанты рейхсвера становились полковниками, полковники генералами, генералы становились фельдмаршалами, короче говоря: всё шло очень хорошо. И не только с материальной точки зрения. Все они чувствовали себя теперь очень хорошо с профессиональной точки зрения, они наконец могли снова полностью раскрыть свои способности; они служили военному предприятию, которое находилось в сильном расцвете. В таком положении люди не создают оппозиции и проглатывают многое, что по сути противоречит их взглядам.
Например, введение в 1935 году арийских законов в рейхсвере. Разумеется, еврейских офицеров было немного, но при этом было довольно много офицеров, у которых бабушка или мать были еврейками, поскольку именно между военной аристократией и еврейской финансовой аристократией в предшествующих поколениях было множество браков. Несчастные отпрыски таких браков должны были быть теперь уволены из рейхсвера. Это вызывало раздражение и недовольство. Но это было принято, поскольку ведь гораздо более важным было то, что армия теперь снова становилась большой и сильной, и превращалась в настоящий инструмент войны, как во времена кайзера.
Третий большой успех Гитлера, который произвел большое впечатление на широкую публику в том числе благодаря техническим приёмам работы Геббельса, была его внешняя политика, искусство, с каким он начал давать отпор миру, совсем иначе, чем например Штреземанн и республиканские правительства, которые ведь тоже проводили ревизионистскую политику и при этом даже достигли больших успехов, однако всё же всегда под лозунгом приспосабливания и кажущегося примирения. С этим теперь было покончено. Гитлер придавал большое значение тому, чтобы вырывать свои успехи у остального мира.
Это началось уже в 1933 году, когда Германия демонстративно вышла из Лиги Наций, в которую она была допущена лишь за семь лет до того, так сказать хлопнув при этом дверью. Гитлер очень ловко с точки зрения психологии масс сделал это поводом для своего первого плебисцита, в котором он достиг результата в 100 процентов голосов.
Затем в 1935 году было открытое провозглашение введения вновь всеобщей воинской повинности, заявление о том, что Германия в будущем будет в мирное время иметь армию в 36 дивизий — с Версальским договором и войском в сто тысяч человек покончено! — и одновременно направленное к миру уведомление, что Германия тем временем снова обладает военно-воздушными силами.
В 1936 году последовал особенно смелый шаг, которым был нарушен не только Версальский договор, но также и добровольно заключённый Локарнский договор от 1925 года: ввод вермахта в демилитаризованную Рейнскую область. В этот раз дело дошло до единственного кризиса, который вызвала внешняя политика Гитлера до 1938 года. Какое-то время казалось, что Франция ответит на шаг Германии мобилизацией и встречным вступлением войск. Многие генералы рейхсвера с самого начала опасались этого и поэтому советовали не вводить войска в Рейнскую область. Гитлер поставил на то, что Франция не будет действовать — и оказался прав. «Мы можем теперь себе снова всё позволить, и другие, например французы, больше не осмелятся защищать свои интересы против нас» — это ощущение было возможно самым решающим из всех внутриполитических, действующих на психологию масс успехов, которые достиг Гитлер своими действенными внешнеполитическими жестами.
А затем пришли совсем уже большие, никем не ожидавшиеся успехи 1938 года: достигнутое без борьбы и без отпора вступление в Австрию и последовавший вслед за этим аншлюс Австрии — одна из сказочных целей прежней ревизионистской политики; затем — правда, после первого кризиса, угрожавшего войной — Мюнхенские соглашения осенью 1938 года, по которым Франция и Англия поступились союзником Франции, Чехословакией, и принудили её уступить в пользу Германского Рейха так называемые Судетские области, то есть населенные преимущественно немцами пограничные районы.
«Ни на что подобное мы никогда не отваживались и надеяться. Этому человеку удаётся буквально всё. Он посланец богов». Таким было после подобных успехов настроение в массах немцев; при этом больше не играло никакой роли то, что другие составляющие политики Гитлера никогда не были популярны.
Теперь я хочу перейти к разговору об этих составных частях. Гитлер с самого начала безжалостно преследовал две группы населения: одной были коммунисты, другой — евреи. Антикоммунизм Гитлера должен был бы быть непопулярным уже потому, что коммунисты в начале 1932 года были массовой партией с 6 миллионами избирателей. Спрашивается, куда все они подевались после 1933 года. В действительности их нигде не осталось.
Даже буржуазные и социал-демократические противники коммунистов в начале 1933 года с определенной злорадной надеждой ожидали, что по крайней мере коммунисты смогут в какой-либо форме оказать сопротивление Гитлеру, на которое больше не могли решиться буржуазные партии и СДПГ; что они не дадут Гитлеру без борьбы уничтожить себя, как он всегда однозначно угрожал сделать. Ожидали какой-либо формы протеста с возможно подобными гражданской войне последствиями (которых со своей стороны также разумеется страшились).
Но не произошло ничего подобного. После пожара в рейхстаге члены руководства коммунистов, если они не убежали за границу или не ушли в подполье, были в первых рядах отправлены в концентрационные лагери; партийные бюро были обысканы и заняты полицией, персонал арестован; коммунистическая партия была так сказать поставлена вне закона, причём об этом даже не потребовалось однозначно объявлять. Успех был стопроцентным, не было никакого заметного коммунистического сопротивления.
Я полагаю, что решающим для этого было также то, что большая часть избирателей и неустойчивых последователей коммунистов, вероятно несколько миллионов, в последовавшие месяцы уже снова отвернулись от партии. То, что коммунистическая партия оставалась под запретом, было естественно на руку буржуазным партиям, до определённой степени также и социал-демократам, которые должны были вести свою собственную братоубийственную войну с коммунистами. Следует признать одно: в то время, как все буржуазные партии бесследно исчезли, а СДПГ как партия продолжала существовать только в изгнании, коммунистами внутри Германии на протяжении всего гитлеровского периода с ужасными жертвами сохранялась кадровая партия, связь по меньшей мере самых важных партийных органов. Следует поражаться этим человеческим достижениям. Правда, на том же дыхании следует сказать, что на протяжении всего существования Третьего Рейха они никак не действовали. Снова и снова образовывались маленькие коммунистические группы и группочки, и порой они проводили небольшие акции, в основном оставление листовок в почтовых отделениях или в телефонных будках. Но это не работало и только лишь создало большое количество жертв коммунистического дела. В целом антикоммунизм Гитлера имел успех с точки зрения психологии масс, который нанёс лишь немного вреда молчаливому принятию всей его политики и восхищению его достижениями большинством населения.
Иначе обстояло дело с антисемитизмом. Германский Рейх кайзеров из рода Гогенцоллернов никогда не был антисемитским государством, а Пруссия Харденберга и Бисмарка, из которой он вышел, и подавно. У немецкого населения пожалуй был «обычный» антисемитизм: евреев не всегда любили и в провинции они часто были общественно изолированы; у людей часто была неосознанная зависть к их большим успехам в определённых профессиях (адвокаты, врачи, журналисты, издатели, писатели) — однако этот антисемитизм был поверхностным и в целом безобидным. И он никогда не поддерживался большинством. У населения было три точки зрения на евреев. Первая полностью одобряла эмансипацию евреев и их равноправие в духе лозунга, выдвинутого Харденбергом в 1811 году: «Равные права, равные обязанности». Второе направление делало различие между крещёнными и некрещеными евреями, или между старожилами и вновь прибывшими. Одних принимали, других пытались ограничивать в правах и свободах. И наконец, были явно выраженные антисемиты, которые охотнее всего всех евреев или по меньшей мере всех некрещеных и вновь переселившихся евреев ограничили бы в гражданских правах. Экстремальные представители этого направления заходили настолько далеко, чтобы поставить всех евреев в правовое положение иностранцев. Однако нигде среди широкого немецкого населения, в том числе и среди выраженных антисемитов, не было направления, которое бы считало, что евреев следует истребить. Эта мысль, которая всё время проявлялась у Гитлера и в конце концов была воплощена столь ужасным образом, была полностью чужда немцам догитлеровского Германского Рейха.
Теперь в этой области вперед выдвинулся Гитлер. Сначала евреи были удалены только из определённых должностей и профессий. И даже здесь сначала существовали исключения для участников войны или сыновей погибших на войне. Затем запрет был расширен на другие профессии. После этого в 1935 году последовал первый большой шаг с введением Нюрнбергских законов, по которым евреи лишались политических гражданских прав, запрещались браки между евреями и неевреями, а свободные любовные связи между евреями и неевреями преследовались по закону. Это было уже весьма круто, и нельзя сказать, что было особенно популярно. Но с этим смирились. И именно пожалуй потому, что тем самым теперь в форме законов были выполнены самые радикальные требования традиционных антисемитов, и во многих местах полагали, что тем самым достигнуто завершение антисемитской политики Гитлера.
Отныне — так люди утешали себя — евреи знали своё место, у них больше не было политических прав, они не могли заниматься определёнными профессиями (или только в виде исключения), им не дозволялось вступать в брак с немцами нееврейского происхождения или соединяться с ними в любви; ну ладно, всё это заходило очень далеко, но в сравнении со всем позитивным, что принёс Гитлер — полной занятостью населения, перевооружением, триумфам настойчивости его внешней политики, пробудившемуся вновь чувству национального самосознания — в сравнении со всем этим можно было это принять.
Это принятие, которое в конце концов привело к принятию всё более ужасных вещей, является тем, что можно назвать виной немцев в отношении гитлеровского преследования евреев. При этом всё же следует признать в оправдание немцев, что после ликвидации всей демократической политической жизни у них не было больше никаких средств проявить на деле своё недовольство и политически настоять на своём.
Можно было лишь в одиночку противостоять последствиям гитлеровских законов о евреях. Вступить в брак с евреем в Германии было больше невозможно, поскольку не нашлось бы никакого бюро записи актов гражданского состояния, которое бы зарегистрировало брак. Но можно было ещё жить вместе с евреем, чем рисковали штрафом, а позже, когда наступило собственно преследование, прятать евреев или помогать им с отъездом, или быть им полезными каким-то другим, индивидуальным способом. Это тоже происходило — не в миллионах случаев, но всё же пожалуй тысячи раз. Всё же нельзя было больше, даже если и было желание, бороться против таких составных частей гитлеровского руководства государством, как его антисемитские меры, в той форме, какая обещала бы успех.
Несмотря на это, антисемитизм Гитлера оставался главным признаком при размежевании между лояльными приверженцами фюрера, к которым в тридцатые годы принадлежало большинство немецкого народа, и все ещё вовсе не незначительным меньшинством «антис», людей, которые при встрече поносили Гитлера и ещё более его партию, желали всему Третьему Рейху провалиться к дьяволу и верили, что они должны оставаться верными своим старым убеждениям, хотя они не отваживались больше выражать их открыто и естественно, не могли больше собираться на политические встречи и проводить их.
Было довольно много «антис», которые позже, после падения Гитлера, охотно причисляли себя к «внутренней эмиграции» или даже к «сопротивлению». Я полагаю, что с обоими этими словами следует быть весьма осторожным.
Сопротивление существовало только в очень ограниченных кругах и только на определенной время, и только в тех кругах, которые одновременно сотрудничали с аппаратом режима, особенно в военном аппарате. Потому что иначе, как в аппарате, невозможно было оказывать какое-либо эффективное сопротивление. Сопротивление, как его например оказывали части церкви или как его оказывали коммунисты, тем что они просто сохраняли каким-либо образом свое дело, должно было оставаться без практического результата, поскольку ни у церковников, ни у коммунистов не было в руках рычага, посредством которого они могли бы влиять на политику фюрерского государства. Такой рычаг был в руках собственно только у одной группы: у генералитета вермахта, особенно сухопутных войск. Поэтому в частности дважды был заговор офицеров: в 1938–1939 гг., в преддверии угрозы войны, и в 1943–1944 гг., перед лицом угрозы поражения. До воплощения в действия дошло лишь одно, знаменитая попытка покушения и государственного переворота графа Штауффенберга 20 июля 1944 года. Как известно, она провалилась, не в последнюю очередь потому, что она вовсе не поддерживалась всем руководством сухопутных войск, а только лишь меньшинством. Это меньшинство, из которого мести режима избегли лишь немногие, заслуживает высочайшего уважения. Но и оно не возымело действия.
С внутренней эмиграцией дело обстоит следующим образом. Внешняя эмиграция, естественно, существовала. Она впрочем не была совсем уж легкой, потому что тогда за пределами Германии всё ещё царил экономический кризис, и принять эмигрантов и предоставить им работу были готовы немногие страны. Но наверняка многими людьми задумывалась внутренняя эмиграция. Однако как ни странно она была невозможна. В качестве примера я назову здесь ставшего позже федеральным президентом Хайнриха Любке.
Любке раньше был политиком центра, который остался верен своим взглядам, но естественно не имел никакой возможности в какой-либо форме действовать в политике после 1933 года. Поэтому он вернулся к своей прежде полученной профессии строительного инженера, то есть к полностью аполитичной профессии. Это вполне можно назвать внутренней эмиграцией. Любке предпринял определенный социальный спуск со все же возвышенной позиции активного политика к совершенно анонимному существованию представителя среднего сословия, внутренне оставаясь верным своим прежним убеждениям. Но была ли это действительно эмиграция? Ведь и в качестве строительного инженера он должен был работать на интересы рейха, и к примеру во время войны он должен был работать над сооружением лагеря для насильственно перемещенных иностранных рабочих, что позже очень резко ставилось ему в укор. По моему мнению, несправедливо, поскольку нужно же было ему чем-то зарабатывать на жизнь. Во всяком случае, у Любке было больше права чувствовать себя внутренним эмигрантом, чем у многих «антис», которые осуществляли задуманные Геббельсом предприятия в кино или в прессе, на радио, в театре или даже в литературе.
Я ещё раз возвращаюсь к литературе, поскольку она меньше всего подвергалась регулированию. Большая часть выдающихся представителей немецкой литературы эмигрировала. Однако и в Третьем Рейхе для тех, кто имел определённый нюх на это, была отчётливо узнаваемая литература, написанная «антис» и стремившаяся уклониться от Третьего Рейха. Никогда прежде не было написано и напечатано так много не связанных ни с каким временем идиллий, воспоминаний о юности, описаний природы, как во время Третьего Рейха. Каждый, кто их читал, понимал: автор не хочет быть нацистом, он не желает сотрудничать.
В действительности однако он тем не менее сотрудничал — тем что он людям, любившим подобное, показывал: вы ведь можете это иметь и в Третьем Рейхе. Каждый, кто работал под началом Геббельса, в том числе и если он не ощущал себя очень уж антинацистом, играл в качестве какого-либо малого инструмента в оркестре Геббельса, в котором должны были играться также и идиллии, и старомодный снобизм, всё, что принадлежало к так называемой нормальности и что не противоречило прямо Третьему Рейху — как в оркестре используется и флейта-пикколо.
В заключение этой главы вопрос, который так часто дискутировался и так и не был разрешён: был ли Третий Рейх продолжением идеи Германского Рейха, или это был сход с пути? Ответ звучит просто: в нём были элементы как преемственности, так и её отсутствия, но однако в целом элементы преемственности преобладали. Гитлер перенял, как мы ещё увидим, альтернативу «Мировая держава или поражение» позднего кайзеровского рейха и Первой мировой войны, и довёл её до крайности, так что в своей внешней политике он полностью был в русле преемственности Германского Рейха, которая была на некоторое время насильственно прервана проигранной Первой мировой войной.
Иначе во внутренней политике, в реальном состоянии гитлеровского рейха. Здесь на первый взгляд кажется, что царит полное отсутствие преемственности: ни диктатура одного человека, ни методы господства при посредстве государственного террора и монополии на пропаганду, ни запрет всех политических партий всех до одной не имели предшественников в истории Германского Рейха. Удивительно лишь то, что всё это с готовностью было принято в 1933 году, как будто бы этого всё время ждали. Даже если у этого не было предшественников — не было ли это тем не менее каким-то образом подготовлено в истории рейха? Бисмарк не был диктатором, но тем не менее проводил политику «своего» рейха в начальный период почти столь же суверенно, как Гитлер в свой конечный период правления. И тем самым он осознанно или неосознанно, умышленно или неумышленно как завещание оставил своему рейху стремление к гениальной фигуре Вождя, равно как и отвращение к партиям. Во второй половине Первой мировой войны, равно как и в конечной фазе Веймарской республики и то, и это снова прорвалось — оба раза с Гинденбургом как центральной символической фигурой для тайно надеявшихся. Однако Гинденбург не выполнил связанных с ним надежд, ни во время с 1916 по 1918, ни с 1930 до 1932 года. Гитлер, казалось, в 1933 году тотчас же начал действовать, и на годы после того он даже превзошёл надежды нации. Содержанием этих надежд всегда было единство (и единение) и национальное величие — обе в качестве последней и наивысшей, почти что религиозной цели. «Ты — ничто, твой народ — всё» — этот гитлеровский девиз для большинства уже раннего национального движения, тем более для бюргеров Германского Рейха всегда был тайной путеводной нитью их политических воззрений и желаний. В этом отношении Гитлер всё же является преемником истории рейха, даже если его методы господства далеко затмили всё прежде существовавшее или опробованное.
Хотя в обществе гитлеровского рейха и преобладали определённые перемены, но в конце концов и здесь перевесила преемственность. Можно говорить о перемене в преемственности. Хотя у старых правящих слоёв была значительно отобрана политическая власть, но у них не было отобрано их общественное положение. Крупные землевладельцы оставались крупными землевладельцами, а крупные предприниматели оставались крупными предпринимателями, и интеллектуальная и культурная элита оставалась тем, чем она всегда была, постольку поскольку она не была прорежена эмиграцией. Что изменилось, так это был приток в эти правящие слои; например проникновение СС в полицию; например приём национал-социалистических преуспевающих фирм в большие хозяйственные предприятия; также преобразование больших газетных издательств с их ранее часто еврейским руководством посредством новых элементов. Общество гитлеровского времени было обществом социальных лифтов, как впрочем (в несколько ином виде) им была уже Веймарская республика и оба нынешних германских государства. Преемственность не претерпела перерыва. В преемственности осталось также то, что военные сохраняли свой престиж и свою значимость в обществе, которые они несколько утратили прежде всего во времена Веймарской республики.
Главным элементом отсутствия преемственности был антисемитизм Гитлера, то есть биологическая расовая идея, которая прежде в Германском Рейхе не играла никакой роли и которая для самого Гитлера возможно была даже важнее, чем собственно руководство рейхом. Для большой массы немцев, постольку поскольку они не были затронуты сами, не будучи евреями, или не имели тесных связей с евреями, это оставалось второстепенным делом, которое могли не замечать, от которого могли отвернуться, с которым можно было смириться, если только Германский Рейх и впредь будет таким единым, великим и могущественным, как при Гитлере. Так оставалось до конца. Я хочу здесь обсудить этот конец. Потому что к следующей главе, которая имеет дело с историей Второй мировой войны, гитлеровские преследование евреев и в заключение убийство евреев не относятся. Массовые убийства не были военными действиями, даже если они происходили во время войны.
Как известно, с 1938 года Гитлер постоянно ужесточал преследование евреев. В 1938 году Гитлер также предпринял попытку посредством организованного сверху по всему рейху погрома, при котором между тем ещё раз вступили в дело почти отстранённые от дел штурмовики СА, проверить общественное мнение и действенность своей антисемитской пропаганды. Тест показал отрицательный результат.
Умаляющее серьёзность происшедшего слово «Хрустальная ночь рейха» с определённой точностью говорит о том, как на это реагировали немцы. Потому что определение «Хрустальная ночь» в том, что произошло, было самым малым. Ведь были не только разбиты стёкла витрин магазинов, но и были сожжены синагоги, разорены еврейские квартиры, тысячи евреев были арестованы и отправлены в концентрационные лагери, немало их было убито. Это была не хрустальная ночь, но массовый погром. Этого население признать не желало. Оно иронически отстранилось, оно ни в чём не участвовало, также имели место выражения отвращения. Одновременно хотели приуменьшить гнусные поступки, как только можно: это ведь была лишь «Хрустальная ночь рейха», безнадёжно дурная, но наполовину комическая выходка, за которую сами люди не несли ответственности, но и не желали также сделать ответственным национал-социализм в целом, а фюрера так и вовсе нет. «Если бы фюрер знал!»
И все же: с точки зрения Гитлера тест прошёл отрицательно, и он после одной ночи и одного дня прервал дело. Проявилось то, что немецкая публика, немецкий народ в своей массе — в своей верной Гитлеру массе — в действительно активном преследовании евреев не желает соучаствовать.
Из этого Гитлер извлёк тогда, когда решился на «окончательное решение (еврейского вопроса)», важный вывод: окончательное решение имело место не в Германии. Лагери уничтожения находились на востоке Польши. Что же разыгрывалось в самой Германии, как и во многих других странах, был единственно лишь вывоз евреев, причём ещё давали понять, что их же только лишь переселяют. Собственно массовые убийства, уничтожение миллионов евреев при помощи механических средств, в отличие от всех других великих деяний и также всех других больших преступлений гитлеровского рейха, никогда не предавалось огласке, не говоря уже о том, чтобы быть провозглашёнными. Превосходная машина пропаганды не приводилась в действие с этой целью.
В руководимых Геббельсом немецких газетах никогда не говорилось: «евреи должны быть уничтожены», не говоря уже «Евреи теперь уничтожаются». Скорее вплоть до 1945 года снова и снова пелась старая песня: «Евреи — это наше несчастье, мы должны их остерегаться». Для читавшей газеты и слушавшей радио публики в Германии не существовало холокоста.
Это осознанное сокрытие холокоста от немецкого общества является определённой извинительной основой для того, что немцы ничего не предпринимали против этого. Другое, более решающее извинение по моему мнению состоит в том, что они и без того ничего не могли предпринять против этого, особенно в условиях второй половины войны.
Знали немцы о массовых убийствах евреев или не знали, это вопрос, на который можно ответить только в каждом отдельном случае. Естественно, что очень многое просачивалось; всегда ли в это верили, я не знаю. Ведь и за границей долгое время в это не верили, поскольку просто считали это невероятным. Это долгое время не считалось возможным также среди немецких евреев, иначе возможно они бы всё же своевременно убежали бы в ещё больших количествах, чем сделали это с 1938 года.
В истории Германского Рейха нам не следует замалчивать преследование евреев и попытку уничтожения евреев. Это произошло, и это вечное пятно позора на нашей истории. Но с другой стороны мы не можем причислять их к тем элементам, которые, как столь многое другое в фюрерском государстве, были с самого начала заложены в истории Германского Рейха и в его внутреннем реальном устройстве. Вероятно, и без Гитлера после 1933 года было бы своего рода фюрерское государство. И без Гитлера вероятно произошла бы Вторая мировая война. Уничтожения же миллионов евреев без Гитлера не было бы.
Война, которую Гитлер начал 1-го сентября 1939 года, не была той войной, какую он всегда замышлял и которую планировал.
Из Первой мировой войны Гитлер извлёк два довольно очевидных урока. Первый состоял в том, что Первая мировая война на Востоке против России была выиграна; Россия в Первой мировой войне показала себя слабее, чем полагали перед войной. Она была вынуждена подписать навязанный ей мир, большие русские области в конце войны оказались в немецких руках. Гитлер верил, что он сможет это повторить. Как там говорится в «Майн Кампф?» «Кажется, что сама судьба указывает нам пальцем. Огромная империя на Востоке готова рухнуть».
Одновременно Гитлер осознал, что Германия на Западе проиграла Первую мировую войну главным образом против Англии — и что возможно войны против Англии следовало бы избежать. Предыстория Второй мировой войны напоминает о предыстории Первой мировой войны; тогда для Бетманн Хольвега также речь шла о том, чтобы в континентальной (неизбежной, как он полагал) войне против Франции и России удержать Англию нейтральной. Гитлер также добивался нейтралитета англичан. Еще лучше бы он имел англичан даже как союзников на своей стороне. Но Гитлер также полагал — тут следует опять напомнить о «Майн Кампф» — что он знает, почему надежды на нейтралитет Англии в Первой мировой войне провалились. С точки зрения Гитлера они потерпели неудачу потому, что Германия, хотя и уже зажатая на континенте между двух противников — Франции и России — тем не менее пыталась вести политику мировой державы и строительство военно-морского флота. Тем самым Германский Рейх без нужды вынудил Англию к борьбе за мировое господство за пределами Европы. Подобного Гитлер хотел в этот раз избежать, что было бы более правильно и умнее. Никакого строительства флота, никакой мировой политики, концентрация на войне против России, которой во всяком случае должна была предшествовать война против Франции, тем самым тыл был бы прикрыт. Теперь же примечательно и пожалуй не случайно, что в годы с 1933 до 1938 эту в целом последовательно замышлявшуюся политику Гитлеру не удалось провести в жизнь.
В 1935 году Гитлер заключил с Англией соглашение по флоту, по которому рейх обязывался ограничить свой флот на уровне трети от английского — что в этом отношении не было трюком, поскольку ведь германского еще практически не существовало. Но возможно, что Гитлер даже верил в честное соблюдение этого договора. Он не хотел войны с Англией, он не желал делать какого-либо вызова Англии, потому что он хотел склонить Англию к тому, чтобы она бездеятельно созерцала, когда Германия будет покорять большевистскую Россию и делать из неё свое жизненное пространство. Гитлер послал Риббентропа в Лондон со следующим напутствием: «Принесите мне союз с англичанами».
Но Англия не желала никакого союза, и она также не была готова примириться с завоеванием и поражением России Германией. Всё же она была готова пойти на большие уступки Германии в том случае, если рейх удовлетворится своим традиционным положением в центре континента, то есть если он пощадит Францию и оставит Россию в покое.
В сущности, во время германо-английских переговоров в годы с 1937 по 1939 речь шла уже о большой войне Германии против России. Англия желала избежать этой войны — не потому, что хотела чего-то иного для Советского Союза, напротив, отношения между Англией и большевистской Россией были попросту плохими — но потому, что она правильно предвидела, что порабощение Советского Союза превратило бы Германский Рейх и без политики строительства флота в сверхдержаву, и что мировые державы Англия и Франция по сравнению с ней больше не будут в одной весовой категории. Англия желала так сказать выкупить у Германии её великую поработительную войну на Востоке, она отказывалась предоставить ей «свободные руки на Востоке», чего от имени Гитлера совершенно открыто требовал Риббентроп. Она предоставила им взамен свою собственную политику, концепцию, которая затем стала известна под названием «умиротворение».
Германии с помощью Англии должны были быть сделаны большие уступки. Она должна была получить все области с немецкоговорящим населением, которые хотела включить в состав рейха: Австрию, пограничные области Чехословакии, пожалуй, также и Данциг. В качестве встречной услуги Германия должна была сотрудничать с Англией и Францией в мирной Европе и прежде всего, обращаться со всеми своими приобретениями рука об руку с этими обеими державами, в особенности с Англией.
Так в годы 1937–1939 две концепции противостояли друг другу, гитлеровская, в которой по меньшей мере благожелательная нейтральная Англия наблюдала бы за великим немецким завоевательным движением на Восток, и английская, которая стремилась к тому, чтобы увеличившаяся и умиротворённая («appeased») Германия успокоилась в мирной Европе.
Это был не только идеализм. Эта мирная Европа Англии была настоятельно нужна. В охваченной войной Европе, в которой Англия будет вынуждена быть вовлеченной на континенте, слабые места империи в Восточной Азии, в Средиземноморье, на Ближнем Востоке раскроются со всей отчётливостью, поскольку Англия тогда вообще не будет иметь сил, чтобы как ранее защищать империю от двух других ревизионистских и агрессивных держав — Японии и Италии.
Чрезвычайно интересное в этой дипломатической борьбе между Германией и Англией прежде всего состоит в том обстоятельстве, что при этом только Германия что-то получала. Германия могла расшириться мирным способом, снова становясь настоящей великой державой в масштабах континента. У Гитлера в руках была возможность в сотрудничестве с западными державами воплотить в реальность концепцию Центральной Европы времён Первой мировой войны и избежать Второй мировой войны. Но ему этого было недостаточно.
Первой кульминацией борьбы этих двух противоположных концепций был Судетский кризис осенью 1938 года, когда дело касалось населённых немцами пограничных областей Чехословакии. Если смотреть со стороны, этот кризис закончился величайшим — и притом мирным — триумфом Гитлера. Хотя Англия и Франция в Первой мировой войне были державами-основательницами Чехословакии, и хотя Франция всё еще состояла в союзе с Чехословакией, западные державы после доведённого до предела кризиса на импровизированной конференции на высшем уровне в Мюнхене уступили Гитлеру «судетско-немецкие» чешские пограничные области.
Как уже сказано, если смотреть извне, то это был величайший из всех до тех пор имевших место триумфов Гитлера, и в самой Германии также после «Мюнхена» прежде всего полностью развалилась военная оппозиция против Гитлера, которая как раз снова явственно зашевелилась в предчувствии надвигающегося кризиса. Но что интересно, Гитлер воспринял мюнхенскую конференцию и её результаты как поражение — ему бы хотелось провести короткую победоносную тренировочную войну против Чехословакии — и что восторжествовало в Мюнхене, была английская политика умиротворения, а не гитлеровское планирование. Когда тогдашний английский премьер-министр Чемберлен вернулся из Мюнхена в Лондон, то он публично объявил, что результаты конференции означают «мир для нашего времени».
Можно хорошо понять английские расчеты. Они исходили из того, что все государства Юго-Восточной Европы теперь будут стремиться договариваться с Гитлером, и что Гитлеру, если он захочет организовать отданную ему для так сказать мирного завоевания зону интересов, потребуется для этого время от минимум пяти до десяти лет. В этот период во всяком случае Гитлер не сможет планировать никакого нового, большого предприятия, в то время как Запад будет спокойно вооружаться и сможет снова сравняться с Германией в военном отношении.
Но Гитлер не взял это время для паузы. Он придерживался своего плана в отношении России и верил, что теперь сможет выполнить его без Англии, если потребуется, даже против Англии, которую он после Мюнхена отчасти презирал. Так дело дошло до кризисов 1939 года.
При этом год это начался совершенно мирно. В Англии верили, что добились успеха политикой умиротворения. Но Гитлер вообще не стал заниматься организацией Восточной и Юго-Восточной Центральной Европы под руководством Германии. Если у него и была цель в этом регионе, то это было получить ряд вспомогательных народов для задуманной войны против России. Важнейшим из этих вспомогательных народов должна была стать Польша.
Польша тогда, как и сейчас, располагалась между Германией и Россией и тем самым представляла собой препятствие для планов Гитлера. Ведь как же вообще можно было начинать войну против России, если нигде не было германо-российской военной границы? Эта военная граница с германской точки зрения естественно должна была находиться как можно дальше на востоке. Другими словами: Польшу следовало вовлечь в качестве союзника в германское наступление против России. Ей были обещаны территориальные приращения на Украине, если она заключит пакт на двадцать пять лет с Германией и закрепит его присоединением Данцига к Германии, и если это произойдёт, то это будет негласной предпосылкой участия в будущей германской войне против Советского Союза.
Польша отклонила это предложение. И что заставило Гитлера изменить свои планы, было это отклонение германских предложений, а вовсе не столько вопрос о Данциге. Если он не может иметь Польшу в качестве союзника, то тогда она должна стать плацдармом для германского наступления в качестве побежденной и оккупированной страны. Таким образом, планируемой войне с Россией должна предшествовать импровизированная война с Польшей; и при необходимости эта война должна быть проведена против Англии.
Потому что в Англии между тем произошли перемены. Гитлер сам их вызвал. В Мюнхене не только были переданы Германии пограничные области Чехословакии, но также была заключена договорённость — и с английской точки зрения это был пожалуй важнейший результат мюнхенской встречи на высшем уровне — что отныне все важные внешнеполитические шаги Германии должны обсуждаться с Англией. Гитлером именно этот пункт был воспринят как поражение. Он хотел свободных рук на Востоке. Поэтому он решил, в пику Англии, без каких-либо обсуждений или предупреждения оккупировать обрубок Чехословакии и одновременно ещё раз расчленить её: Богемия-Моравия становится «протекторатом рейха», отделённая Словакия — союзным вассальным государством. Это была полностью избыточная акция, поскольку обрубок Чехословакии и без того был уже воском в руках Гитлера. Это была скорее месть Гитлера за «Мюнхен» — за то, что он в Мюнхене воспринял как своё поражение, а Англия — как свой триумф.
Это событие в марте 1939 года вызвало в Лондоне тревогу. Хотя правительство Чемберлена ещё не отказалось от «умиротворения», но методы политики умиротворения были теперь изменены. До того были связаны только лишь обещаниями и уступками, отныне же действовали также при посредстве угроз: если Гитлер в своей политике будет продолжать самовольное расширение на Восток, то это теперь будет для него означать, что тогда он на своём пути найдёт Англию. Символом этой угрозы была английская гарантия для Польши, которая была дана в конце марта 1939 года, после того, как Польша отказала уговорам Гитлера заключить союз против России.
Тем самым Гитлер оказался в новой ситуации. Он сам сформулировал её словами, обращёнными за три недели до начала войны, 11 августа 1939 года, к швейцарцу Карлу Буркхардту, тогдашнему комиссару Лиги Наций в Данциге: «Всё, что я предпринимаю, направлено против России; если Запад настолько глуп и слеп, что не может этого понять, то тогда я буду вынужден договориться с русскими, разбить Запад и затем после их поражения всеми своими силами выступить против Советского Союза».
В этих словах заключён ключ к пониманию начала Второй мировой войны. Как раз это было новой импровизированной программой Гитлера, и это была программа, по которой протекала Вторая мировая война в её первые два года. Прежде всего Гитлер договорился с Советским Союзом, сначала вместе с Советским Союзом напал на Польшу, затем с прикрытым Советами тылом обратился против Запада и лишь затем, как и планировал с самого начала, со своими «собранными силами» выступил против Советского Союза.
Но почему Советский Союз принимал участие в этой политике? Ведь Сталин естественно не был в неведении относительно направленных против Советского Союза в конечном итоге планов Гитлера, и Гитлер также не сделал ничего, чтобы оставить его в неведении об этом. Начиная с 1936 года он с различными странами — Японией, Италией и несколькими малыми государствами — заключил «Анти-коминтерновские пакты», которые в действительности уже были антисоветскими коалициями, поскольку они включали тайные статьи, что соответствующий партнер по пакту останется доброжелательно нейтральным, если Германия будет вести войну против Советского Союза.
В 1939 году Сталин увидел шанс для того, чтобы отвести угрозу этой войны, так сказать перебросить мяч на поле западных держав и как можно дольше отвлекать Гитлера от войны против Советского Союза тем, что Германия завязнет в войне с Англией и Францией. При таких перспективах Сталин охотно и радостно был готов договориться с Гитлером на такой основе, которая сводилась к разделу Восточной Европы между Советским Союзом и Германией.
23 августа 1939 года Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении. Его тайные дополнительные статьи говорили о том, что в войне против Польши восточная её часть, которую Советский Союз вынужден был отдать Польше в 1921 году, отойдёт к Советскому Союзу, что более того, Советский Союз станет доминирующей державой в балтийских прибрежных государствах и в Финляндии. Подобные, несколько неопределённые соглашения были предусмотрены также для Юго-Восточной Европы.
Так что война, которую развязал Гитлер 1 сентября 1939 года, с его точки зрения началась с неправильной диспозиции: война с Польшей, и поэтому также с Францией и Англией, с полу-союзником в лице Советского Союза. Это была в сущности не та война, которую всегда планировал Гитлер, а та, которая представлялась генералу Зеекту и рейхсверу в двадцатые годы. Для Гитлера она представлялась, как уже сказано, только лишь прелюдией к большой войне против Советского Союза, которую он хотел вести своими «собранными» силами после того, как он победит Польшу и западные державы.
Однако это удалось не полностью, хотя сначала у Гитлера были огромные успехи. В результате поразительно короткого военного похода в сентябре 1939 года Польша была разбита. После длительной паузы, в течение которой ещё раз возникали надежды на различные переговоры, и во время которой в определённом смысле между делом были оккупированы Дания и Норвегия, смогли затем в мае-июне 1940 года победить также и Францию — ещё более поразительно — за шесть недель. Во время этого западного военного похода, снова в определенном смысле попутно, было произведено нападение также на Голландию, Бельгию и Люксембург и после короткого сопротивления они были оккупированы.
После того, как Польша и Франция были ликвидированы как противники, для Гитлера встал вопрос, как следует теперь вести себя с Англией. К настоящей войне против британцев — вторжению, покорению и оккупации Англии — Германский Рейх не был подготовлен так, как он был подготовлен к своим военным походам против Польши и Франции. У него ещё не было большого флота, и более того — часть этого флота он потерял в процессе оккупации Норвегии. Так что Гитлер не мог высадить никакой армии на британские острова, разве только лишь, если удастся, добиться господства в воздухе над Англией.
Попытка была предпринята в августе и в сентябре 1940 года, но она осталась безуспешной. Англия сохранила господство над своим воздушным пространством, и тем самым немецкое вторжение в Англию на долгое время было исключено. Обещало ли бы оно успех при соответствующей подготовке возможно в 1942 или в 1943 году, остаётся сомнительным: за это время Англия также стала сильнее, в том числе и на земле.
Значение поражения германских ВВС в воздушной битве над Англией для дальнейшего хода войны часто недооценивается. Потому что воздушная битва не была каким-то особенно драматическим событием, она не была немецкой катастрофой, как например Сталинград двумя годами позже. И всё же она отметила важный поворотный пункт, потому что она означала, что Гитлер победу на Западе оставил незавершённой. Когда Гитлер несмотря на это, как было запланировано, пожелал обратиться против России, он не мог более делать это «всеми своими собранными силами». Очень упорный, наделённый большими ресурсами противник надолго остался у него на Западе. Противник, который впрочем был связан с Америкой тесными узами.
Некоторое время Гитлер не в полную силу продолжал стараться вывести Англию из войны: при помощи воздушных налетов на Лондон и другие английские большие города, продолжавшихся всю зиму 1940–1941 и весной 1941 года. Но это осталось столь же безуспешным, как позже были безуспешны гораздо более массированные англо-американские воздушные налёты на Германию, которые также были стратегически ошибочными.
Таким образом, Гитлер был и далее обременён войной против Англии, и большим вопросом было, может ли он при таких обстоятельствах позволить себе вести свою войну против России. После длительного взвешивания аргументов «За» и «Против», и изнурительных внутренних споров с самим собой, а также поглощавших время ввязываний в конфликты англо-итальянской войны, начавшейся тем временем, он пришёл к выводу, что может. В июне 1941 года он переключился на то дело, о котором он возвестил уже в августе 1939 года: он напал на Россию, пусть и не «всеми собранными силами», но всё же массой своих наземных и воздушных сил, хотя Англия ещё не была выведена из войны.
Задним числом можно сказать, что это была первая большая стратегическая ошибка Гитлера в войне, и что одной только этой ошибки вероятно было бы достаточно, чтобы он проиграл войну. Потому что, несмотря на огромные успехи Германии в начальный период, выявилось, что Россию невозможно победить таким же образом, как Польшу и Францию. Напротив — после ужасных людских и территориальных потерь, которые вероятно любое другое европейское государство поставили бы на колени, Россия была ещё в состоянии мобилизовать силы всего своего народа и тем самым стать сильнее, чем Германский Рейх.
Гитлер проглядел, что произошло в России между двадцатыми и сороковыми годами. Когда в середине двадцатых Гитлер написал в «Майн Кампф», что огромное государство на Востоке созрело для того, чтобы рухнуть, то возможно он не был полностью неправ. Молодой Советский Союз тогда после ужасающих тягот и страданий Первой мировой войны, гражданской войны и интервенции действительно был грудой обломков, огромной, но истощённой, разрушенной страной, которая возможно действительно не смогла бы противостоять нападению Германского Рейха.
Но тем временем в России наступило время Сталина, время тотальной концентрации всех сил, за которое бывшая ещё во время Первой мировой войны преимущественно аграрной страной Россия в бешеном темпе была превращена в значительную индустриальную державу. Советский Союз, на который напал Гитлер в 1941 году, ещё не был сверхдержавой, какой он является в настоящее время, но он уже был значительной индустриальной державой. Новая индустриализация, привитая на прежние русские источники силы — огромное пространство, огромное население и большая способность переносить страдания и отвага этого населения — тем временем позволили стать Советскому Союзу гораздо большей силой, чем была старая Россия во время Первой мировой войны.
Гитлер выиграл большие сражения, завоевал большие территории, но его нападение забуксовало перед Ленинградом, Москвой и под Ростовом. Русские после месяцев тяжелых поражений были даже в состоянии уже в военную зиму 1941–1942 гг. начать вовсе не безуспешное военное контрнаступление.
Как раз в тот момент, когда в начале декабря 1941 года началось русское контрнаступление и также в тот момент, когда стало ясно, что план быстрого завоевания России потерпел неудачу, в тот момент, в который было уже можно предвидеть, что Гитлер будет вынужден вести длительную, тяжёлую войну против Советского Союза, в которой победа ни в коем случае не предопределена — как раз в этот момент Гитлер объявил войну Америке.
Это самое загадочное из его решений во Второй мировой войне, и у меня также нет настоящего объяснения для него. В нескольких книгах я обсуждал различные возможности разгадки, также я прочёл из того, что мне было доступно, всё, что написали об этом историки, и я должен признаться: ничто — ни мои собственные гипотезы, ни гипотезы историков — не убедило меня по-настоящему. При этом я должен несколько вернуться назад. С тех пор, как в 1937 году президент Рузвельт произнес свою знаменитую «карантинную» речь, в которой он требовал, чтобы государства-агрессоры Япония, Италия и Германия были бы так сказать помещены в карантин от остального мира, он не раз давал понять, что в войну, развязанную этими государствами, вступит на противоположной стороне. Но он также дал понять, что он не может исполнить это своё желание по внутриполитическим причинам. Преобладающее мнение, как у американского народа, так и в американском конгрессе, было и оставалось изоляционистским. Стремились держаться подальше от всех действий Старого Света и не повторять ошибки, которую, как полагали, совершила Америка в Первой мировой войне, когда позволила втянуть себя в европейскую войну на стороне Антанты.
До декабря 1941 года Рузвельту не удавалось преодолеть это сопротивление задуманной им политике вмешательства. И нельзя было предвидеть, когда у него получится это сделать, если это ему вообще удастся — если бы Гитлер не решил за него эту задачу своим объявлением войны. Как раз после японского нападения на Пёрл-Харбор Гитлер мог бы надеяться, что Америка долгое время не сможет вмешаться в европейскую войну. Потому что теперь она была связана большой войной на Тихом океане, которая её как раз заставила мобилизовать свои огромные простаивавшие военные ресурсы, но одновременно вынудила ввести в действие их там, где это было наименее опасно для Германии — а именно на Тихом океане, против Японии.
Вместо этого однако Гитлер использовал эту возможность для того, чтобы объявить Америке войну, как будто бы он как раз её ждал, эту возможность — и тем самым сделал возможным для Рузвельта вести войну против Германии на стороне Англии, как тот и хотел. Разумеется, это потребовало еще долгого времени, примерно двух с половиной лет. Лишь летом 1944 года Америка стала настолько вооружена, мобилизована и развёрнута, что она смогла отважиться на большое наступление на европейский континент из Англии вместе с англичанами. Но после того, как Германия сама сделала Рузвельту любезность и объявила войну Америке, избежать поражения больше было невозможно. Так почему же Гитлер сделал этот загадочный шаг?
Даже если нельзя с полной уверенностью ответить на этот вопрос, всё же можно представить некоторые соображения на этот счёт.
В июле 1941 года Гитлер после своих великих начальных успехов поверил в то, что победа над Россией уже у него в кармане. В этот момент — когда в действительности он уже сделал первый шаг к поражению Германии — Гитлер взялся за планы, которые далеко выходили за рамки его прежде поставленной цели — покорить Россию для завоевания германского жизненного пространства. В этом июле он уже решил ограничить вооружение сухопутных войск, которому в предыдущие годы он отдал приоритет из-за планировавшегося нападения на Россию, в пользу огромного вооружения флота. Советский Союз казался ему уже побеждённым, и он готовил будущий «Мировой блицкриг», в котором он со своим большим флотом и ВВС хотел поставить на колени также и Америку, прежде чем она должным образом вооружится.
Это были планы, разработанные в момент заносчивости, которые никогда не были претворены в жизнь и которые никогда не прошли даже всего лишь предварительной стадии, а именно проведения большого вооружения на море. Потому что с 1942 года война против России снова потребовала всех германских ресурсов. Но эти планы были созданы, и возможно каким-то неясным образом они жили в голове Гитлера вплоть до конца 1941 года. Возможно, что в некий опрометчивый момент он действительно верил в то, что ещё в декабре 1941 года он сможет обратиться к этим планам — поскольку казалось, что Америка теперь полностью будет занята борьбой с Японией. Но это только лишь гипотеза среди прочих; и быть может, и она неверна.
Достоверно лишь следующее: в 1941 году Гитлер совершил ужасную ошибку, когда с невыигранной войной против Англии и России на шее теперь ещё объявил войну Америке, тем самым добавив к своим врагам уже тогда самое могущественное государство на свете и тем самым сделав поражение Германии неизбежным.
Уже после нападения на Польшу не было видно надёжного пути, по которому Гитлер, если бы он этого пожелал, мог бы целым и невредимым выйти из войны. Германия — да, но только при другом правительстве — правительстве, «словам которого можно доверять», как провозгласил в октябре 1939 года тогдашний английский премьер-министр Чемберлен. Сам Гитлер уже не мог больше на это рассчитывать. Однако то, что Германия безусловно должна будет проиграть войну, проистекло лишь вследствие решений Гитлера в 1941 году — сделать противниками в войне сначала Россию, а затем еще и Америку. 1941 год был первым годом настоящей мировой войны; до этого она была лишь ограниченной европейской войной. Из этого 1941 года ведёт прямая линия в 1945 год. По этой причине вторую часть Второй мировой войны можно описывать кратко. Отныне конец был предопределён, что бы ни предприняла Германия.
Тем не менее с 1942 до 1945 года были ещё большие битвы. Немецкое население вследствие страшных воздушных налётов англичан и американцев претерпело тяжкие страдания и вынуждено было понести большие человеческие жертвы. Англия и Америка некоторое время верили, что при помощи этих налётов они смогут избежать наступления на суше в Европе. Для населения оккупированных областей как раз последние годы войны были самыми скверными. Например, для населения Советского Союза длительное немецкое отступление было ещё ужаснее, чем быстрое немецкое наступление: немцы ведь хотели оставить после себя одну только выжженную землю. И никогда не будет забыто ужасное «окончательное решение еврейского вопроса», которое было начато сначала в 1941 году в разгромленных советских областях, и лишь в 1942 году во всей оккупированной Европе.
В 1942 и 1943 годах ещё были моменты, в которые казалось так, как будто измученная до крайности и исстрадавшаяся Россия готова позволить Гитлеру выйти из войны на Востоке на основе перемирия, если он обязуется отойти на старую демаркационную линию или старую границу рейха. На это Гитлер никогда не пошёл, и в сущности говоря, можно все эти гипотетические возможности забыть. Они никогда не были в ощутимой близости от действительности.
Единственный вопрос, который действительно можно ещё поставить для второй части Второй мировой войны, и на который следует ответить, это почему Гитлер в положении, в котором не было больше никаких перспектив на победу, в котором противники Германии после некоторого промедления со стороны России уже решились на формулу безоговорочной капитуляции и в 1945 году в конце концов принесли войну на землю Германии, всё ещё продолжал бороться вплоть до своего самоубийства в руинах Берлина — и всё ещё находил фанатичных последователей, которые осуществляли его волю со всё возрастающей степенью террора.
На этот счёт существует две теории. Одна говорит о том, что Гитлер действительно до конца верил в «окончательную победу». В конце концов на протяжении своего личного политического жизненного пути он уже много раз пережил ситуации, в которых в видимо безвыходном положении всё же чудесным образом всё для него оканчивается хорошо. Возможно, например, в момент победы Запад и Восток рассорятся? Быть может, тогда можно будет всё же заключить мир с одной из сторон, что сделает возможным победить другую сторону? Многое говорит в пользу того, что Гитлер действительно долгое время придерживался этой надежды. Ещё зимой 1944–1945 года он неоднократно говорил — не публично, но в секретных обращениях к своим генералам — о том, что он бы сидел как паук в паутине, в то время как между западными державами и Советским Союзом завязывалась бы новая война.
Однако он сидел не как паук в паутине, а как муха. Что проглядел Гитлер, то был тот факт, что большие споры о послевоенном устройстве и глубокие идеологические противоречия между англосаксами и русскими уже вовсе не могут привести к военному их разрешению, до тех пор, пока Германия, продолжающаяся сражаться на обоих фронтах, как бы является изолирующей прослойкой между ними. Для того, чтобы дело могло дойти до исходного состояния предполагаемой третьей мировой войны между Западом и Советским Союзом, сначала Германия должна была быть побеждена и оккупирована, обе большие группы держав должны были встретиться в сердце Германии, должны были войти в контакт и противостояние. Любое откладывание этого исходного положения предотвращало начало открытого конфликта между обеими группами держав. До тех пор, пока Германия сражалась, этот конфликт существовал только лишь в скрытой форме. Так что как раз затянутым до последнего сопротивлением Германии предотвращалось то, на что надеялся Гитлер. Расчёты Гитлера на нападение союзников друг на друга были ошибочными — если они действительно имели место. Также нет свидетельств тому, что Гитлер сам действительно верил в обещанную победу в самом конце. Решение Гитлера продолжать войну до крайних пределов можно объяснить также с другой, психологической точки зрения. И в этом объяснении кое-что есть.
В Гитлере существовали эпические черты характера Герострата. В соответствии с заслуживающим доверия источником рейхсмаршал Геринг в августе 1939 года сказал ему: «Мы всё же хотим продолжать играть ва-банк», и тот ответил: «В своей жизни я всегда играл ва-банк». Если это правда, то тем самым он высказал о самом себе истинную правду. Он был человеком, который всегда желал идти на всё и самое масштабное (а в соответствии со своей природой пожалуй даже и вынужден был это делать). В том случае, если он уже не мог возвысить Германию до уровня мировой державы, то тогда он был готов взамен устроить по меньшей мере величайшую катастрофу в немецкой истории. Существуют вполне явные признаки того, что под конец Гитлер осознанно желал этой катастрофы.
Уже в конце 1941 года, когда в первый раз обозначилась возможность поражения, он в частном разговоре с иностранным дипломатом выразился следующим образом: «Если немецкий народ когда-то больше не будет достаточно силен и готов пожертвовать свою кровь для своего существования, то он должен будет исчезнуть и быть уничтоженным другой, более сильной державой. В таком случае я не пролью по немецкому народу ни одной слезы». Высказывание, которое в устах немецкого государственного деятеля воистину является единственным в своём роде.
В конце войны к ужасу многих его соратников Гитлер действительно пытался военное поражение превратить в тотальную гибель немецкого народа.
Существуют знаменитые нероновские приказы от 18 и 19 марта 1945 года, в которых Гитлер приказывал уничтожить все ещё остававшиеся в рейхе ресурсы, даже такие, что были необходимы для выживания населения, прежде чем они попадут в руки противника. Этот приказ довольно успешно саботировался его тогдашним министром вооружений Шпеером. Но для образа мыслей Гитлера этот приказ характерен. Если уж он не может стать творцом величайшей германской победы, то тогда он, очевидно, хотел стать по крайней мере творцом уничтожения Германии.
Гитлер всегда мыслил в категориях уничтожения. Он хотел уничтожить евреев, он хотел уничтожить Советский Союз — теперь он зашел настолько далеко, чтобы так сказать ради произведения исторического фурора также добиться уничтожения Германии. Прямых свидетельств этому найти нельзя, но это можно сделать убедительным из различных засвидетельствованных высказываний Гитлера.
Германия до конца — и если угодно: героически — продолжала сражаться в полностью проигрышной ситуации, создавшейся самое позднее с лета 1944 года, и буквально перемалывалась между армиями и воздушными силами западных держав и Советского Союза. К концу в Германии больше не было неоккупированных областей. Германский вермахт безоговорочно капитулировал; последнее правительство рейха, назначенное Гитлером незадолго до его самоубийства, было арестовано; и три державы — США, СССР и Соединенное Королевство (Франция прибавилась к ним лишь несколько позже) 5-го июня 1945 года объявили себя суверенными правителями в Германии.
О своих зонах оккупации они пришли к единому мнению ранее. Германия в целом стала управляться союзной контрольной комиссией. Она продолжала существовать в этой форме ещё несколько лет, но отныне она была под неограниченными полномочиями иностранных держав, и она должна была распасться в том случае, если четыре державы не будут едины в политике относительно Германии.
Этот распад Германского Рейха, его закат, в 1945 году ещё не произошёл. Тогда ещё три главных оккупационных державы на конференции в Потсдаме пришли к единому мнению о том, что с Германией следует обращаться прежде всего как с экономическим целым, и даже разрешить ей определенное политическое управление под началом их собственного правительства, что правда вызвало тогда протесты французов. Сейчас ещё есть много немцев, которые по этой причине утверждают, что Германский Рейх продолжает своё существование вплоть до наших дней. Но после 1945 года произошло ещё множество больших изменений, и эти изменения нельзя игнорировать. Если рассмотреть их под лупой, то становится ясно, что Германский Рейх сегодня в действительности больше не существует.
История после кончины Германского Рейха
Федеральный Конституционный Суд в 1973 году выдвинул тезис о том, что Германский Рейх всё ещё существует. Он должен — хотя и не будучи более дееспособным — оставаться субъектом международного права. Этот тезис для 1945 года ещё может быть представительным. Однако с 1945 года в истории Германии прошло более 40 лет, которые постоянно уводили всё дальше от призрачного существования Германского Рейха. Сегодня, я полагаю, нельзя серьёзно утверждать, что Германский Рейх существует еще в какой-либо форме, сколь абстрактны бы не были эти утверждения.
В 1945 году ещё можно было говорить об этом, поскольку хотя Германский Рейх перешёл в сферу полномочий четырех держав-победительниц, однако как объект этих полномочий в действительности ещё в определённом смысле продолжал существовать. Существенное изменение 1945 года состояло собственно только в том, что Германский Рейх из субъекта политических событий превратился в объект. Безоговорочная капитуляция произошла только со стороны вермахта. То, что собственно должно было бы стать безоговорочной капитуляцией — формальная передача власти в Германии от правительства рейха в пользу (сначала трёх, позднее четырёх) держав-победительниц — в определенной степени вследствие технических неурядиц не состоялось.
Тем не менее переход власти из германских рук в руки союзников был, даже если он и прошёл не совсем в соответствии с планом. Он произошёл после ареста 23 мая обрубочного правительства Дёница путём одностороннего взятия полной власти в Германии державами-победительницами 5-го июня 1945 года. После этого Германский Рейх продолжал существовать ещё почти три года в качестве объекта держав-победительниц, так сказать как Рейх четырёх держав, под иностранным управлением.
Однако дальнейшее существование этого рейха зависело от того, что победители будут постоянно придерживаться плана управлять Германией как единым целым, а этого не произошло. Как можно было предвидеть, союз, который был антигитлеровской коалицией и удерживался вместе только борьбой с Гитлером, пережил конец этой борьбы всего лишь на три года.
Тем не менее придерживаются точки зрения, что в эти три года произошли определённые урегулирования, которые частично продолжают существовать ещё и сегодня. Под управлением четырёх держав германские земли были разделены на Западные и Восточную зоны; в западных зонах с этой целью даже были основаны новые земли: например Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн. Очевидно, что все эти земли в соответствии с изначальным планом держав-победительниц позже должны были быть объединены в свободную или более тесную федерацию, или конфедерацию, в своего рода Германский Союз. Земли, которые тогда были основаны, с некоторыми изменениями на юго-западе существуют ещё и сегодня в западной части Германии. Это земли, из которых состоит Федеративная Республика. В ГДР земли как административные единицы больше не существуют.
Равным образом в рейх четырех держав вернулись партии, которые сегодня ещё являются правящими партиями в обоих германских государствах. Тогда было прежде всего четыре: коммунистическая, социал-демократическая, либерально-демократическая и христианско-демократическая, которые существовали во всех четырёх зонах. Очевидно, что державы-победительницы и здесь придерживались той точки зрения, что эти партии позже должны будут определять политическую жизнь всей Германии, в какой бы форме она ни была.
В Федеративной Республике все четыре партии имеются вплоть до сегодняшних дней, правда, коммунисты — после временного запрета — только как очень маленькая периферийная партия. В ГДР нет больше социал-демократов. Там правят коммунисты, но существуют также и другие партии, существование которых впрочем мало заметно. Они очень сильно зависимы от коммунистической партии, но всё-таки представлены в Народном Собрании в качестве собственных организаций.
В остальном же от рейха четырёх держав осталось ещё немногое. Потому что история на протяжении трех или четырех лет непосредственно после войны, когда можно ещё говорить об этом рейхе четырёх держав, не стояла на месте. Важные события, которые определяют историю после кончины Германского Рейха, отмечают пункты, в которые рейх каждый раз терял всё больше своей сущности, пока к концу её уже больше не стало. Это годы 1949, 1955, 1961, 1971–1972 и наконец, что для некоторых читателей возможно будет поразительным, 1975 год.
Что произошло в 1949 году? По моему мнению, этот год является самым глубоким переломом в истории после кончины Германского Рейха. Тогда, почти точно через четыре года после окончания Второй мировой войны, были основаны оба государства, в которых сегодня живут немцы: на Западе Федеративная Республика Германия, которая образовалась из объединения трёх западных зон оккупации, и на Востоке ГДР, прежняя советская зона оккупации. Процесс основания не следует описывать здесь подробнее; отметим только следующее.
Основание Федеративной Республики прошло вовсе не без трудностей. Премьер-министры западно-немецких земель затягивали с созывом парламентского совета, который должен был выработать новую конституцию — нынешний основной закон Федеративной Республики. У них были опасения в отношении основания западно-немецкого государства, поскольку было предсказуемо, что такой шаг повлечёт за собой основание восточно-германского государства (что затем беспрепятственно и произошло на Востоке). Выражением этих сдерживающих факторов является многократно дискутировавшаяся преамбула основного закона, в которой отцы-основатели грядущего мира засвидетельствовали, так сказать, что совесть у них нечиста. Они не хотели в действительности воздвигнуть новое, западно-немецкое государство. В своих помыслах они придерживались того, что должно быть восстановлено общегерманское государство, Германский Рейх — и пусть это будет в тесных границах 1945 года. Основатели Федеративной Республики выразили это желание в несколько витиеватой формуле: они действовали также за тех (немцев), которым было отказано в сотрудничестве, и весь германский народ призывался в свободном самоопределении осуществить до конца свои единство и свободу.
Федеральный конституционный суд пожелал из этого сделать двоякий вывод: во-первых, требование об объединении и, во-вторых, утверждение о продолжении существования Германского Рейха. Оба вывода представляются мне чрезмерной интерпретацией.
В преамбуле основного закона никоим образом не написано, что какое бы то ни было будущее правительство Федеративной Республики обязано добиваться объединения Германии. Если бы авторы конституции хотели бы сказать это, то они бы это сказали. Однако в преамбуле основного закона имеется лишь весьма неясный призыв к немецкому народу «завершить» своё объединение и свободу.
Также в ней не написано: несмотря на всё, что мы теперь принуждены совершать, Германский Рейх продолжает своё существование. И это было бы сказано, если бы хотели сказать это. Напротив: в преамбуле даже написано в определённом смысле, что Рейх не продолжает существовать, поскольку он же должен будет быть заново основан («завершён») в неопределённом будущем путём свободного решения немецкого народа.
И собственно говоря, речь не идёт о «Германском Рейхе». Единство Германии должно быть достигнуто свободно; в какой государственной форме, не говорится. Интерпретация, что тем самым может иметься в виду только старый Германский Рейх, по моему мнению выходит за рамки собственно содержания преамбулы Конституции — и она сегодня ещё играет роль во внутренней германской политике. Что же отсюда можно извлечь — это то, что основатели Федеративной Республики в действительности основали на Западе Германии новое государство, и это несомненно.
Федеративная Республика была новым государством. Не только с географической точки зрения она не была основанным заново Германским Рейхом, она не была также фрагментарным остатком этого Рейха. Потому что она произошла из земель, которых частично никогда не существовало в Германском Рейхе; она была основана партиями, самой сильной из которых — ХДС/ХСС[23] — также не было в Германском Рейхе. И Федеративная Республика дала себе Конституцию, которая не была основана ни на Конституции прежнего Германского Рейха, ни Веймарской Республики, а являла собой совершенно новые черты. Это было действительно новое государство, которое возникло тогда.
И равным образом было новым государство, возникшее в советской зоне оккупации. Это не требует подробного обоснования, потому что это государство с самого начала не имело какого-либо сходства ни с одной из государственных форм Германского Рейха и также не утверждало, что оно является продолжателем Германского Рейха в какой-либо форме.
Это не предотвращало того, что оба новых германских государства, как одно, так и другое, субъективно ощущали себя центрами будущего восстановленного и полного германского национального государства и также отчётливо давали это понять. ГДР представляла тогда ту точку зрения, что западное государство является «раскольническим государством»; а Федеративная Республика выражала намерение посредством притягательного действия своего большего благосостояния и своей большей свободы постепенно перетянуть на свою сторону немцев из ГДР, и таким образом достичь своего рода воссоединения. Это вовсе не было нереалистичной мыслью, потому что ведь в действительности было большая миграция из ГДР на запад в Федеративную Республику: в годы с 1949 до 1961 ГДР потеряла миллионы людей. Однако это не нанесло ущерба её существованию как государства.
Тем не менее была промежуточная ситуация, в которой ещё раз в политической закулисной игре всплыла возможность воссоединения обоих германских государств. В марте 1952 года Сталин предложил трём западным державам ещё раз сделать обратимым раздельные основания государств. Германия посредством свободных выборов должна была быть воссоединена до границы по Одеру-Нейссе. Общегерманскому правительству следовало предложить мирный договор, по которому ему будет полагаться собственная армия; все оккупационные силы в течение одного года должны были бы уйти из своих зон, и — теперь самое главное — державы-победительницы должны были взять на себя обязательство не заключать с Германией никаких союзов, в то время как Германия со своей стороны должна была обязаться не искать таких союзов. Таким образом предложение означало: воссоединение в обмен на нейтрализацию.
Это предложение тем не менее дискутировалось на протяжении трёх лет, однажды — в Берлине в 1954 году — обсуждалось также министрами иностранных дел четырёх держав. Разумеется, с самого начала оно рассматривалось западными державами с большим недоверием, особенно Америкой. И что интересно, оно также было мгновенно отвергнуто тогдашним правительством ФРГ. Хотя против этой позиции правительства Аденауэра в Федеративной Республике была определённая национальная германская оппозиция, в основном в публицистическом секторе, но и она была лишь невыразительной. Следовало по меньшей мере «взвесить» предложение русских, примерно такой была суть позиции социал-демократической партии по этому вопросу. Однако эта точка зрения не прошла, и выборы 1953 и 1957 гг. с большим перевесом засвидетельствовали для Аденауэра, что первого бундесканцлера с его недоверчивой политикой в отношении Советского Союза поддерживает большинство населения, во всяком случае западных немцев — а возможно и восточных немцев. Даже если это было за счёт воссоединения.
Поскольку насчёт «мартовской ноты» 1952 года в Германии не было принято решения, это в последнюю очередь было делом союзников. И хотя западные державы под руководством Соединенных Штатов были готовы согласиться с воссоединением Германии, однако нейтрализация Германии — к которой ведь Сталин в основном и клонил дело — ни при каких обстоятельствах не была для них в повестке дня. И именно, насколько можно ретроспективно осознать, по понятным причинам.
Нейтрализация Германии означала бы, что НАТО на европейском континенте в качестве опорного пункта в основном сохранила бы только Францию. Это было бы и тогда едва ли терпимо, если бы Франция впоследствии при Де Голле не вышла из военной организации НАТО. При данных обстоятельствах однако нейтрализация Германии в длительной перспективе привела бы к уходу американцев из Европы, а это в свою очередь повлекло бы за собой господство Советского Союза на всём континенте, единственно вследствие его могущества.
В этом отношении, пожалуй, задним числом скажут — в том числе и если тогда придерживались другого мнения, как я — что политика Даллеса и Аденауэра отклонить предложение Сталина имела под собой веские основания. Однако, по хорошим или плохим основаниям, факт таков, что это советское предложение, предпочтительное для Москвы с силовой точки зрения и потому вероятно вполне искреннее, было отклонено. И Советы не настаивали на его осуществлении, а напротив, были явно готовы к тому, чтобы разделению Германии 1949 года отныне придать окончательный характер, а ГДР настолько прочно встроить в свою союзническую систему, как это уже намеревались сделать западные державы с Федеративной Республикой, а в 1955 году и сделали.
По этой причине 1955 год — это вторая важная дата в пост-истории Германии, истории исчезновения Германского Рейха. В 1949 году произошло основание обоих новых германских государств. В 1955 году разделение было сцементировано посредством их включения в противостоящие, очень прочные союзы и военные организации.
Однако и после 1955 года в Федеративной Республике ещё многие годы оставалась надежда на то, что произойдёт воссоединение, и именно в смысле ликвидации ГДР и её включения в Федеративную Республику. Единственным реальным основанием, которое ещё имела эта надежда, было положение Берлина, который всё еще был открытой зоной под управлением четырех держав и тем самым образовывал шлюз для движения населения из ГДР в Федеративную Республику, которое было в полном разгаре в течение всех пятидесятых. Разумеется, можно было предвидеть, что восточная сторона не будет долго мириться с таким положением дел.
Если бы действительно хотели строить свои надежды на Берлине, то тогда следовало бы на Западе своевременно подумать на ту тему, как рационально защитить это слабое место. Потому что то, что однажды оно будет подвергнуто нападению, можно было предвидеть. Это нападение произошло в период Берлинского кризиса с 1958 до 1961 года, и выявилось, что защита на Западе не планировалась. К этому добавилось вот ещё что: как раз в эти годы Берлинского кризиса между 1958 и 1961 гг. сложилось то, что с тех пор определяло отношения обеих великих держав и их блоков, а именно так называемый атомный пат. До тех пор существовало явное преимущество Америки в области оружия уничтожения нового типа. Тем временем русские ликвидировали отставание. Теперь и они обладали возможностью атаковать Америку посредством ракет с атомными боеголовками. Неожиданно обе державы, Америка и Россия, были парализованы этой новой ситуацией взаимной угрозы уничтожения. Они обе не могли больше позволить себе войну против друг друга. На этом фоне разыгрывалась проба сил вокруг Берлина, которая в 1961 году в конце концов нашла своё решение путём строительства Берлинской стены и происшедшим вследствие этого закрытием Берлинского шлюза для бегства.
Поэтому 1961 год является третьей значительной датой в пост-истории Германского Рейха. Тогда, несмотря на основание двух германских государств, была устранена последняя надежда на общее государство, а именно западное государство. С 1961 года было ясно, что существование обоих германских государств более не может быть поколеблено, и что также оно не должно серьёзно подвергаться подрыву со стороны великих держав. Впредь у немцев не было больше никаких надежд на то, что до того они называли воссоединением. Отныне каждая попытка сделать немецкие отношения более переносимыми могла состоять только в том, чтобы изменить к лучшему отношения между обоими более не упраздняемыми новыми германскими государствами. Осознание этого потребовало в Федеративной Республике ещё почти 10 лет, пока оно не стало правительственной политикой, и даже тогда «новой восточной политике» потребовалось ещё целое десятилетие, чтобы встать так сказать на ноги, подобно как некогда Веймарской республике: только правительство социально-либеральной коалиции, которое пришло к власти в 1969 году, признало себя ответственным за неё. Христианско-демократическая оппозиция не голосовала в 1972 году за ратификацию восточных договоров и упорствовала в отклонении до тех пор, пока сама не пришла снова в правительство в 1982 году. Лишь в восьмидесятые годы она стала поддерживать восточную политику своих предшественников во имя непрерывности.
Своё выражение эта новая Восточная политика нашла в заключённых в 1970 году московском и варшавском договорах и — в связи с нашей темой самое важное — в так называемом «Договоре об основах отношений» между Федеративной Республикой и ГДР от 1972 года, в котором обе признавались суверенными государствами; правда без рассмотрения того, что в преамбуле к договору было названо «национальным вопросом».
Этим договорам тогдашнего федерального правительства Вилли Брандта соответствовал ещё один, очень важный договор, заключённый в сентябре 1971 года между четырьмя державами. В этом соглашении четырёх держав чрезвычайно аккуратно сформулированным, сознательно различно интерпретируемым образом был прагматично урегулирован последний ещё исключительно от них зависевший вопрос в Германии, а именно статус Берлина.
Значение соглашения по Берлину для общегерманской проблематики состояло в том, что четыре всё ещё ответственные за Берлин державы положение в Берлине приспособили к признанному теперь прочным существованию двух германских государств. Это было сделано в чрезвычайно тонко сбалансированном тексте договора. Для повседневной жизни его жителей с того времени Восточный Берлин является столицей ГДР, Западный Берлин — эксклавом Федеративной Республики с определенными особенностями. Юридически же с советской точки зрения Западный Берлин остаётся особой областью под главенством трёх западных держав, с точки зрения этих трёх держав весь Берлин — особой областью под ответственностью четырёх держав. Никакая из четырёх держав — в том числе и западные державы — не рассматривала Западный Берлин в качестве составной части Федеративной Республики. Все четыре — в том числе и Советский Союз — выразили своё согласие не только с состоянием своих отношений (связей?) с Федеративной Республикой, но и высказались за их развитие. Берлинское соглашение с политической точки зрения во всяком случае означало, что Советский Союз и западные державы едины в том, что не следует — больше не следует — подвергать свои правовые позиции пробе с позиции силы. Что несомненно облегчало жизнь в разделённом городе. Можно сказать, что тот рейх четырёх держав, который возник вследствие Второй мировой войны и просуществовал три года, ужался до последнего остатка в Берлине. Посредством Берлинского соглашения 1971 года этот остаток был неким способом заключён в капсулу и стерилизован, чтобы в будущем из него не могли бы выйти ни общегерманские осложнения, ни общегерманские столкновения. Такова была позиция четырёх держав.
Однако позиции обоих германских государств по отношению друг к другу в начале семидесятых годов различались. С заключением договора об основах отношений 1972 года Федеративная Республика отказалась от сохранявшегося до того непризнания ГДР, а также от выставлявшихся до того притязаний правительства ФРГ на представительство всей Германии, и проявило готовность отныне — при определённых оговорках — осуществлять с ГДР межгосударственные сношения. Годом позже за этим последовало вступление обоих германских государств в Организацию Объединенных Наций. Это тоже является событием часто недооцениваемого значения, потому что тем самым оба германских государства были впервые признаны в качестве субъектов международного права всеми государствами мира. С тех пор оба они вращаются в обществе Объединённых Наций как любое другое суверенное государство.
В заключение как последнее значительное событие в этой цепочке последовала Хельсинкская конференция, которая длилась с 1971 по 1975 год. Все без исключения европейские страны, включая Советский Союз, США и Канаду — то есть всё НАТО, весь Варшавский пакт и все европейские нейтральные страны — приняли участие в этой величайшей в послевоенной истории международной конференции. В Хельсинки было выработано и подписано нечто вроде европейского мирного урегулирования, что можно сравнить с Венским заключительным актом 1816 года.
В первой части Заключительного Хельсинкского Акта — который в нашем случае является наиболее значительным — все эти 35 государств признали друг друга в качестве равноправных, суверенных государств и гарантировали, что не будут вмешиваться во внутренние дела других подписавших договор государств. Тем самым в Европе было установлено признанное всеми политически нормальное и мирное состояние. Это естественно касалось также Федеративной Республики и ГДР. О каком-либо восстановлении Германского Рейха или даже только о будущем объединении германских государств в Заключительном Хельсинкском Акте больше речи не было. И тем самым тридцатилетний процесс, в котором с 1945 года медленно умирал Германский Рейх, можно было рассматривать как завершённый.
С 1975 года в этом отношении изменилось не много. В отношениях между обоими германскими государствами речь идёт открыто не о воссоединении, но о дальнейшем осторожном улучшении и нормализации внутригерманских отношений, которые ещё далеки от завершения.
Мы бы хотели приостановиться на этом месте и поставить вопрос, существует ли перспектива того, что в обозримом будущем что-то может измениться в этой ситуации. Предлагает ли сегодняшнее положение отправную точку для предположения, что нечто подобное русскому предложению о воссоединении и нейтрализации 1952 года еще раз может стать конкретным? Если трезво рассмотреть действительное положение, то ответ звучит так: нет.
В 1952 году отношения обеих сверхдержав ещё не прерывались. Ещё не вполне было решено, сможет ли сотрудничество военных лет всё же ещё раз возобновиться или же останется конфронтация, которая последовала после окончания войны. Между тем однако является несомненным, что эта конфронтация, в напряженном или же в ослабленном состоянии, становится длительной. И это будет оставаться так по меньшей мере столь долго, сколь долго атомное равновесие ужаса сохраняется и предотвращает разрешение этой конфронтации путём войны. Потому что на такую войну, которая для обеих сверхдержав означала бы верное уничтожение, не может рискнуть ни одна из них. Тем самым их свободе маневрирования устанавливаются очень тесные границы, и именно в особенности там, где позже с 1975 года всё урегулировано и закреплено: в Европе и как раз в Германии. Каждый шаг отступления, который бы здесь произвела одна из сверхдержав, стал бы означать шаг вперед другой. По этой причине обе они не могли двигаться.
С 1952 года изменилось ещё кое-что. Тогда ГДР для Советского Союза и его системы союзничества в Восточной Европе была ещё вполне излишней, ГДР ещё образовывала для Москвы дипломатическую массу для маневрирования, некий гарантийный залог. Если бы Америка ушла из континентальной Европы (что тогда еще казалось вполне возможным), то советская зона влияния вероятно стала бы не только устойчивой, но даже ещё и способной к расширению, причём и без ГДР. Сегодня же ГДР в свете стремлений к независимости в Восточном блоке, в особенности в Польше, стала для Советского Союза незаменимой. Естественно, что эти отношения и в обратном направлении верны тем более: для ГДР защитный союз с Советским Союзом всегда был безусловно необходимым.
Можно нечто подобное сказать об отношениях между Соединёнными Штатами и Федеративной Республикой. В 1952 году возможно ещё можно было бы представить себе уменьшенное НАТО, в котором американцы удерживали бы только узкий европейский плацдарм во Франции. Всё же после выхода Франции из военной организации НАТО и её устремлений вести великодержавную политику как некогда, потеря Федеративной Республики означала бы конец НАТО, во всяком случае, поскольку это касается континентальной Европы. Отсюда и Федеративная Республика сегодня стала для Соединенных Штатов незаменимой. И это тоже имеет значение в обратном направлении. Без защитного союза с Соединёнными Штатами не имеющая атомного оружия Федеративная Республика осталась бы беззащитной перед силовым давлением или силой засасывания восточного блока с его атомным оружием.
Другими словами: между обоими германскими государствами и их соответствующими державами-основательницами сегодня существуют гораздо более тесные и прочные отношения, чем во время их основания. Вырваться из этих взаимных обязательств, даже если бы и хотели этого, сегодня едва ли уже возможно.
Во многих кругах Федеративной Республики всё ещё поддерживается иллюзия, что советское предложение, такое же как в 1952 году, если бы оно сейчас было сделано ещё раз, нашло бы совсем иной отклик, чем тогда, что сегодня оно было бы принято с распростёртыми объятиями. Это не так. Возможно, что нейтралитет для самих немцев был бы более приемлемым, поскольку объединённая Германия сегодня, иначе, чем тогда, снова была бы воспринимаемой серьёзно экономической силой. Однако тем менее могли бы с этим примириться обе сверхдержавы и их союзнические системы. И если рассмотреть этот вопрос пристально, то тогда воссоединение и для обоих германских государств больше не выходит на повестку дня — не по причинам настроения, а по сильным политическим причинам.
Соединение обоих германских государств с обеими большими системами союзов — которые обладают гораздо большим весом, чем европейские союзы времен Бисмарка, поскольку они не только имеют прочные военные организации, но и, как почти что можно выразиться, представляют великие империи — это соединение с течением времени стало всё более тесным, и тем самым перспектива восстановления — или основания заново — общегерманского государства, нового Германского Рейха, в конце концов исчезла.
Но рассмотрим вопрос ещё и с другой точки зрения, а именно с европейской. Иногда речь идёт о том, что раскол Германии совпадает с расколом Европы, что повсюду в Европе снова проявляются национальные устремления к независимости — как на Востоке, так и на Западе — и что «европеизация Европы» в среднесрочной перспективе может и должна привести к объединению Германии.
Однако если мы посмотрим, как интересы европейских соседей обоих нынешних германских государств соотносятся с этим ожидаемым многими немцами воссоединением, то тогда встретимся с ошеломляющим фактом: ни на Западе, ни на Востоке нет ни одного европейского государства, которое такого воссоединения желает или же всего лишь могло бы его охотно принять.
У всех европейских государств с прежним Германским Рейхом был плохой, а многократно и ужасный опыт взаимоотношений. И особенно в обоих самых важных соседних государствах, во Франции и в Польше, сразу же зазвенели бы все тревожные колокола, если бы между ними снова образовался новый сильный 80-миллионный сосед. То, о чём в 1984 году проболтался министр иностранных дел Италии Андреотти, добрый друг Федеративной Республики («Существуют два германских государства, и два и должно оставаться»), очень точно отражает внутренние установки всех европейских соседей Германии.
И наконец: как же вообще могло бы выглядеть воссоединение обоих германских государств, какими они развились за 40 лет и какими они сегодня являются? Странным образом наше воображение отказывается это представить. Воссоединение такого вида, что одно из германских государств исчезнет и возникнет в другом, как раз ещё можно мысленно нарисовать. Правда, этому предшествовала бы война, и воссоединение такого вида при нынешних условиях пожалуй могло бы произойти только в братской могиле. Однако воссоединение, в котором оба германских государства, такие как они теперь есть и стали, сплавились бы в одно функционирующее государство, невозможно представить, даже теоретически.
История последних 42 лет уводит всё дальше от Германского Рейха. От похожего на призрак существования в качестве объекта четырёх держав-победительниц, которое у него было ещё в 1945 году, шаг за шагом оно прошло до полного несуществования, до невозможности возобновления. Ретроспективный взгляд на его историю ставит вопрос, действительно ли стоит об этом сожалеть. Эта история со всеми её деяниями и недугами, надломами и ужасами впрочем только лишь вдвое длиннее временного расстояния, отделяющего нас сегодня от неё. И это расстояние из года в год увеличивается.
Возраст и болезни причина того, что я не мог более эту книгу, плод многолетних исследований и свидетельств десятилетий, оформить в упорядоченную рукопись. Мой друг профессор Арнульф Баринг пришел мне на помощь. Он и его студент Фолькер Застров за одиннадцать долгих сессий устно прочитали передо мной одиннадцать глав книги и в заключение их обсудили. Дискуссии по желанию Баринга должны остаться приватными. При помощи подготовленных фрау Гундой Эрнст магнитофонных записей Фолькер Застров усердно обработал мои возражения против. Не искажая содержания, он устранил все повторы, неряшливые выражения и языковые шероховатости, которые неминуемо проскакивали при моём устном изложении, и лишь таким образом подготовил удобочитаемый текст. Этот текст я со своей стороны ещё раз основательно переработал и многократно дополнил либо заменил. Результатом является предлагаемая книга. Я опасаюсь того, что несмотря на всё это будет заметно, что она исходно была создана в устной форме, а не написана.
Благодарности принадлежат почти к каждой исторической книге. Благодарность, которой я обязан Арнульфу Барингу и Фолькеру Зстрову, имеет совершенно иное измерение: без их «родовспоможения» (формулировка Баринга) эта книга решительно не могла бы существовать. Несмотря на это, хочешь-не хочешь, а это моя книга. Оба моих акушера не несут никакой ответственности ни за что сказанное в ней или — часто умышленно — оставшееся несказанным. А все ошибки, недостатки и слабости полностью ложатся на мои плечи.
Берлин, август 1987 г., С.Х.
Эта книга появилась в Германии в 1987 году и в своих заключительных выводах кажется противоречащей событиям 1990 года. Я не предвидел эти события, не говоря уже о том, чтобы ожидать их, и также я не знаю никого другого, кто в 1987 году их предвидел или ожидал. Я вспоминаю о том, что в 1987 году Председатель Государственного Совета ГДР был принят в Бонне со всеми приличествующими главе государства почестями тем же бундесканцлером, который в 1990 году добился вступления ГДР в Федеративную Республику.
Разумеется, сегодня нельзя более, как это сделал я в 1987 году, рассматривать Германский Рейх как через подзорную трубу. Напротив, следует серьёзно спросить себя, не находится ли он снова среди нас, пусть даже под другими государственными наименованиями. Наглядное предостережение того, сколь мало позволяет история предсказать себя на короткую перспективу — возможно как раз на короткую перспективу. Несмотря на это, я отваживаюсь на то, чтобы представить публике свою книгу все-таки в неизмененном виде. Для этого у меня есть две причины:
Первая причина в том, что как раз неожиданное восстановление германского 80-миллионного колосса, если уж оно должно было произойти, предлагает повод для того, чтобы как можно яснее вызвать в мыслях историю его изменений от Бисмарка к Гитлеру. Эта история остаётся тем, что она есть, и её урок того, что Германия в мире очень быстро может показать совершенно изменившийся облик, актуальнее, чем когда бы то ни было.
Вторая причина именно та, что история и в 1990 году всё ещё остаётся непредсказуемой — также как раз в краткосрочной перспективе. Праздничные речи в Германии и заголовки к 3 октября 1990 говорили о германском единстве так, как будто оно с этого дня «завершено». Но в действительности новое германское единство не совсем еще завершено. Оно пока что только лишь формальное слияние богатых и бедных обществ, как раз в 1990 году отброшенных на совершенно новый уровень безработицы. ГДР всё еще существует, даже если она в 1990 году вошла в Федеративную Республику. Но она не является больше экономически умеренно процветающей, государственно во всяком случае как-то функционировавшей ГДР образца 1987 года. Она — экономически разрушенная, государственно уничтоженная страна. Или Федеративная Республика сможет (и захочет) эту свою новую составную часть вытащить из руин, созданных менее чем за двенадцать месяцев, или она тем самым надорвётся и сама как раз будет втянута в руины ГДР — остаётся открытым вопросом. По меньшей мере настолько же открытым, как по боннским языковым нормам всегда был «германский вопрос». Возможно это даже, во всяком случае — прежде всего — новый «германский вопрос».
1
Шмалькальденская война, 1546–48, между императором «Священной Римской империи» Карлом V, стремившимся восстановить в Германии католицизм, и протестантским Шмалькальденским союзом (здесь и далее по тексту примечания переводчика).
2
«Паульскирхе», церковь святого Павла во Франкфурте на Майне, в период буржуазной революции 1848 года служила местом заседаний избранного демократическим образом Национального Собрания.
3
Последний довод, решающий довод: последнее средство, крайняя мера (латинский язык). В дипломатии под ultima ratio понимается разрыв дипломатических отношений и, в качестве крайней меры, война.
4
Кондоминиум — в государственном праве совладение, т. е. совместное осуществление верховной власти над одной и той же территорией двумя или более государствами.
5
Имеется в виду, конечно, парламент Германского Союза (Deutsche Bund — отсюда и «бундестаг»).
6
С тех пор в немецком языке применяется сокращение: k.u.k. (kaiserlich und königlich) — т. е. императорский и королевский (в Австро-Венгерской монархии относящийся и к Австрии, и к Венгрии).
7
Ультрамонтанский — признающий неограниченное право вмешательства папы в дела католических государств.
8
Германская Восточная Африка, название бывшей германской колонии в Вост. Африке. В состав Г. В. А. входили территории Бурунди, Руанды и б. ч. Танзании (Танганьика).
9
Намибия, до 1968 года — Юго-Западная Африка.
10
Область на юге полуострова Шандонг на восточном побережье Китая; приобретена в аренду в основном с целью создания базы для военно-морского флота Германии. В Первую мировую войну гарнизон капитулировал в ноябре 1914 года и Киачу перешло под управление Японии.
11
В оригинале «Entente cordiale», («сердечное согласие») — отсюда происхождение слова «Антанта».
12
Бланковый чек (подписанный чек, в котором не проставлена сумма).
13
Утверждение нацистов, будто Германия проиграла первую мировую войну вследствие революции.
14
«Союз Спартака» («Spartakusbund»), революционная организация немецких левых социал-демократов.
15
«Аншлюс» (Anschluß) в немецком языке означает присоединение и множество родственных понятий.
16
Превышение расходов над доходами.
17
Название получило по именам главных лиц, подписавших это соглашение: промышленника из Рура Гуго Штиннеса и председателя Генеральной комиссии германских профсоюзов Карла Легиена.
18
Название журнала переводится как «действие; деяние».
19
СА (SA = Sturmabteilungen) нацистские штурмовые отряды, отряды штурмовиков («штурмовые отряды» — в фашистской Германии).
20
der OSAF = Oberste SA-Führer, верховный вождь СА.
21
SS = Schutzstaffeln: СС = эсэсовские отряды (буквально: «охранные отряды» — в фашистской Германии).
22
«Антис» — от слова «анти-», т. е. «против».
23
Christlich-Demokratische Union, ХДС = Христианско-демократический союз (ФРГ); Christlich-Soziale Union, ХСС = Христианско-социальный союз (партия в Баварии).